Текст книги "Связанный гнев"
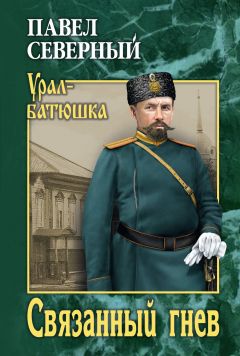
Автор книги: Павел Северный
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
– Мы рады этому, Калерия Владимировна, – сказали сестры.
– Итак, я актриса. До осени прошлого года состояла в труппе Александринского театра. Неожиданно был арестован мой брат, известный столичный адвокат. Арестован и обвинен в причастности к революционной деятельности. И это оказалось неопровержимой правдой. Но в нашей семье никто даже не мог предполагать, что в ней есть революционер да еще связанный чуть ли не дружбой с присяжным поверенным Ульяновым, ныне крупным революционером Лениным. Брат был по характеру странным. Закоренелый холостяк. Жил замкнуто, отдельно от всех нас. Арест последовал после того, как охранке стало известно, что Ленин перед отъездом из Питера в Финляндию в 1906 году несколько дней скрывался в петербургской квартире брата. Следствие выяснило, что брат уже давно был в партии, до пятого года. Несколько раз выезжал за границу, выполняя поручения Ленина, а нам, его близким, и в голову не могло прийти, чтобы задуматься о причинах его заграничных поездок.
– Брата уже судили? – спросила Надежда Степановна.
– До суда брат не дожил.
– Что случилось?
– По официальной версии, Ольга Степановна, он якобы покончил жизнь самоубийством. Сделал это будто бы из опасения, чтобы не раскрыть тайны своей подпольной работы. Но есть и иные данные. А именно, что брата убили на допросе, а чтобы замести следы преступления, инсценировали самоубийство.
– После смерти вы его видели?
– Нет, Надежда Степановна, из родственников никто к нему не был допущен.
Глинская, снова встав, заходила по комнате.
– Естественно, что после всего происшедшего администрация императорских театров перед началом сезона почти вежливо, но категорично дала мне совет оставить труппу театра и временно покинуть столицу. Что я и сделала.
– А ваша личная семья?
– У меня ее никогда не было. Правда, был около меня человек, казавшийся мне близким, но он поспешил после случившегося от меня отмежеваться, ибо это могло нанести ущерб его государственной карьере. Вот, пожалуй, и вся моя правда жизни с осени прошлого года… Хорошо у вас здесь. Даже шум дождя успокаивает личную тревогу. А там… Тревожное время в стране. Россия седьмой год нового века живет вздыбленно со всем многовековым государственным величием, утвержденным мужеством героического и терпеливого народа. В стране звучат напевы: «Вихри враждебные веют над нами». То тут, то там в руках рабочих взлетают крылья красных знамен. Рабочий класс прислушивается к революционным призывам большевиков, осмелев от уверенности Ленина о неминуемом свершении в России революции. У всех в памяти эхо революционного набата 1905 года, несмотря на то что в государстве бродит разгул реакции и везде верещат трели полицейских свистков.
– Здесь они тоже верещат, Калерия. Вы их еще услышите, – сказал доктор Пургин, раскуривая трубку.
– Уже слышала на вокзале в день приезда.
– Уральские рабочие держат ногу с рабочими всей России, – продолжал Пургин.
– Но в их походке присущий только им разлет шага. Обучены этому разлету веками горно-заводского крепостничества. Суровый спор с царским самовластием уральцы по своему почину начали в 1903 году, запалив костры рабочего гнева именно здесь, в Златоусте. Пути всех своих революционных схваток уральцы полили обильной кровью. Все это я видел своими глазами на заводах и приисках, залечивая раны восставших под стукоток казачьих коней, исковырявших шипами подков все уральские большаки и проселки. Здесь, Калерия, все творится по-уральски, ибо обитатели края также делятся на сословия угнетенных и угнетателей.
– Россия, Дмитрий Павлович, на новом историческом распутии.
– А что, если за этим распутьем новое смутное время? – спросила Койранская, и, не дождавшись ответа, задала новый вопрос: – Скажите, Калерия Владимировна, действительно ли император покинул Петербург?
– Да, он в Царском Селе. Всю полноту власти доверил Столыпину. Хотя ходят слухи, что право скреплять своей подписью смертные приговоры все же оставил себе, чтобы не скучать среди анфилад дворца. Самодержцу в столице стало неуютно. Хотя молва приближенных к трону уверяет, что царь во всех окровавленных событиях, преследующих его царствие с Ходынского поля, наивно старается усматривать только мистические знамения, уготованные Всевышним для его царствования. Я даже слышала, что у царя хорошая память. Он помнит, как его родитель, готовя сына на престол в стране, населенной русским и другими народами, уверял его, что всякая революционная блажь рабочих уже задушена и сын может царствовать спокойно, уповая на Господа и его церковь. Но мне кажется, что теперь Николай Второй ежедневно убеждается, что самоуверенность родителя была слишком преждевременна и опрометчива, и ему приходится вспоминать иные родительские советы, а именно: что, пребывая на престоле, сберегая незыблемость монархии, он должен неизменно помнить о недюжинной мудрости русского простолюдина и, главное, не забывать об его фанатичном стремлении к свободе. Самонадеянный Столыпин обещает царю выжечь в империи последние корни революционной надежды рабочих о свободе. Столыпин обещает царю покой, но Россия, наперекор его посулам, пребывает в тревоге от смутных ожиданий, грядущих порывом связанного гнева. Повторяю, Россия на историческом распутьи. Вас, конечно, мои суждения удивляют. Но для меня они естественны, ибо пролитая людская кровь девятого января заставила и меня задуматься о всем происходящем в стране. Задуматься и кое-что осмыслить в происходивших недавних революционных событиях. Но, к сожалению, я также политически безграмотна, но не боюсь признаться, что все мои сознательные симпатии на стороне всех тех, кого пули Трепова лишили жизни на их пути к царю за жизненной справедливостью. Надеюсь, что после всего сказанного, дорогие хозяйки, вам вполне ясна моя биография, а услышанное не лишит меня вашего гостеприимства.
– Зачем говорите так, Калерия Владимировна?
– Чтобы между нами, Надежда Степановна, не было никаких туманностей. Ибо мне нужно найти покой для сознания, чтобы продолжать жизнь актрисы, но уже с совершенно иными устремлениями.
– Успокойтесь, Калерия, – почти шепотом попросил Пургин.
– Просите успокоиться, но ведь и вас сказанное мною взволновало. Разве не так? Разве судьба народов России также и не наша судьба? И может быть, действительно заботы о будущей судьбе России в руках рабочих и пахарей. Все так непостижимо сложно, да и не может быть иначе в такой великой стране.
Замолчав, Глинская ходила по комнате.
3
Ольга Койранская уже неделю жила на Дарованном. Приехала вместе с Софьей Сучковой после того, как их познакомил Новосильцев.
Софья Тимофеевна с Лукой Пестовым навещали свои промыслы, а Койранская бродила по Дарованному, делала зарисовки с работавших женщин. Работа ее увлекала своей необычностью всей обстановки, да и лица женщин сами просились под карандаш.
В это утро Софья раньше обычного уехала с Пестовым и Бородкиным на новый промысел по соседству с Дарованным. Разведка на нем увенчалась отыском жильного золота, а потому необходимо было спешно начинать работы по его оборудованию.
Койранская, приведя в порядок зарисовки, сделанные накануне после полудня, отправилась на новое место к реке, где на плотах женщины поднимали пахарями со дна речнину. Пойти туда ее заставило любопытство, ибо вчера за ужином Пестов много рассказывал о молодой вдове Людмиле Косаревой.
Идя берегом среди работавших старательниц, она остановилась около пожилой женщины с лицом, исчерченным мелкими сеточными морщинами. Среди его дряблых мышц из глубоких подглазниц смотрели молодые, ласковые глаза, казавшиеся такими чужими на этом лице с печатями всех пережитых горестей. Женщина, тихонько напевая, тяжелой лопатой из куч нагребала песок в тачки.
Койранская поклонилась ей, а она, сконфуженная вниманием, отвесила низкий поклон, вытерла ладонью потное лицо и спросила:
– Видать, прогуливаетесь? Денек сегодня во всю мочь погожий.
– Давно здесь работаете?
– И не спрашивайте. Объявилась молодухой, а, глядя на меня, сами понимаете, что в старость себя на песках обрядила. Робить на Дарованном зачала еще при живом Тимофее Сучкове. Пестова Луку молодым мужиком повидала. Пришла на это место с мужем. Да только он меня малость обманул. Ране меня помер, царство ему небесное. Сердцем мужик отродясь был слабоват, а наша работа возле золотишка злая на потребность ручной силы.
– Звать вас как?
– Раньше Марусей звали, а теперь чаще норовят кликать по отчеству Кондратьевной.
– Можете, Мария Кондратьевна, немножко спокойно посидеть?
– Когда?
– Сейчас.
– Отчего не посидеть.
– Позволите мне нарисовать вас?
– Да чего говорите? Эдакую страхолюдную старуху?
– Глаза у вас удивительные.
– Да будет вам, барышня, пустое говорить. Полуслепые они у меня.
– Но ласковые.
Кондратьевна глубоко вздохнула:
– Приметили, стало быть? Это от того в них ласка, что во мне нет ни на кого злобы. Жизнь моя вроде бы и не задалась, как следует, а все одно за это не обозлилась ни на кого. Родная матушка меня такой выпестовала. Наказывала в любом горе для себя радость отыскивать. Поди, не понятен вам мой высказ?
Кондратьевна, замолчав, вытерла руки фартуком. Села на тачку, груженную песком.
– Сами, барышня, на тот чурбашик присядьте. Мысль моя в вы– сказе про то, что у всякого человека в жизни своя тропа водится, и он должен отыскать разумом такое понятие, как правильно ее утоптать, чтобы не спотыкаться. С покойным мужем нашу тропку не ленилась притаптывать. Жилось нам возле чужого золота не больно сытно, но не совсем голодно.
– Дети есть?
Кондратьевна ответила не сразу. Она задумалась, ушла вдаль взглядом, притушив в глазах ласковость.
– Сынок был. Вовсе недавно в солдатах от какой-то болести в одночасье жизнь окончил.
Койранская, сидя на чурке, рисовала Кондратьевну, а та, видя, не протестовала.
– Егорушку своего любила. Да и как матери не любить, ежели им единственным наградила меня судьба. Наградить наградила, да не позабыла навек разлучить.
Постепенно возле песчаных куч, около Койранской и Кондратьевны, начали собираться женщины и девушки. Ставили пустые тачки, а сами с любопытством смотрели то на художницу, то на старательницу.
– Одиношность, барышня, в любой жизни не легкая доля. Посему и мочалюсь возле песков. В труде норовлю позабыть про свою горемычную одиношность. Мужа мне жалко, но сынка жалею шибче. Потому ему по всем мужичьим статьям жить да жить. Хворого в солдаты не возьмут, а ведь его в гвардию определили.
Койранская вздрогнула, когда за ее спиной раздался громкий окрик:
– Чего сгрудились, как перепуганные овечки? Робить кто за вас станет? И Кондратьевна расселась. Чего ты?
– Погодь, Люба, криком пески пужать. Видишь, с гостьей беседую. Видишь, срисовывают меня. Аль все пески перемыли?
Койранская увидела перед собой молодую женщину с гордой посадкой головы. На ней ситцевый сарафан, на котором на голубом фоне кинуты пунцовые маки.
– Здравствуйте! Я попросила Марию Кондратьевну попозировать.
– Поняла, когда разглядела. За шум извините! На нашей работе с бабами без крика ни на шаг. Да ведь и рявкнула в шутку. Извиняйте!
Кто-то из женщин, стоявших возле тачек, недовольно вымолвил:
– Косарева она и есть Косарева. Хайлать умеет.
– Вы Людмила Косарева? – спросила обрадованно Койранская.
– Выходит, так. Потому в паспорте ей прописана.
– Я от Луки Пестова слышала о вас.
– Поди, ругал?
– Нет. Но рассказывал о вас забавно.
– Он на это старичок дошлый.
Косарева, подойдя ближе к Койранской, бесцеремонно нагнувшись, рассматривала рисунок.
– На бумаге, Кондратьевна, ты похожа.
– Люда, не бубни барышне под руку.
– Пускай говорит, я не суеверная, – смеясь, сказала Койранская.
– И до чего же ты похожа. Дозвольте и подружкам взглянуть, – попросила Косарева.
– Пожалуйста, – ответила Койранская, продолжая рисовать.
Женщины и девушки начали подходить к художнице и, окружив ее, рассматривали лист бумаги, на котором все более отчетливо появлялось лицо Кондратьевны.
Было тихо. С противоположного берега слышалась кукушачья перекличка.
– Спасибо, Мария Кондратьевна!
– За что благодарите, барышня? Дозвольте и мне поглядеть.
Койранская, встав, подошла и показала рисунок.
– А и то правда, что я. Глядите, бабы, и вовсе не такая страшная, какой себя в зеркале углядываю.
– Ты ладом гляди, как твои очи срисованы, – сказала Косарева.
– Приметила, барышня, ласковую теплынь в них. Кондратьевна, барышня, у нас вроде общей матери-заступницы. Все к ней со своими житейскими болячками лезем, а она нас добрым словом да ласковостью глаз лечит. Право слово.
– Взгляд Марии Кондратьевны и меня сразу остановил возле нее. Не сердитесь, что оторвала от работы.
– Работа не волк, в лес не убежит. До зимы далеко, успеем на песках умаяться. Дозвольте узнать ваше имя.
– Зовут Ольгой. Фамилия Койранская.
– Не обидитесь, ежели попрошу дозволения ваше личико себе на память срисовать.
– Людка, будет выкобениваться, – выкрикнула женщина.
– Глядите на них. Одергивают, конфузят перед вами, а не знают, что на срисовку способная. Думают, что Людка Косарева только на язык острая и нет у нее за душой никакой другой способности. Дозволите?
– Конечно.
Койранская отдала Косаревой блокнот и карандаш, спросила:
– Где сесть?
– По вашей воле, где поглянется.
Койранская села на прежнее место. Косарева умостилась на пустой тачке и начала рисовать, прищуривая глаза. Стоявшие возле Койранской женщины начали переходить и окружать рисовавшую подругу. Только Кондратьевна нагребала лопатой песок в пустые тачки.
Наблюдая за работой Косаревой, Койранская видела, как на лицах стоявших возле нее подружек все яснее появлялось выражение явной растерянности и удивления. Насыпав песок во все тачки, к Косаревой сзади подошла Кондратьевна и, пораженная, свистнула.
– Барышня, вы только поглядите, чего она сотворила.
– Еще малость погодите, барышня, – попросила Косарева.
– Ну и Людка, а нам невдомек, что твоим рукам карандаш послушен.
– Вот, пожалуй, и хватит. Спасибо, барышня.
Койранская, встав, подошла к Косаревой, взяла у нее блокнот:
– Да вы же талант, Косарева.
– Про это не знаю. Только в девичестве для церкви в родном селе Богоматерь с младенцем срисовала, так люди перед ней лбы не скупясь крестили.
– Вот ведь как? Учились живописи?
– Какое учение, барышня. Хлеб раненько стала зарабатывать. Может, отдадите мне листок на память. Над кроватью его повешу.
– С удовольствием. Только разрешите сначала показать рисунок Софье Тимофеевне и Пестову.
– Неужли покажите?
– Обязательно!
– Ваша воля. После своей рукой на нем напишите, что рисовала вас именно сама Косарева Людмила. Пусть подружки языки прикусят да поверят, что за душой у меня водятся и иные людские способности. А теперь извиняйте. Надо робить. Отдохнули возле вас. Бабы, давайте с песней, коя повеселей.
Женщины и девицы, разобрав свои тачки, покатили их к машер– там, и скоро зазвучала заливчатая и озорная по словам песня.
Возле песчаных куч остались только Кондратьевна и Койранская.
– Спасибо, барышня, что явили нам Косареву в новом обличии.
– Вам спасибо, что согрели взглядом.
Простившись с Кондратьевной за руку, Койранская медленно пошла на прииск. Отойдя, оглянулась, увидела, что Кондратьевна, приложив руку козырьком над глазами, провожала ее своим взглядом.
4
Субботний вечер. Солнце садится в золотистом полыме. Из соседнего села доносится вечерний звон ко всенощной. По заведенному неписанному закону старатели на прииске раньше обычного закончили работу. Сегодня с полудня работа ни у кого не ладилась оттого, что по реке проплыл трупик мальчонки, помершего от неизвестной причины, и вдобавок ко всему на прииске объявилась Олимпиада Модестовна…
Когда женщины и девицы шли мимо хозяйского дома в село, в церковь, Олимпиада Модестовна и Софья вышли на прогулку. Бабушка в темно-синем суконном платье шла, опираясь на трость с серебряными украшениями, излаженную в кавказской земле. Внучка в голубом наряде, с накинутым на плечи кружевном полушалком. Направлялись к старой мельнице, чтобы повидать Койранскую, писавшую там портрет Кондратьевны.
Свернули в переулок между женскими бараками, раскланиваясь со встречными, Олимпиада Модестовна увидела на завалинке знакомую старушку.
– Смотри, Софушка, никак Сычиха? Так есть. Подойдем к ней.
Когда подошли к старушке, она, увидев перед собой хозяек, встав, отвесила поклон.
– Рада повидать тебя, хозяюшка.
– Здравствуй, Дементьевна. Только ноне я отхозяйничала. Хозяйка-то рядом стоит.
– В моей памяти ты бывала хозяйкой, ей и останешься для меня.
– Как можется?
– Не шибко. Хлеб жую, но только мякиш. Сынок со снохой меня на покой усадили. Внука дожидаюсь.
Олимпиада Модестовна села на завалинку. К ним сразу стали подходить женщины и девицы. Оглядывая их, Олимпиада Модестовна спросила:
– Как, бабоньки, робится и живется при молодой хозяйке?
На вопрос из толпы ответила чернобровая молодуха:
– Внучку твою еще на зубок не распробовали, а по тебе не скучаем.
– Кто голос подал? Чего за людей хоронишься? Покажись. Кажись, твой голос, Лидия Травкина?
– Можно и показаться. Только извиняй, ладом волосы не прибрала.
Высокая, загоревшая до рыжести из толпы вышла женщина в желтой кофте.
– Видишь, не ошиблась я. Голос твой, Лидия, мне запомнился. Сказывай, какая заноза у тебя супротив меня осталась до сей поры?
– Такая заноза не у меня одной. Всех нас одинаково занозила собой, когда норовила в своем кулаке нашу бедность зажимать.
– Все о том же?
– А как же. Злость не туман. Она и от солнца не гинет. Признаем, силы в твоем кулаке хватало. Так-то вот, Олимпиада Модестовна. – Травкина с улыбкой осмотрела Софью и продолжала: – Внучка, видать, вышла не в тебя. Сдается мне, что Тимофеевна решила по-иному к людям шагать. Умок у нее гибче. Ясность в нем безо всякого тумана. Бабьей порой по мужикам еще не стягчена. Мне в ней глянется главное. Чует она, что лаской от нас больше для себя выгоды добудет. Опять же и рука у нее аккуратненькая. Ежели и сожмет ее в кулак, то на вид не злым покажется. Поняла Тимофеевна, по моему разумению, с какого бока к нам ластиться. Поняла, что без баб жизнь – сущая чепуха, потому в нас ее начало.
– Слова, Лидия, на язык зло кладешь.
– А я и на работу злая. Спроси у людей, Олимпиада Модестовна. Скажут.
– Слыхала!
– И я слыхала, что некогда тебе за правдивость не глянулась.
– Ишь, как пенишься. Откуда слова берешь?
– У меня их добрый запас. Потому как и ты с разумом. Сословиями только разнимся. А еще помню, что нашим трудом не один год тебя в богатство обряжали. Ноне, поди, слыхала, что во всем государстве люди спорят между собой о сословиях, решают, которому из них пребывать в государстве в коренниках.
– Больно грамотными стали, вот и спорят о пустяках.
– Слава богу, что от тумаков да зуботочин наш брат стал зенки продирать. Во всяких коростах наше рабочее сословие… Озлили нас все, кому не лень. А злоба, она разум и сердце жестянит. Не обижайся за мой высказ. Ты для нас тепереча вроде вдовой царицы. Обликом прежняя, но безо всякой власти. Лучше позволь с внучкой-хозяйкой побеседовать.
– Беседуйте, а я пойду.
– Пошто уходить? Сиди и слушай! Ежели уйдешь, мы еще злее о тебе станем слова кидать.
– Не больно страшно мне. Любые худые слова про меня, что сухой горох об стену. От меня все отскакивает. Внучка про меня все плохое и хорошее знает.
– Говорю, не серчай. Это с устатку сейчас я такая ершистая. За день за работой до одури намолчалась. Пески крутые шли, но не постные.
– Пойдем, Софья. – Олимпиада Модестовна встала на ноги. – После успеешь бабьей мудрости наслушаться. У меня от нее тошнота заводится.
– Идите, бабушка, я вас догоню.
Олимпиада Модестовна недовольно стегнула внучку взглядом, пожав плечами, хмуро оглядев женщин, ушла.
Дементьевна, сокрушенно вздохнув, молвила:
– Обиделась, видать. А ведь и сама на язык не больно добрая. От чужой правды всегда в сторонку сворачивала.
Травкина, глядя на ушедшую старуху Сучкову, весело сказала:
– Глядите, бабы, как шагает. Любо-дорого. Одним словом, все та же бабушка Сучкова.
– Чего стоите! Садитесь, на завалинке места много, – предложила Софья.
Кое-кто из женщин предложением воспользовался. Дементьевна спросила:
– Ты, стало быть, Тимофеевна, станешь летом возле нас свою жизнь править?
– Да. Решила жить на Дарованном.
– Правильно решила. Здесь вольготно. Все время на людях. Жихарев станет меньше дыбиться. У нас ноне множество певуний развелось. У всех голоса ладные. Песни любишь?
– Конечно, люблю и даже сама пою.
– Вот ведь как!
Наступило молчание, нарушив его, Софья спросила:
– О чем хотели со мной беседовать?
– Благодарить должны, – сказала женщина, сидевшая рядом с Дементьевной.
– Молодухи, особливо девки до ужасти довольны, что новым купцом обзавелась.
– Мне кажется, Бородкин нужный человек.
– Мужик справный. Беседовать с нами о товарах не гнушается. На характер терпеливый. Без пререканий слушал наши недовольства.
Все нужды ему высказали, да неласково, а он даже не морщился. Прошлого купца жуликом и ворюгой величали, а Бородкин опять молчал. Конечно, может, по первости таким гладким прикидывается, пока из твоего до наших карманов не нагреб барыши.
– Зачем раньше времени возводить на человека напраслину? – прервала женщину Софья.
– Извиняй! Только в нашем понятии все купчишки на один лад. Все, во всей империи, сотворены по одной колодке стяжательства. Уж шибко охота им из наших рук трудовые рублишки выхватывать. Ведь когда нас за горло бабья нужда берет, любая перед мужиками баской хочет быть. Ты, видать, эту линию в бабьей жизни постигла, обзаведясь Бородкиным. Да и хозяйством лихо правишь. Новым обзаводишься, старое вконец не рушишь. Понимаешь, что откованный кузнецом гвоздь дюжит дольше проволочного, излаженного машиной.
– Харчами довольны? – спросила Софья.
– По этому вопросу у нас к тебе просьба.
– Сказывайте.
Заговорила Лидия Травкина:
– Просьба легкая для тебя. Поставь возле артельных котлов главной кухаркой Оксану, а то Жихарев от ее доброй стряпни ожирел до дурости.
– Лука Никодимович то же самое советовал. Но Оксана отказывается.
– Как так отказывается? Ты хозяйка! Прикажи, и вся недолга! Она девка дельная, на руку нехапужная. Под ее приглядом поварихи станут меньше воровать.
– А Жихаревым чем недовольны?
– Ежели по правде сказать, то всем. Разум у мужика в тенетах. Неясный нам человек. Сословия нашего, а глядит на нас исподлобья. Заносится перед людьми. Да что попусту говорить. Ты его все одно не сменишь. Потому в его должности любой таким станет. Народ правильно судит. Дай таракану власть, так он живо пауком обернется. Понятней скажу, Жихарев бабам не к подолу оборка.
– Еще что скажете?
– Скажем. Слушок ходит, будто собираешься людей на промыслах машинами подменять.
– Верный слушок. Стало мне известно, что вы недовольны порядками на моих промыслах. Вот и решила не потакать вашим капризам и заменить недовольных машинами.
– Капризы наши правильные, хозяюшка. Хочем быть сытыми от своей работы на тебя. Машин не боимся. Урал велик. В его земле везде всякое богатство. Есть куда уйти от твоих машин. Сухую корку и не на твоих промыслах заробим. Это при крепости были на цепи, а теперь не так.
– Не всем слухам верьте, женщины. И давайте не ссориться.
– А чего ссориться. Ты нам правду скажешь, в ответ нашу услышишь.
Неожиданно девушка, стоявшая возле колодца, крикнула:
– Глядите, кто-то на тройке катит!
Выкрик девушки оборвал нитку беседы. Все смотрели на мчавшуюся тройку, а Лидия Травкина твердо произнесла:
– Поразевали рты. Будто не знаете, что на буланой тройке Златоустовский барин ездит.
– Какой барин? – спросила вставшая Софья.
– Кривой полковник с Егорием. Так и есть, вижу, что он катит. Мужик нехудой. На народ сквозь зубы не сплевывает. Знаком тебе, Тимофеевна?
– Знаком.
– Значит, к тебе катит, а посему встречай гостя.
– Завтра, женщины, поговорим.
– Поговорили уж. Про всякие слухи станем тебя спрашивать, а ты от нашей правды не отворачивайся. Главное, Оксану на харчи поставь.
– Хорошо.
Софья быстро ушла. Женщины смотрели, пока она не скрылась из вида. Лидия Травкина произнесла утвердительно:
– Девка по разуму неплохая.
– Не нахваливай раньше времени. Дай ей во вкус хозяйки войти.
Тогда поглядим. Молодые хозяева по первости без желчи к людям.
– У тебя, Аграфена, все плохи, – оборвала говорившую Лидия. – Сама чего давеча к старухе привязалась?
– Не твое дело. Надо было, и привязалась. Разумница. Где ты видала хорошего хозяина возле золота? Возле него даже наши мужики звереют, – не унималась, наступая на Лидию, Глафира.
– Пойми, Тимофеевна нас пока не сторонится.
– Да это пока. А после что будет?
– Кулаком на нас не стучит, как, бывало, Модестовна с Дымкиным.
– Так она от вдовства злилась, когда не могла дельного утешителя отыскать.
– Бабоньки!
– Чего, Дементьевна?
– Слушок из Сатки дошел. Будто еще зимой Тимофеевна Дымкина из дому выгнала.
– Она на такое способна. Златоустовский барин недаром прикатил. Кривой, а разглядел, что Софьюшка смазливая и молоденькая.
– Будь покойна. Вот увидишь, к ней всякие мужики будут льнуть. При больших деньгах девка.
– Хватит лясы точить. Слышите, звонить кончили. Ради сплеток готовы про Бога позабыть! – крикнула проходившая мимо Людмила Косарева и залилась громким смехом.
Женщины от Дементьевны стали расходиться.
5
Две каменистые речки, пенистые и шумливые, выбегают из лесной чащобы. Версты три текут одним руслом, но, натолкнувшись на скалы, круто сворачивают друг от друга и текут порознь по площади прииска, принадлежащего Осипу Дымкину.
В лесном кольце прииск. Года четыре назад в одной стороне полосой прошел по лесу дюжий огонь. Выгорела чащоба, но не сгорела земля, вырастившая ее, и, как бы торопясь скрыть след огня, среди мертвого сухостоя разрослись гривастые кустарники, изумрудные пихты и елочки, рощицы осин, черемухи, а заросли дикой малины, обрадовавшись простору, настолько густы, что нелегко ими пройти даже зверю.
Небо в пламени густых оранжевых тонов, но, стушевывая их яркость, с севера медленно наплывал дым сумерек.
На прииске возле ближнего к речке рабочего барака толпа женщин всех возрастов. Стоят тихо, не отрывая глаз от открытых окон барака, крестятся, когда из них доносится истошный женский крик. Поодаль от барака дымят цигарками мужики, при криках покачивая головами, сплевывают себе под ноги.
На берегу речки на песчаной кромке, усыпанной мелкой галькой, третий час сидит Нина Васильевна, ожидая доктора Пургина, принимающего в бараке тяжелые роды.
Они шли мимо на Овражный прииск к Новосильцеву, но Пургина перехватил на околице прииска парень, моливший доктора завернуть в барак, чтобы спасти от смерти его молодую жену.
Наблюдая за течением речки, Нина Васильевна помнила слова парня, выговариваемые сквозь слезы: «С утра тебя, барин, ищем по округе. Будь милостив, спаси роженицу. На тебя надежда. Второй день не может разродиться».
Под камнем, нависшим козырьком над речкой, горит костер, и над пламенем варит в котелке похлебку хмурый старик. Его волосы, забывшие о гребне, постриженные под горшок, повязаны от распада ремешком. Коричневое от загара лицо так сильно заросло вихрастой бородой и усами, что на нем едва видны глаза с холодным и неприветливым взглядом.
На камне, свесив ноги, сидит, играя на гармошке, русоволосый парень с кротким лицом. Раскидывая пальцы по ладам, он наигрывал мелодии разных песен.
В руках парня гармошка то плакала, то звала задорным мотивом на поиск радости, то вдруг заливалась веселым смешливым говорком и затем начинала снова грустить о чем-то ненайденном или потерянном.
Нина Васильевна, склонив голову, слушает звуки гармошки, любит напевность народного инструмента, на котором умелые руки одаренного музыканта способны раскрыть звуками самых несложных мелодий, тайную сложность людской души и разума.
Нина Васильевна любила игру на гармошке покойного отца, а за годы скитаний ей приходилось слышать всяких гармонистов, но сейчас игра парня казалась ей пределом возможной задушевности.
Погас оранжевый свет небес под дымом сумерек. Стемнело, и у речки стали ярче в костре перья огня.
Парень запел чистым тенорком про Волгу. Понеслась песня в тишину наступающего вечера с той торжественностью, с какой с небес падают звезды.
В это время из окон барака донесся особенно истошный женский крик, и наступила испугавшая всех тишина. Женщины стояли с потными от волнения лицами, переживая страдания роженицы.
В толпе пронесся вздох облегчения, когда на крыльцо барака выбежала повитуха, радостно крикнув:
– Родила, бабы, Анютка парнишку!
Следом в окне увидели доктора Пургина, державшего в руках ребенка:
– Вот он, упрямец, не обижайтесь, что долго не хотел с вами знакомиться.
После слов доктора толпа ожила, живыми голосами заглушив доносившуюся с речки песню.
Было совсем темно, когда Пургин пришел на берег, не увидев на нем девушку, крикнул:
– Нина! Где ты?
– Здесь, Митя.
Пургин, подойдя, опустился перед Ниной Васильевной на колени.
– Еще один крестник родился.
– А ты смертельно устал.
– Да, милая. Но рад, что спас мать и ребенка.
– Мы, конечно, никуда сегодня не пойдем.
– Спасибо! Какая ты чуткая…
6
Медальон солнца золотистым топазом прятался за кружева и бархат пурпурных облаков.
Провожая закат по лесам, загулял ветер.
Беспокойно шелестели шелка и ситцы кустарников. Пчелиными роями гудели сосны, а вся лесная дряхлость плаксиво поскрипывала на всякие голоса.
На заброшенном прииске, в еловой чаще, на просеке бугры давних отвалов перемытой породы.
Больше всего на покатых склонах отвалов колючих зарослей шипицы в розовом пухе цветения, а возле них на высоких стебельках аметистовые колокольцы, а на плешинках плотно лепится белая и розовая кашка.
На буграх, где заросли вереска, густо цветут ромашки, как скатерти, укрывают склоны белизной цветов.
Завитками, изгибами между бугров бежит, булькая по гальке, быстрая речка. Воды в ней немного. Иногда будто совсем теряется из виду, разливаясь болотцами с кочками в бирюзе незабудок. То вдруг перестает булькать, течет по узкой канаве русла, тогда в самом глубоком месте дно можно достать, замочив руку повыше локтя. Вода в речке прозрачная, для красоты только слегка подкрашена синькой…
Ночью ветер перетрясал лесную дремучесть. По небу бежали низкие плотные облака, а в их редкие разрывы выглядывала луна. Притушенным пепельным светом временно распугивала темноту, стелила наспех теневые дорожки от каждого дерева, кустика, камня.
Появлялась и исчезала луна. Сменяла темень сумерками, и только плотность туч не позволяла ей покрыть землю волшебными кружевами от сплетения теней и света.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































