Текст книги "Связанный гнев"
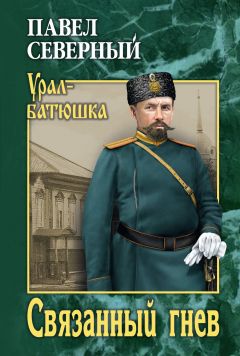
Автор книги: Павел Северный
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
– Что же так внезапно привело вас на Серафимский? – спросила Софья.
– Не догадываетесь? – вместо ответа спросил Тиунов.
– Неужли взрыв плотины?
– Конечно! Но прежде всего ваше невнимание к жандармскому управлению.
– В чем моя провинность?
– В том, уважаемая Софья Тимофеевна, что пренебрегаете нашими услугами. Почему не сделали заявление о взрыве?
– Посчитала это делом, касающимся только меня.
– Напрасно так посчитали. Мне просто непонятно, почему уже не первый раз стараетесь скрывать от меня акты произвола рабочих против ваших законных прав владелицы. Делать этого не следует. Мы для того в империи и существуем, чтобы защищать законность от посягательств приисковой черни, ибо видим в ее темных посягательствах, главным образом, скрытое, вернее сказать, замаскированное, но все то же революционное брожение. Не буду скрывать и того, что активность этого брожения, приглушенная нами на заводах и фабриках, перенесена теперь на промыслы. И заключается она в старательном наставлении темного приискового сброда к примитивному познанию, но все же именно познанию революционных замыслов модной политической партии большевиков. В Петербурге, конечно, слышали про революционера Ленина.
– Об Ульянове?
– Теперь он именует себя Лениным.
– Слышала. Но он за границей.
– Да, к сожалению, за границей. А мог бы быть за решеткой, но в столице, мягко сказать, это дело прошляпили. Позвольте продолжить тему нашего разговора. Недавнее событие на промыслах Гришина заставляет нас думать, что подпольная работа на приисках ведется довольно продуманно, а главное, чертовски осторожно, ибо направляется чьей-то умелой рукой. Кто эта рука, пока для нас тайна. Но только пока. Вы знаете, что мы умеем открывать тайное. Но рука нас очень интересует. Все доморощенные смутьяны нам известны. Многие за решетками. Гуляющие на свободе под неусыпным наблюдением. Говорю вам об этом только потому, Софья Тимофеевна, что у вас недостаточно опыта для управления людьми на промыслах, на которых даже при правлении вашей бабушки не раз бывали случаи рабочих беспорядков и неповиновения ее хозяйским пожеланиям. Кроме того, вами приближен к себе господин Пестов, а именно о нем у нас имеются предположения о его причастности ко всем революционным событиям на промыслах, начиная с пятого года.
– Простите, господин Тиунов, но у вас против уважаемого мной доверенного пока только предположения, ничем противозаконным в его действиях не подтвержденные. Представьте, еще зимой мне об этих предположениях говорил исправник Зворыкин. Но, опять-таки, бездоказательно.
– Вы правы! К сожалению, доказательств виновности Пестова у нас нет, но опять-таки, пока. Я лично уверен, что именно он причастен ко многому противозаконному. Должен признать, что Пестов умен, вооружен житейским опытом, тонким знанием психологии рабочего люда на приисках. Кроме того, Софья Тимофеевна, у вас же на приисках основная масса женщин-старательниц, среди них такие, как Бурлачка и Людмила Косарева. Они обе в пятом году участвовали в беспорядках.
– Но понеся за это наказание, теперь на свободе.
– А вы уверены в том, что понесенное наказание заставило их изменить свое отношение к государственной законности?
– Этого я не знаю!
– И хорошо, что стоите от всего политического в стороне. Вам, конечно, известно, что дочь Власа Воронова, живя в Москве, по молодости лет впуталась в революционные беспорядки, принеся тяжелое горе родителям? Да разве только она. Например, госпожа Вечерек.
– Что госпожа Вечерек?
– Неужли не знаете, что, проживая в Уфе и работая учительницей, водила дружбу с народоволкой Четверговой и особенно была близка к ссыльной некоей Крупской, ставшей ныне женой Ленина?
– Позвольте, господин Тиунов, насколько мне известно, ссыльные и теперь на Урале свободно общаются с населением, и правительство этого не пресекает.
– Но зато нам от этого покоя нет. У вас тоже имеется один такой субъект – Рязанов.
– У вас и против него есть подозрения?
– Имеются. Но ведет себя Рязанов пока благопристойно. Он, конечно, слизняк. Мне особенно не нравится его облик. Должен признаться, что после пятого года у меня появилась к интеллигенции острая неприязнь. Сует она нос не в свои дела, мешая нам блюсти в крае законность его императорского величества.
– Интеллигенция – тот же народ. Вполне естественно, что не могла оставаться безучастной ко всем событиям пятого года.
– Но вот вы, несмотря на молодость, даже будучи в Петербурге, сумели уберечь себя от всяких тлетворных политических влияний.
– Страх помог.
– А вы не чуждаетесь юмора. Недаром о вас говорят, как об очень интересном человеке. Хотя промышленники вас хают. Не нравятся им ваши новшества в обращении с народом. Кстати, каким образом обзавелись купцом Бородкиным? Вам кто-нибудь рекомендовал его?
– Нет. Просто сам сделал мне предложение по изменению торговли на промыслах. Мне оно понравилось, и, представьте, уже на практике оправдало себя. Он тоже на подозрении?
– Мы всех и всегда подозреваем. Бородкин, несмотря на свое постоянное и тесное общение с рабочими, пока ничем не привлек наше внимание.
– Неужли действительно всех подозреваете?
– Такая наша обязанность, Софья Тимофеевна.
– Представьте, мадемуазель, о вас по приказанию из Уфы были наведены справки о вашей жизни в Петербурге, – сказал Савицкий, выронив из глаза монокль, изобразив на лице подобие удивленной улыбки.
– И каковы результаты? – спросила Софья.
– Все в порядке. На вас был донос губернатору о вашем знакомстве с госпожой Вечерек и с ее сестрой. Корнет Савицкий совсем напрасно упомянул о таком пустяке.
– Я сделал, ротмистр, из чисто сердечных побуждений. Желая упредить мадемуазель, чтобы она была осторожна, зная, что у нея есть недоброжелатели.
– Недоброжелатели у меня есть, в этом уже убедилась. У вас, господин Тиунов, будут какие-либо пожелания?
– Нет, кроме пожелания беречь свои прииски от любых беспорядков. Разрешите откланяться. Еще долго пробудите на прииске?
– Сегодня уеду.
– Счастливого пути. Передайте привет Олимпиаде Модестовне. А нам с Савицким разрешите осмотреть причиненный взрывом беспорядок на плотине.
– Мне с вами поехать?
– Нет, нет! Кстати, кого подозреваете в сем темном деле?
– Даже не думала об этом.
– Напрасно. Мы, например, уже слышали от ваших старателей, что к этому делу приложили руку люди господина Гришина.
– Но это же опять только досужие вымыслы и подозрения.
– Уясните же, наконец, Софья Тимофеевна, что иной раз ничего не стоящие подозрения наводят на след раскрытия серьезных преступлений. Нам известно, как господин Гришин ведет себя с конкурентами. На плотине побываем с людьми, побеседуем, авось найдем злоумышленников, причинивших вам беспокойство и убытки. Честь имеем кланяться…
4
После полудня Олимпиада Модестовна, проводив Софью в Сатку, сидела в столовой и раскладывала пасьянс. На старухе темно-синее бархатное платье, на плечи накинут пуховый платок. День хоть и солнечный, но с прохладным ветерком, порывы коего залетают в раскрытую дверь на балкон.
Софью вызвала в Сатку на собрание драматического кружка заводских любителей, во главе которого теперь была столичная актриса Глинская.
– Звали, Олимпиада Модестовна? – спросил вошедший Бородкин.
– Ты, что ли, Бородкин? – Старуха, увидев пришедшего, поманила его рукой. – Здравствуй! Понадобился по важной причине. Садись. Никак, похудел малость? Чем болеешь?
– Здоров. Работа у меня хлопотливая: из седла на ноги и обратно в седло.
– В торговом деле иначе нельзя. За прибыльной копейкой надо бегать. Но ты молодец! Торговое дело наладил, и народ тобой доволен. Я старуха с верным глазом, а потому определила тебя теперь в графу дельных людей. Правильно судишь, что в нонешнее время надо с приисковыми людишками поласковей обращаться, но про купеческую прибыль не позабывать. Так ведь? На наших промыслах народишко муторный. Бабы. В них в каждой свой завиток характера, как спутанный клубок ниток для мужского разума. Но тебя бабы уважают. Сама от них добрые слова о тебе слыхала. Уж на что Людка Косарева неласкова к мужикам, но и та, поминая тебя, не морщится. А ведь Косарева по всем статьям баба особая. Ведь надо же, прости Господи, чтобы в одной бабе разом угнездились разум, совесть, женская гордость и лихой бабий грех. Ты разглядел ее?
– Видная женщина.
– Хитришь, Бородкин? Самого, поди, не раз в жар кидало от ее лукавых поглядов.
– Недосуг мне красавиц разглядывать.
– Признаешь, значит, красоту в Косаревой.
– Женскую красоту понимаю.
– Ты приглядись к Косаревой. Бабы судачат, что дружишь с ней. Она Божьей искрой одарена, но судьбой обижена. Любовью себя опалила, а чуда материнства не удостоилась. Жаль, что возле золотых песков мочалится. Ты многого на приисках не знаешь. А я за свою жизнь нагляделась, как в работе возле золота женская красота гибнет. Но бабы все одно льнут к пескам, всякой охота фарт из них вымыть. Ну да ладно. Давай о деле говорить, по коему тебя позвала.
– Слушаю.
– Задумала Софьюшка в саткинском доме сменить на окнах и дверях гардины. Правильно решила. Старые, да и молью побитые. Советовалась со мной. Порешили мы бархат сменить на сукно, и чтобы во всяком покое было оно разное по цвету. Ноне суконные гардины в моде. Посему надлежит тебе в Златоусте, а то и в Уфе набрать суконных образчиков, чтобы по ним мы выглядели желанный нам материал.
– Будет исполнено.
– Это, конечно, не к спеху. Пока между делом суконный материал выглядывай.
– Еще какие будут пожелания?
– Все сказала. Ступай.
Бородкин направился к двери, но старуха крикнула:
– Погоди! Прикрой дверь плотнее. Прикрыл? Софья Тимофеевна на днях, воротясь с Серафимовского, сказала, что навестившие прииск жандармы, ну, Тиунов с помощником…
– Они недавно и по нашему прииску проехались с конными стражниками.
– Ты слушай, что дале скажу. Тиунов спрашивал, кто тебя нам рекомендовал. Софьюшка, конечно, обрисовала тебя с лучшей стороны.
– Какой у них ко мне интерес?
– Да у жандармов ноне ко всякому интерес. Слыхал, что в Сатке учителей обыскивали?
– Арестовали?
– Нет. Ничего не нашли противузаконного. Надо полагать, что господин Столыпин по-крепкому за крамольников взялся.
– Высказывали против меня какие подозрения?
– Да что ты, Бородкин? Какие против тебя подозрения. Софьюшке не говори, что тебе рассказала. Она не велела тебя волновать, но я, видишь, не удержалась.
– Благодарю.
– Теперь вот про что спрошу. На Серафимовском порушенную плотину видал?
– Видел.
– Как люди о злодеянии мыслят?
– Не сомневаются, что рука Гришина в том деле.
– Погоди. Чем же мы Гришину поперек дороги встали? Ладно, ступай.
После ухода Бородкина Олимпиада Модестовна довольно улыбнулась, откинувшись к спинке кресла, прикрыв глаза, произнесла вслух:
– Ох и дошлый народишко у нас. Все чует. Гришин, видать, за кулачок начал отплачивать. Ничего, Сучковы стерпят. Возле золота всяк из нас цепной пес.
Донесшийся перезвон бубенцов заставил старуху прислушаться.
– Никак опять гости? – спросила себя, открыв глаза.
В столовую запыхавшись, вбежала Ульяна. Увидев на лице служанки граничащее с испугом удивление, старуха спросила.
– Кто опять напугал?
– Гостья к нам!
– Кто такая?
– Новосильцева госпожа!
– Опомнись!
– Истинный Бог, так передо мной обозначилась.
– Куда ее провела.
– В гостиную горницу.
– Ах ты, Господи! Ладно! Сейчас выйду. Какова из себя?
– Ладом разглядеть не успела, только больно важная.
– Сейчас я.
Олимпиада Модестовна, встав, оглядела себя со всех сторон в зеркале. Скинула с плеч пуховый платок. Поправила на голове кружевную наколку, перекрестившись, вошла в гостиную. Увидев высокую даму, поклонилась почтительно. Шагнула к даме с протянутой рукой, но тотчас остановилась перед ее взглядом сквозь стекла лорнета. Пристально глядела гостья. Олимпиаде Модестовне даже почудилось, будто видит она на ее локтях вытершийся ворс на бархате платья. Бесцеремонно разглядывала старуху гостья. В молодости Олимпиада Модестовна не раз стаивала перед такими же оглядами знатных барынь.
– Надеюсь, вижу бабушку мадемуазель Сучковой? – спросила гостья.
От вопроса старуха похолодела и разом оправилась от смущения. Смерила гостью взглядом, указав рукой на кресло, сама села в кресло у ломберного стола, на котором хрустальная ваза с пунцовыми астрами.
– Я госпожа Новосильцева. Надеюсь, внучка уже поставила вас в известность о моем приезде в Златоуст?
– Говорила.
– Софьи нет дома?
– В Сатку подалась.
– Очень хорошо. Мне необходимо поговорить с вами наедине. Разговор будет об отношениях вашей внучки с моим сыном. Вы, видимо, знаете…
– Любят они друг друга.
– Уверены?
– Уверена!
– Вот об этом обстоятельстве и поговорим. Роман Вадима сильно огорчил меня полной неожиданностью. Огорчил главным образом тем, что сын ухитрился скрыть от меня вольность о своем новом увлечении.
– Да что вы? О каком увлечении говорите? Любят они.
– Подождите, мой визит к сыну вынудил меня пережить тягостную неприятность. Я приехала в сопровождении очаровательной девушки, представительницы знатной дворянской фамилии. Именно той девушки, в которую Вадим был влюблен, служа в гвардии. Повторяю, был влюблен, пользовался взаимностью, а этим вселил в меня уверенность, что они поженятся. Однако, по воле Всевышнего, неудачная для империи война с японцами изуродовала внешность Вадима. Он смалодушествовал, сменив жизнь в столице на Златоуст.
Слушая гостью, Олимпиада Модестовна, сдерживая волнение, не отводила глаз от ее лица, наблюдая за переменами на нем, видела во взгляде ее суровость, похожую скорее на злость. Старухе не нравился голос гостьи, ее раздражало и то, что она, говоря, как бы приказывала интонациями внимательно вслушиваться в произносимые слова. Устав от неприятного взгляда, Олимпиада Модестовна смежила веки, но тотчас открыла их, услышав громкий вопрос гостьи.
– Почему не слушаете меня?
– Слушаю! – также повысив голос, резко ответила старуха.
– Наш разговор, естественно, вам неприятен. Но он необходим, чтобы убедить вас, что роман Вадима для меня как для матери даже оскорбителен. Сам этого он, к сожалению, не понимает. Я не могу убедить его, сломив его упрямство.
– Так понимаю. Считаете мою внучку не парой вашему сыну? – Перейдя на шепот от волнения, спросила Олимпиада Модестовна.
– Согласитесь.
– Никогда!
– Не перебивайте меня, а то я потеряю от волнения ясность мысли. Согласитесь, что роман Вадима с вашей внучкой в корне неестественен уже потому, что они различны по сословному положению. Лично я в браке признаю только сословное равенство. Род Новосильцевых древний. В его родовые каноны сын не имеет право вносить какие-либо изменения. А он даже осмелился, своевольничая, нарушить родовую традицию своим намерением породниться с купеческим сословием.
– О пустяках говорите! Хватит!
Олимпиада Модестовна поднялась из кресла. Стояла, барабаня пальцами по столешнице. Гостья поднесла к глазам лорнет и тоже встала на ноги, разглядев бледность на лице старухи и ее до щелок сощуренные глаза.
– Прошу не волноваться!
– Не беспокойтесь, в обморок не упаду. Не по душе вам, что сынок в купеческую дочку влюбился?
– Успокойтесь.
– Теперь уж меня не перебивайте, а то, обозлившись, обидных слов наговорю. Спокойна я.
Продолжая барабанить пальцами, Олимпиада Модестовна вдруг сжала их в тугой кулак и тихо сказала:
– Вот что, барыня. Ты спесью дворянской меня не запугивай.
От услышанного гостья вздрогнула.
– Чую твои мысли. Перепугалась, что внучка за дворянством сына потянулась? Испугалась, что сим она нарушила твои личные виды на сына, потому водилось у тебя желание по-иному обладить его семейную судьбу? А почему меня не спросишь, довольна ли я, что Софья в дворянина влюбилась? Почему не спросишь, о чем думала, узнав, что Вадим Николаевич в Софью влюбился? А ведь грешным делом думала, что он свою родовитость хочет приукрасить возле золота Сучковых.
– Как ты смеешь?
– Слава богу, поняла мой высказ до самого дна. Хорошо и то, что сама в разговоре на ты перешла. Теперь договоримся без лишней вежливости. Спрашиваешь, как посмела о твоем сыне плохо подумать, а как же ты осмелилась ко мне для разговора приехать? Не скрою. Недовольна я, что Софья полюбила Вадима Николаевича. Но я сердечнее тебя оказалась. Разумом придавила недовольство, поняв, что невольна становиться поперек дороги девушки к счастью. Поняла, хотя в наш купеческий род тоже первый дворянин хочет втиснуться. И у нашего купецкого рода есть свои родовые каноны. Но ноне, видать, любые каноны могут порушиться.
Олимпиада Модестовна прошлась.
– В сыне твоем нет твоей черствой гордыни. Тебя она вон до чего довела, что без ведома Вадима Николаевича ко мне прикатила.
– Да, Вадим не знает, что поехала к вам.
– Добро! Пусть и останется наш разговор для него тайной. Внучке скажу, что госпожа Новосильцева наезжала ко мне, чтобы знакомство свести. То же самое и ты сыну скажи. Как мы друг другу понравились, это наше личное дело. А коли любишь сына, то не становись дворянской спесью ему на пути к счастью с Софьей.
Олимпиада Модестовна, улыбнувшись, снова заговорила с гостьей на вы.
– Кратким выдался наш разговор, но вразумительным. Гостить на Дарованном сейчас не уговариваю. Чую, откажете мне в такой чести. Желаю счастливого пути. До экипажа лично провожу. Лихом прошу не вспоминать. Какая есть, вся на виду в старости. Пойдемте, Мария Владиславовна.
Распахнув дверь из гостиной, Олимпиада Модестовна, пропустив в нее гостью, вышла следом…
Глава XVIII
1
В природе Южного Урала сентябрь не скупился на разноцветие осенних красок.
Студенели утренники, а от этого обильные росы на пожухлых травах. Листва в крапинах желтизны, опадая, шуршит под ногами.
На Дарованном прииске на холме березы в парчовых кафтанах. Как богатыри сторожевые, среди них матерые ели. На закатах в тоскливое карканье ворон с назойливостью вплетается деловитое, но утомительное по суетливости стрекотание сорок…
2
Анна Петровна Кустова, приехав на Дарованный, застала хозяек за утренним чаем.
– Тебя, Анюта, прямо сказать, будто подменили. Была приятная обликом, а теперь того лучше. Но на тебя серчаю! – высказывалась Олимпиада Модестовна, отпивая горячий чай из блюдца, скашивая добродушный взгляд на гостью. – Серчаю разумом и сердцем. Ведь эдакое дело со своей судьбой сотворила, а от меня сотворенное скрыла. Грешно так поступать! Вспомяни, как раньше иной раз с душевной тягостью ко мне кидалась и завсегда находила своим любым поступкам мое сочувствие, иной раз и вовсе неправильным. Верно говорю?
– Куда верней.
– Вспомяни и то, как при Софушке предостерегала тебя супротив миасского учителя и, выходит, оказалась права.
– Про это лучше помолчим. Любая баба может на ровном месте оступиться, когда в сердце перебои.
– Тогда сказывай, как живешь. Сама глаз к нам не казала, но слухи про тебя нас не миновали. Слыхали, не надышитесь друг на дружку.
– Улыбаясь, сижу перед вами, стало быть, счастлива.
– Явилась нежданно.
– Завсегда так. Раз, и подалась, куда вздумалось.
– Погостите у нас? – спросила Софья Сучкова.
– Рада бы. Поговорить о многом надобно. Но не могу. Петр мой без меня – дитя малое. Лишний раз шагнуть боится. У вас неспроста оказалась. Невесту привезла. Башкирка. Аминой кличут. Девка втюрилась в вашего старателя Зуйкова, да так шибко, что даже веру Христову ради жениха приняла. Знаешь, Софьюшка, того Зуйкова?
– Нет.
– И то зря спросила. Где тебе знать про Зуйкова в твоем нонешнем положении. Вижу, вся с головы до пяток в обхвате иных забот.
– О чем вы?
– Да о том, отчего на щеках разом алый цвет разлился.
– Неужели знаете?
– Как не знать. Где бабье сословие водится, там у Анны Кустовой везде уши. Радуюсь за тебя. Правильно поступаешь. Счастье к трусливым не льнет. Вот я как к счастью с Петром шагнула? Разом! Кинулась к нему от нежданного горя! Осмелилась на то, о чем зарекалась даже вспоминать. А ты, Софьюшка, молодчина. Поверить трудно, что такого человека к себе приманила.
– Бабушка этим недовольна.
– Она всем недовольна. Глядя на себя в зеркало, и то ворчит. Ты к ней снисходи. Под старость в любом человеке недовольство, как седина заводится.
– Ох, внучка, внучка. Горазда плести на бабку напраслину. Так скажу, Анюта! На слово верь! С лихим внучкиным молодым самовольством смирилась. Разумом смирилась, а сердцем тревожусь. Кто знает, как у Софушки жизнь с Новосильцевым обернется.
– Сами спарились, сами споются.
– Так он старее Софушки.
– Такому только радуйся. Наскакался козлом мужик. По пятам станет за молодой женой после венца ходить.
– Легко судишь.
– Зато правильно. Теперь поняла, что раньше по пути к счастью напрасно боязливо оглядывалась. Сейчас напролом иду.
– Сызнова не ошибись.
– Нет, Олимпиада Модестовна, возле меня теперь мужик преданный, а главное, истосковавшийся по счастью. Мы друг другу споткнуться не дадим, в четыре глаза на жизнь смотрим. Еще должна тебя, Софьюшка, поблагодарить, что проворным купчишком обзавелась. На промыслах бабы и девки без устали о нем языками чешут. Дымкин Осип и тот его хвалит.
– Ему-то какое дело до Бородкина? У тебя какие дела с ним, Анюта?
– Зависть Дымкина гложет, что у вас эдакий Бородкин. Глядите, чтобы не сманил.
– Не видать ему Бородкина, как своих ушей.
– Дел у меня с Дымкиным нет никаких. Заезжал к нам. Прииски наши с его угодьями рядом.
– Зря приветишь такого гостя. Охмурит твоего Петра.
– Что ты! Дымкина, Олимпиада Модестовна, я еще тогда раскусила, как гнилой орех, когда он подле тебя мелким бесом крутился.
– Ладно! Промашку ту за собой признаю. Было дело. Не тем глазом на мужика глядела. Галантным обхождением меня подкупил.
– Петру моему Дымкина со всех профилей обрисовала и наказала без меня с ним в беседы не встревать. Петр у меня послушный.
– Что и говорить. Всех умеешь к послушанию приводить.
– Да не язви. Знаешь, один не послушался, но горем, как горячей смолой, ошпарил.
– Бабы на приисках на тебя в обиде.
– Обида не бабий гнев. Вот он страшен.
– Обижаются, что из-за собственного семейного счастья стала о них позабывать.
– Зря беспокоятся. О дельных бабах и теперь помню, а дурехам самая ласковая нянька не подмога. Ты сплетни не слушай. О внучке думай. Хват девка, даже Гришин на нее мне жаловался, что своими новшествами на приисках его старательниц к себе сманивает.
– И вы верите Гришину? – удивленно спросила Софья.
– Верю, что бабы сами уходят. Да как не уходить, когда у тебя купчик о бабьих мечтаниях заботится. Уж на что я со своими старательницами в ладах, но они все равно за ситцами на твои промыслы подаются. Дошлая ты, Софьюшка, раскумекала, в чем для баб приманка. С верой в счастье по жизни идешь.
– Беда только, что без оглядки.
– Ох и язва же ты, Олимпиада Модестовна! Правильно поступает. Вперед смотрит, надеясь, что беду за спиной душевным наитием учует. Жизнь нынче у людей из нырка в нырок. Всяк норовит на свой манер с судьбой толковать. В разнобой настрой разума люди налаживают, не считаясь с волей всякого большого и малого начальства. Самые захудалые бедняки, и те мечтаниями обзаводятся. От этого у них ум за разум заходит, ввязываются они в опасные споры с царскими законами. До крови спорят, а с заветными мечтаниями не расстаются. Думали вы, почему так? Я думала и поняла, что устал простой народ от всякой кутерьмы житейской с бесплодной надеждой да от зудливых корост всякого душевного мучительства. Ну, понятно! Беднякам положено тянуться разумом к радости, но ведь и господа, в чьих руках власть над бедняками, нынче тоже мечтаниями об иной жизни обзаводятся.
Олимпиада Модестовна слушала Кустову, покачивая головой и покашливая, и наконец, тяжело вздохнув, перебила гостью:
– Должна тебе сказать, Анюта, чтобы ты про всякие людские мечтания думала только про себя. Слов на язык ни о каких бедняцких возмечтаниях не клади, потому не дай Господь дойдет слушок до жандармов.
– Доходил уж.
– И обошлось?
– Не оказалось у них доказательств о моей крамольной виновности. По живому живу, Модестовна, вот и кладу на язык мечту о людском стремлении к радости вместе со всеми. Ноне вся Россия про вольность думает на разный манер. Вот и я не отстаю. Все в империи чем-то встревожены, и во мне такая же тревожность заводится, оттого и думаю вслух.
– Да какое тебе дело до бедняцких тревог?
– Потому сама в землю росток от бедняцкого корня пустила.
– Упреждаю, Анюта, думай про себя. Я, милая, тоже не без дум живу.
– Призналась, что и у тебя водятся мысли, кои вразрез с нонешними порядками.
– Бог с тобой! Думы у меня самые бабьи, а теперь и они переводятся. Скажи лучше, что дочь пишет, Анюта?
– С отцом она переписывается. Он ее выпестовал без моей ласки. Не нашли мы друг дружку.
Кустова перевернула чашку вверх донышком.
– За угощение благодарствую. Переночую у вас. Теперь, Софьюшка, дозволь пройтись по прииску. Хочу на знакомых бабенок поглядеть. Об Косаревой соскучилась. Но главное, по наказу Петра, должна ладом паровые котлы оглядеть. Луку Пестова надо о многом поспрошать. Его совет тоже золото. Как старику можется? Довольна им?
– За спиной Луки она, как у Христа за пазухой.
– А теперь настала и твоя очередь вспомнить, Олимпиада Модестовна, как была недовольна тем, что внучка его к себе приблизила.
– Так говорила тебе, что со всем нонешним в нашем роду смирилась. Потому внучка упрямством в отца.
– Извиняй меня: вечерком еще потолкуем, о чем сейчас не успели…
3
На исходе второго часа пополудни дородный кучер Новосильцева в черном лакированном цилиндре с павлиньими перьями лихо осадил рассыпавшую перезвон бубенцов тройку у крыльца конторы Дарованного прииска.
Из экипажа сошел сухопарый мужчина выше среднего роста, одетый в хорошо сшитую серую пару. На голове приезжего широкополая шляпа серого фетра, под мышкой левой руки зажат большой сверток.
Приехавший бодрой походкой, слегка пританцовывая, миновав террасу, вошел в контору, в которой в это время был только бухгалтер Рязанов. Он сидел за столом, занятый счетной работой, накинув на плечи студенческую куртку.
Приезжий, желая привлечь к себе внимание, кашлянул, но Рязанов продолжал щелкать костяшками счет. Тогда приезжий, осмотрев давно небритого молодого человека, обратился к нему:
– Видимо, мне придется оторвать вас от дела, чтобы спросить.
– Спрашивайте, – ответил Рязанов, не поднимая глаз на незнакомца.
– Видимо, вам известно, дома ли мадемуазель Сучкова?
– Поднимитесь по лестнице во второй этаж и спросите.
– Вы уверены, что могу туда подняться без предварительного уведомления о моем появлении?
– Уверен. Молодая хозяйка демократична.
– Ясно. Но позвольте узнать также?
– О чем еще? Мешаете работать.
– Вы бухгалтер?
– Да, – ответил Рязанов, наконец, оторвавшись от работы, посмотрел на посетителя.
– Видите, молодой человек, как я удивительно точно распознаю профессию людей по их внешнему облику.
– Прошу извинить, но готовлю отчет. Софья Тимофеевна дома, только недавно прошла к себе.
– Благодарю! – Посетитель, которого Рязанов уже успел разглядеть, поразил его своим подтянутым видом. Дойдя до лестницы, он остановился.
– Видимо, в случае неприятностей с моим появлением на втором этаже без доклада разрешите, молодой человек, сослаться на услышанный от вас авторитетный совет.
– Не беспокойтесь, все будет в порядке. Вас там встретит какая-нибудь горничная…
Пробыв в обществе молодой хозяйки больше часа, приезжий вновь спустился в опустевшую контору, но уже без свертка в сопровождении Ульяны, и вместе с ней вышел из конторы.
Ульяна по приказанию Софьи Тимофеевны вела гостя к Пестову. Шли молча. У котельной толпа рабочих, под выкрики смотрителя Жихарева, под пение дубинушки на катках передвигала к помещению новый паровой котел. За работой наблюдал стоявший в стороне Пестов. Ульяна, увидев его, сказала спутнику:
– Вон и Лука Никодимыч.
Приезжий обрадованно воскликнул:
– Действительно это он. Благодарю вас, девушка, за любезность. Теперь и без вас обойдусь.
– Пожалуйста. – Ульяна, поклонившись, побежала обратно, а приезжий, приблизившись к Пестову, вытянув руки вперед, с дрожью в голосе заговорил:
– Боже мой, боже мой! Какая встреча после стольких лет! Здравствуйте, господин Пестов! Боже мой, неужели меня так трудно узнать?
Пестов, пожав плечами, подал незнакомцу руку.
– Признаться.
– Но вы приглядитесь ко мне внимательней.
– Извините, не признаю вас.
– Боже мой! – Незнакомец, понизив голос до шепота, говорил: – Конечно, господин Пестов, я вовсе не ваш старый знакомый. Но прошу вас признать меня за такового и убрать с лица выражение удивления. На нас смотрят. Вы крайне нужный мне человек.
– С кем имею честь?
– Ах, боже мой. Лазарь Аронович Штейнкопф.
– Очень приятно.
– Не буду скрытничать, ваша личность мне знакома по разным рассказам моих клиентов. Знаю, что зовут вас Лукой. Но приношу свои извенения за свою память. Она у меня никогда не была хорошей, а потому забыл ваше отчество.
– Лука Никодимович. Чем обязан вашему визиту? Чем могу служить?
– Служить, видимо, в данном случае буду я. Вам же придется проявить только сугубое внимание ко всему, что от меня услышите. Вы разрешите называть вас по фамилии?
– Сделайте одолжение. Отчество у меня замысловатое.
– Отойдемте подальше от этого шума, потому слух у меня тоже не в должной форме.
– Все-таки по какому делу ко мне?
– Деликатному. О нем лучше беседовать с глазу на глаз, при закрытых дверях. Короче сказать, там, где вы живете.
– Пойдемте в горницу Живу в той избе.
– С удовольствием. Но, чтобы не терять время по пути, скажу вам о своей профессии. Брадобрей! По-современному парикмахер! В Златоусте мой салон с парфюмерным магазином считается первоклассным. Быть парикмахером не так просто. Ибо это искусство, укрощающее внешний вид человеческого обличил. Вот разве ваша борода должна быть такой формы?
– Лесная она у меня.
– Но должность у вас совсем не лесная.
– Вот мы и пришли. Заходите. За порядок не осуждайте, ибо живу всю жизнь бобылем…
В просторной горнице Штайнкопф, сняв шапку, оглядев себя в зеркале, гребешком поправил на голове косой пробор в слегка курчавых волосах с прошвой седины.
– Теперь, видимо, от пустых фраз конспирации настало время перейти к реальности моего приезда…
Штайнкопф вынул из кармана голубого бархатного жилета записку и протянул ее Пестову.
Пестов, развернув записку, прочитал написанные в ней три слова: «Выслушай внимательно. Рыбаков».
– Удивлены? Но, надеюсь, подпись Рыбакова вам известна?
– Да почему же сразу не сказали?
– Боже упаси! Кругом люди! И у всех ко всему интерес! В наше время лучше не спешить. Итак, товарищ Пестов…
– Садитесь, Лазарь Аронович. Чем разрешите вас угостить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































