Текст книги "Связанный гнев"
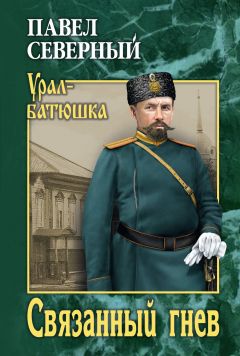
Автор книги: Павел Северный
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Вечер с прохладой. В мерцании звезд осенняя яркость. Ветер порывистыми наскоками падает с выси на землю, от этого на деревьях тревожный шелест листвы. В окнах рабочих казарм кое-где тусклый свет.
По берегу реки от мельничной запруды идут Бородкин и Людмила Косарева. Навещали у мельника Ваню-Образка. Рассказал он им, как с ним чуть беда не приключилась. По заданию Рыбакова нес он из Златоуста Бородкину секретную записку. Путь держал по знакомым тропам, а они затоптаны им и по гришинским золотоносным угодьям. Ничего не подозревая об обысках и следствии, на главном из них паренек зашел и напоролся на полицейскую заставу. Поняв, что сунул ногу в полицейский капкан, паренек не растерялся, а, изжевав, записку проглотил, а что было в ней прописано, не знал, но радовался, что о прописанном не узнали обыскавшие его полицейские, когда даже кружку для подаяний вскрывали.
Идут молча. Давно прошли барак, в котором жила Косарева, а она с берега к нему не свернула. Идет, задумавшись, наклонив голову, а Бородкин знает, что женщину мысли одолевают.
От очередного порыва ветра путников обдало пылью, а Косарева спросила:
– Слыхал, что стражник Еременко с тремя селедочниками седни дважды наш прииск объезжал?
– Даже видел, как к Грудкину в приемный покой заезжали.
– Копошится полиция. Кто-то доносами ее беспокоит.
– Думаю об этом тоже, но в толк не возьму. Пожалуй, права, что кто-то с упорством сеет на промыслах беспокойство, надеясь, что народ с тревоги бунтарить начнет. А сама знаешь, допустить нельзя.
– Как с людьми говорить? Когда лишние слова сказать боишься. Мужики и бабы все не в себе. За насупленностью не разглядеть и доносчика. А тут еще второй день суматошный ветер душу выматывает.
– Голова, что ли, от него болит?
– Голову не продувает. Но понимаешь, с девчоночьих лет при таком ветре меня пугливость донимает. Ну прямо все время мерещатся торопливые шаги, будто кто за мной гонится.
– Я, наоборот, при ветре думать люблю.
– Про что?
– Как когда.
– Думать сама люблю, потому думами себя жалею. Жалею, что кособокой по жизни иду. С виду баба как баба, а все у меня не как у дельной бабы. Замужем была, так не понравилось с мужем жить. Со студеной душой мужик оказался. Мечтать начисто не умел. Со всяким моим словом и желанием безропотно соглашался. А мне хотелось, чтобы спорил со мной, ярился, свою линию в жизни гнул, а я бы ее на свой манер выправляла для нашей общей пользы.
– Дети были?
– Что ты! Тогда бы мужика не бросила. Без отца дети никудышными людьми оборачиваются. Сам женатый?
– Нет.
– Врешь? Неужли правда? Такой приятный с виду мужик, а ходишь в холостяцкой упряжке. С чего так?
– Никакой из вас не понравился.
– Да будет вальяжничать. Вы, мужики, тоже с косыми сучками. Вам иной раз надо, чтобы в бабе изюм в меду плавал. Мед, конечно, в каждой бабе водится. Он в ее ласковости, а вот изюм в нем редко попадается. Смотри, Макар, на Дарованном не оступись, а то какая девка либо баба живо тебя стреножит золотым кольцом. Не раз видала, как наш брат тебя здесь оглядывает, прощупывая, какой ты на любовь окажешься.
– Смешно судишь! Не за этим сюда приехал. Разум занят тем, как бы невзначай в нашем деле не оступиться. Обзаведешься семьей, а вдруг за решеткой окажешься. А любимой в утешение что? Слезы?
– По мне, не так. Партия не заказывает от людской жизни в сторону сворачивать. Любовь такое чувство, что от нее разум светлеет, разом начинаешь по надобной тропке ходить. Не слыхал, как про нас с тобой судачат?
– О чем судачат?
– Видят нас вдвоем и придумывают, что в любви мы с тобой. Мне плевать. Пусть думают. Нам с тобой только на руку, потому делу от этого польза. Мы-то про себя знаем, по какой причине погуливаем.
– А если на самом деле?
– Скажешь тоже! Для нас с тобой такое чудо не блеснет. Скажешь тоже!
Людмила остановилась, прислонившись спиной к стволу березы.
– Говорили об одном, а мыслью к другому метнулись. Среди всяких сказанных слов на заветное в разуме натолкнулись, а сказать его смелости не хватило. До завтра! Спасибо за прогулку.
– Проводить?
– Одна пойду. Потому вдруг не то друг другу скажем.
Косарева свернула с тропы в сторону и потерялась в темноте. Бородкин, дойдя до дороги на холм, пошел к конторе. Шел не торопясь. Думал о Косаревой и вновь признался, что она ему нравилась. Смелость ее суждений о подпольной работе сразу остановила внимание Бородкина. Всегда ее суждения ясно продуманы. С ней интересно говорить обо всем, а подчас и запоминать ею сказанное.
На террасе конторы у стола с горящей лампой сидел Жихарев. Увидя Бородкина, вошедшего в полосу света, смотритель спросил:
– Никак сон нагуливаешь, купец?
– Прогуливался по берегу.
– Подымись ко мне.
Бородкин вошел на террасу.
– Сами о чем с думами дружите?
– Ветер больно ералашный. Душевность моя с ним не ладит. Спать в полную силу мешает. Спросить мне у вас интересно.
– О понятном спросите, отвечу.
– Хочу знать ваше понятие насчет того, с чего вдруг полиция с гришинского прииска убралась?
– Вот про это ничего не знаю. Да и неинтересно мне знать. Из-за гришинской неприятности мне убыток: народ стал товаром интересоваться меньше.
– Всем должны, господин Бородкин, интересоваться, ежели с промыслами свою судьбу в один узелок связали. Я так думаю: словчил Гришин откупиться. Отсыпал кому следует золотишка, и аминь.
– Вы-то чего о чужом тревожитесь?
– Как так? Тревожусь, потому у Сучковых пребываю на должности. Обязан знать, что вокруг меня деется. Вы тоже возле сучковского богатства не сухую корочку жуете…
– Занятно судите. Мое дело торговое, а оно малость от приисковых дел в сторонке, а в гришинском деле политика примешана, а от этого упаси бог.
– Да, живем во времечко, когда гляди да думай. Макар Осипыч, лучше зайдем в горницу. Поговорить надо. Самую малость поговорим и разойдемся.
– Хорошо.
Жихарев взял со стола лампу, светя Бородкину, провел через контору в свою квартиру. В большой комнате мебели мало, но она похожа на ту, которой обставлен второй хозяйский этаж дома.
– Садитесь, где поглянется, – предложил Жихарев. Поставил лампу на ломберный стол, укрытый плюшевой скатертью. Оба сели в кресла около стола. Лица обоих освещены. Взгляд у Жихарева с прищуром, но взор от этого не потеплел.
– В прошедшую среду хозяйка меня в Златоуст по ее делам посылала. В городу довелось мне ненароком с исправником Зворыкиным повстречаться. Знакомы с ним?
– Не довелось.
– Ну, знамо дело, начал меня спрашивать о том и о сем. Да вдруг и предложил мне прокатиться в управление. Приглашение мне не понравилось, а вдобавок ехать пришлось в его пролетке. Вижу, люди на нас смотрят и наверняка думают, что погорел Жихарев. В управлении исправник провел меня в кабинет и давай допрос чинить, кто к хозяйке на Дарованный ездит. Конечно, кто на память пришел, тех назвал. Заинтересовало исправника больше всего то, что к хозяйке часто господин Новосильцев ездит. В этом деликатном вопросе я отмолчался. Тогда Зворыкин стал спрашивать про рабочих, про их поведение. Я опять все по-правильному рассказал. И тут он возьми и спроси меня про вас. Какое мое понятие о вас. Обрисовал я вас с самой отличной стороны. Прямо скажу, на похвалу не поскупился. Интересовался вами сурьезно.
– С чего бы?
– Была и у меня такая мысль. Чего, думаю, ему от купца надо. Но Зворыкин интерес к вам мне сам раскрыл во всей полноте.
– Чем?
– Своим повелением, данным мне.
– Каким повелением?
Жихарев загадочно улыбнулся, помолчав, заговорил.
– Оно и вас поначалу удивит. Велел передать, что имеет твердое желание, чтобы вы между своим делом повнимательней прислушивались и приглядывались к вашим рабочим. Главное, интересно исправнику, какие они обо всем суждения высказывают. Какие книжки либо газетки читают, нет среди читаемых таких, о коих народу знать не следует. Понятно сказал?
– Куда понятнее. Кому же обязан доносить обо всем?
– Мне, Макар Осипович.
– Значит?
– Второй год помогаю полиции на людях глаз держать.
– Неужли даром трудитесь?
– Зачем даром! За верность малость получаю. Мало, конечно, но все одно прибыток к тому, что на прииске от хозяйки имею. Мне сперва тоже неохота было впутываться в дела с полицией. Так пригрозили, и пришлось подчиниться.
– Пригрозили?
– Пришьем, говорит, тебе политическое дело…
– Так!
– Именно, что так! Мое дело приглядывать за Рязановым и Пестовым. Но оба хитрющие бестии. Как угодники живут, без единого слова про политику. Вы-то без особого труда станете за народишком приглядывать. Бабам нравитесь. С Косаревой, видал, прогуливаетесь. А между прочим, Косарева-то и есть тайный бабий поводырь. Даже мужики ее разумом не гнушаются. Разок-другой обнимите Людку – в доверие к ней войдете. От нашей ласки бабы дуреют, и все, что надобно, расскажут.
Бородкин порывисто встал на ноги. Жихарев удивленно спросил:
– Чего с вами? На лицо разом помучнели?
– Душно у вас.
– Да не в духоте дело. От ералашного ветра вам не по себе.
– Пойду.
– Погодите. Ладом подумайте об исправниковом желании. Купцы ноне самые верно подданные царю-батюшке. Вы купец, но только пока безо всякой гильдии. В случае вашего неповиновения полиции могут к сему принудить. А вам, как мне кажется, жить хочется спокойно безо всяких неприятностей с полицией. Ступайте, Макар Осипыч, на волю, лицо у вас больно бледное.
Бородкин, не простившись с Жихаревым, ушел. На террасе постоял, жадно глотая воздух. Рот наполняла горькая слюна. От приступа злости трудно дышать. Успокаивая себя, Бородкин, насвистывая, спустился с террасы и пошел к Пестову, жившему в избе возле приисковой котельной.
Лука Никодимович на стук Бородкина в окно открыл дверь и не удивился приходу позднего гостя, но когда в горнице на свету увидел его лицо, то, сокрушенно вздохнув, спросил:
– Опять до бледности обозлился?
– С Жихаревым беседовал! Провокатором предложил быть!
Пестов, не отводя взгляда от Бородкина, сухо спросил:
– Надеюсь, не отказался?
– Шутите?
– Не до шуток! – уже резко сказал Пестов. – Удивляюсь, что бледнеешь, забывая, что тебе нельзя бледнеть при любых обстоятельствах.
– Лука Никодимович!
– Понимаю твое негодование! Во власти злости твое сознание, что осмелились тебе такую подлость предложить. Обязан вида не подавать, что испепеляет тебя гнев. Связанным обязан его в себе держать до той поры, когда сможешь выплеснуть его из себя на всех ненавистников простого народа.
Пестов, заложив руки за спину, прошелся по избе, а подойдя к Бородкину, спросил, но уже со своей обычной душевностью в голосе:
– Ты кто, Макар? – И тотчас сам ответил на вопрос: – Большевик! Обязан помнить об этом в любой жизненной обстановке.
– Разве не помню?
– Не оправдывайся. Тебя ни в чем не обвиняю. Кем на прииске объявился? Купчиком. Так чего удивляешься, что полиция лезет к тебе с предложением через Жихарева, своего ей человека? Теперь скажи мне правду, не отказался от предложения?
– Нет.
– Правильно поступил! Тогда подумай еще вот о чем. Предположи, что Жихарев по поручению полиции, проверяя твою верноподданность, одновременно проверял и твою истинную принадлежность к купеческому сословию. Что, если тебя здесь уже кто-то опознал за того, кто ты на самом деле? Уральцы любят бродяжить по родному краю. Может найтись человек, кто помнит тебя не купчиком? Может… Гадать о плохом не станем, а, как говорят, поживем – увидим. Держи свои чувства всегда в крепком кулаке. Владеть собой тебе надо непременно научиться. А теперь о другом скажу. Софья Тимофеевна сняла свой запрет о твоих выездах с прииска только с ее разрешения. Так что съезди к Рыбакову и узнай, что было в записке, кою съел Ваня-Образок.
– Как узнал об этом?
– Совсем недавно перед тобой Косарева меня проведала…
Глава XVII
1
Олимпиада Модестовна, поссорившись с внучкой, прожила в Сатке больше недели. Осознав в одиноком досуге неправоту поступка с Лукой Пестовым, ранним утром приказала заложить тройку и после заводского гудка выехала с Ульяной на Дарованный.
Утро встало погожее. Листву на деревьях в заводских садах разбуравливал легкий ветерок. На улицах щипали траву стаи гусей. Правил тройкой кучер Демид. Зная привычки хозяйки по заводу, дозволил тройке в беге полную силу, но после Лисьего оврага, как только ельник перемешался с березовыми и осиновыми рощицами, перевел коней на шаг. Кореннику, любимцу старухи, жеребцу по кличке Зыбун это не нравилось, он, пританцовывая в шаге, сердито отфыркивался, мотая головой, дергал вожжи.
По обочинам дороги в низинах с лужами от недавних дождей подсыхал на солнце ночной туман, и блестели искорки обильной росы.
Подошла пора дружбы Осени с Сентябрем. Олимпиада Модестовна из всех времен года больше всего приветила Осень. С детских лет нравилась ей осенняя пора, когда в памяти накрепко угнездились сказы про Осень, слышанные от няньки-пестуньи Глафиры Ионовны, накопившей житейскую мудрость, перетаскав на своих плечах тяготы уральского крепостничества. Сколько лет прошло, а Олимпиада Модестовна не утеряла из памяти сказы про Осень. Да и запомнились они, видимо, потому, что в понятии уральских трудяг Осень не какая-нибудь царевна-белоручка из тридевятого царства, а самая что ни на есть привычная для народного глаза молодка сероглазая. Но Осень-молодку народная молва выряжает по-богатому, то в сарафаны красочной расцветки самоцветов, то в сарафаны из волнистых разводов малахита-камня и уж обязательно в душегрейки, отороченные то мехом белки, то лисьим.
Во всех сказах Осень возле простого народа как его помощница в горе и радости, принося старикам покой, молодым тревогу в разум, когда водит с ними хороводы, прихохатывая на гулянках с плясами. Всегда на людях Осень то в косынках из огненных закатов, в полушалках сиреневых сумерек, либо в нежно-розовых вуалях утренних восходов.
Награждает простой народ Осень пригожестью оттого, что она смотрится в зеркала озер и омутов, оттого, что расчесывает косы над говорливыми речками, роняя в них с гребешка нити-волоски, а то без устали стелет на гладь тихих рек тенета звездного отражения или рогожки, сплетенные из лучей лунного света. А как умается от всяких забав, заберется в глухомань молчаливой торжественности уральских лесов и грустит под шепоток затяжных дождей.
Извивается дорога по березовым рощицам, и видит Олимпиада Модестовна на ветвях кое-где желтые листья, но они еще держатся за ветки, не слетают с них от порывов ветра стайками мотыльков. И знает старуха из сказов, что оседает на листья пыльца с лаптей Осени, когда она гоняется наперегонки с ветром.
Помнит Олимпиада Модестовна, что в ее жизни эта осень шестьдесят седьмая по счету, и старуха уверена, что все они были по красоте в природе разными, непохожими друг на друга, недаром больше всего любит осенние рябины с кумачовыми гроздьями ягод в опушке из листвы под цвет шерсти лисиц-огневок.
Олимпиада Модестовна истово верит в правдивость народных сказов, убедившись, что только осенняя пора, чередуя погожесть и ненастье, пробуждает в людских душах добрые порывы, заставляя глубже задумываться о стремлениях сердца и разума.
Смотрит Олимпиада Модестовна на первичные знаки осени, понимая, что литавры лета уже отзвучали в голосах певчих птиц, что прошлой ночью слышала в опочивальне скрипы сверчка, а ведь они загодя выискивают себе щели для своих скрипичных рулад. И ей ли не знать, что осенью петухи все чаще просыпают зори да и поют как-то нехотя с хрипотой в голосах, захлебываясь на высоких нотах. Сатка славится петушиным царством.
Дорога нырнула в сумрачность леса. Высоченные ели тесно жмутся друг к другу, ощериваясь рыжехвойными ветвями возле комлей. Демид разом пустил тройку в бег. Олимпиада Модестовна машинально сунула руку в бархатную сумку, лежавшую на коленях, нащупав в ней холод металла пистолета системы Смит и Вессон.
Уже пять лет не расстается с ним после бабьего бунта на Серафимовском прииске, когда женщины, обозленные на обвесы в золоте, порвали на ней ротонду. Это был расцвет ее дружбы с Осипом Дымкиным, он подарил ей пистолет для обережения на промыслах и на лесных дорогах.
На Дарованном прииске тройка, миновав березовую рощу, выкатила экипаж с Олимпиадой Модестовной на поляну перед домом, и старуха даже подалась вперед, разглядев возле конторы вороную тройку, спросила кучера:
– Чьи кони, Демид?
– Знамо чьи. Гришинская тройка. Надо полагать, Лукьян не иначе как с пьяных глаз к нам пожаловал.
– Не скажи! У Лукьяна и у пьяного всегда все к месту.
Осадив тройку у конторы, Демид был поражен, что Олимпиада Модестовна без помощи Ульяны покинула экипаж, проворным шагом поднялась по ступенькам на террасу, пройдя ее, остановилась у раскрытой двери в контору, из которой доносились выкрики.
Никем не замеченная Одимпиада Модестовна наблюдала за происходящим в конторе. Видела Луку Пестова, Рязанова возле конторки, Софью Сучкову, скрестив руки на груди, прислонилась к стене между шкафами. Гришин шагал по конторе у перил перегородки с низко надвинутым на лоб суконным картузом. Говорил Гришин злобно, утверждая всякую сказанную фразу ударом кулака по перилам.
– Не дозволю тебе, Сучкова! Не дозволю, и баста! Заносишься, Сучкова! Понимай, Сучкова, что своим столичным манером вертеть подолом меня в свою власть не закрутишь. Сознавай, кто Лукьян Гришин. Он в крае сила, кою тебе любой своей беззаконностью не сломить. А ты что творишь? Старателей с моих промыслов к себе сманиваешь. Как смеешь тормошить моих людей?
– Вынужден заметить, Лукьян Лукьянович, – перебил Гришина Пестов. – Бабы ваши опрежь нашего желания от вас сходят.
– Задохнись, горбун! Задохнись! Не встревай в разговор. С хозяйкой беседую. С тобой стану по-другому говорить, да и в том казенном месте, в коем ты не на доброй замете. Понял?
Так вот, Сучкова, тебе мой сказ. Как молитву запоминай сказанное. Ежели не прикончишь творить беззаконие, я тебя, дуреху охальную, при честном народе самолично кнутом отстегаю.
Соплива новые порядки на промыслах заводить, всякими поблажками людишек сманивая. Кончай начисто жить по советам горбатого Луки. Памятуй, что именно с твоих промыслов исходит крамола всякого людского неповиновения хозяйской воле. Всю людскую шваль возле себя пригреваешь. Потакаешь народишку голос подымать на хозяев, позабывая, что времена ноне вовсе другие. Годок-то седьмой по счету идет, а не пятый. Ноне любой крамоле ходу нет. Ежели бедна умишком, бабку слушай. Она тоже не мудрец, но зато житейского навыка досыта наглоталась. Дура ты, Сучкова, хоть и грамотная. Ведь на что осмелилась? Осмелилась без страха глядеть на Лукьяна Гришина.
Но невозмутимо слушавшая выкрики Софья Тимофеевна порывисто подошла к конторке, взяла в руки лежавшие на ней счеты и изо всей силы ударила ими по перилам, крикнув не своим голосом:
– Молчать!
Счеты разломились. С их металлических спиц горохом рассыпались по полу желтые и черные кругляшки.
Гришин, опешив, глядел на бледную девушку, шагнувшую к нему с обломком счет в руке, торопливо забормотал:
– Но-но, не больно! Не из пужливых!
– Вон отсюда!
– Не больно, говорю, расходись! Я тебе покажу, как на меня орать!
– Вон! Или прикажу вышвырнуть!
Все еще не осознав происшедшее, Гришин, уставившись на Софью, сплюнув, направился к двери, но в ней стояла Олимпиада Модестовна. Они молча оглядели друг друга. Гришин, откашлявшись, заговорил:
– Здравствуй, Модестовна. Понимаешь, дело такое вышло. Распалился малость. Кипятковый характером. Разговор был.
– Слыхала. Посему немедля попроси прощения у внучки.
– Ты, вижу, сдурела. Думай, какие слова жуешь. Чтобы я?
– Клади гонор в карман. Проси прощения, что грозил ее кнутом отхлестать.
– Поди ты ко всем чертям. – Гришин вытер потное лицо ладонью.
– Отойди от двери.
– Слушай, Лукьян. Не доводи меня до греха. Мой характер тоже не больно студеный.
– Отойди от двери, старая! – Гришин толкнул Олимпиаду Модестовну, а она, размахнувшись, ударила его кулаком по лицу. От удара голова Гришина откачнулась назад, и с нее слетел картуз.
– Не послушался? Вот и получил за обиду сполна. Ступай.
Олимпиада Модестовна вошла в контору. Гришин, растерянно шевеля губами, нагнувшись, подняв с полу картуз, вышел в дверь.
Олимпиада Модестовна, проводив его взглядом, перекрестилась и села на стул, сокрушенно покачивая головой.
– Срам! Чистый срам! Два мужика, как перепуганные бараны, дозволяли на хозяйку кричать да обносить недобрым словом. Не узнаю, Лука, тебя. Видать, зайцем стал от старости?
– Не в том суть дела, Олимпиада Модестовна, – спокойно ответил Пестов.
– А в чем эта суть?
– В том, что со связанным гневом в разуме приходится жить. Но, конечно…
– Заставили старуху за честь хозяйки заступиться. Это как? Хорошо, по-вашему?
На вопрос Олимпиады Модестовны ни Пестов, ни Рязанов не ответили. Софья расцеловала бабушку.
– Спасибо, что приехала.
– Как ты распалилась, сердешная, дрожишь вся. Врага нажили доброго. Гришин по злобе хорек. Вы, мужики, никому не сказывайте, что я его кулачком ласканула. Сам тоже будет молчать в тряпочку. Значит, из-за чего же сыр-бор загорелся, Софьюшка?
– Обвинял нас.
– Что бабы с его промыслов к нам бегут? Ты, Лука, знал об этом?
– Софья Тимофеевна тоже знала. Мы их не сманивали, а тех, кто приходит, не гоним.
Олимпиада Модестовна довольно рассмеялась.
– Это не иначе, как бородкинские ситцы их к нам сманивают. Ну и правильно. Вот ведь как получилось. Не успела ладом оглядеться после приезда, а сразу в драку полезла. Пойдем наверх, Софьюшка. От волнения как-то сразу сникла вся.
Рязанов осматривал поднятые с полу обломки счет. Софья, заметив, весело засмеялась.
– Не беспокойтесь, подарю вам новые счеты. Чего вы так удивленно смотрите на меня?
– Поражен! Никогда не думал, что в такой изящной руке может быть такая сила. Счеты-то ведь немецкой работы.
– Я и сама не подозревала.
– Молодая у ней сила, бухгалтер. А ты хитер, студент. Смиренным прикидываешься, а на самом деле разглядел, какие руки у молодой хозяйки.
– Стараюсь, Олимпиада Модестовна, замечать любую красоту в людях и в природе.
– Слышишь, Софьюшка, как напевает. Пойдем, милая. Капли успокоительные надо принять. Ведь как звякнула мужика, даже картуз не удержался, а все оттого, что посмел толкнуть мою старость.
Софья, взяв бабушку под руку, направилась в конторе к лестнице на второй этаж.
После их ухода Пестов, заложив руки в карманы, заходил по конторе. Остановившись у окна, сказал Рязанову:
– Пожалуйста, Жихареву не говорите о происшествии.
– Не беспокойтесь. Все останется между нами. Гришин сейчас тоже волнуется, чтобы удар кулачка Олимпиады Модестовны не стал гласностью. А ведь какова. И как ловко бьет. Видимо, большой навык в этом.
– Вы о чем хотите сказать?
– Так, ни о чем. Кое-какие мысли зашевелились в голове. Старая хозяйка при крепостном праве народилась.
– Меня поразило другое, что Гришин стерпел поношение.
– Его злобу парализовал ловкий удар кулака. А счеты мне жалко, любимые были. Костяшки на них ловко щелкали.
– Бородкин вам лучше найдет. Кстати, где же Бородкин? Который день не вижу его.
– В Златоуст уехал. Слышал его разговор с Софьей Тимофеевной…
2
С утра шел совсем по-осеннему мелкий, затяжной дождь. Серые, лохматые тучи нависали над Дарованным. Ветер раскосмачивал смолистый дым из труб паровых котлов, гнал его клубы, расчесывая их о вершины елей и берез на холме.
Работы на прииске шли под привычные шумы, но без песен, ибо ненастье нагоняло тоскливость. В людских разумах, особенно у женщин, начинали копошиться мысли обо всем нерадостном, что жило в их душах, остуженных теми или иными житейскими невзгодами.
Непривычно для артели вела себя сегодня на работе Людмила Косарева. Не слышали товарки по работе ее привычных прибауток. Только изредка она свистом подавала знак, чтобы у тачек не задерживались с разговорами, не теряли время из-за случайных едких слов, кем-то кинутых из подруг, и обидой прилипавших к тому или иному ранимому женскому самолюбию.
Артель следила за настроением Косаревой, но, зная ее характер, никто не решался спросить о причине хмурого состояния, зная, что она ни перед кем душу не раскроет.
Узнав от Пестова об отъезде Бородкина в Златоуст, Людмила волновалась, что он там непривычно долго задержался. Причины для волнения водились. Наезжали казаки на промыслы возле Миасса. А это ли не причина для тревоги? Кроме того, Людмила до сих пор не забыла о записке из комитета, которую пришлось проглотить Ване– Образку на гришинском прииске. Кто знает, что было в ней написано Бородкину? Знала Людмила и о недавних беспорядках в Каслях и Кыштыме. Думала, что седьмой год походил по тревожности на недавние пятый и шестой. Волнуясь, Людмила ловила себя на мысли, что ее тревога о Бородкине не только как о товарище по подполью, а скорей о человеке, запавшем в ее память, для которого в разуме и сердце есть то особенное тепло, от которого захватывало дыхание.
Дождь шел, то затихая, то усиливаясь, от этого для Людмилы нестерпимо долгим был рабочий день…
В сумерки, пошабашив, возвращаясь с делянки в барак, Людмила с радостью увидела, как Бородкин верхом подъехал к конторе.
Людмила вышла из барака, сразу утонув в темноте вечера. Шла по тропе к избе Пестова. Дождь попритих. В разрывах туч мерцали звезды. В окнах бараков и изб на прииске тусклые огни. Людмиле сейчас казались они ласковыми, она с удовольствием прислушивалась к веселому лаю собак.
Подойдя к избе Пестова, Косарева постучала в освещенное окно, вошла в сени, открыла двери в горницу, увидев за столом с кипящим самоваром Пестова и Бородкина.
– Не прогоните, Лука Никодимыч?
– Смелей заходи. Ко времени подошла. Новости Макаровы слушаю.
– С приездом, Макар Осипыч. – Косарева поздоровалась с Бородкиным за руку. – Тревожилась: долго гостили в Златоусте.
– Сам не ожидал, что на четверо суток задержусь. Зато с новостями вернулся.
– Неужли с плохими?
– Как взглянуть.
Пестов, выйдя из-за стола, достал из буфета стакан с блюдцем и налил Косаревой чай. Бородкин молча мешал в стакане ложкой.
– Макар, повтори все, что мне сказал, – попросил Пестов.
– Обязательно. Начну с жандармов. Ротмистру Тиунову в помощники прислали корнета по фамилии Савицкий. Будет он специально ведать порядками на приисках.
– Интересно.
– По нашему уезду увеличили численность конной полиции.
– Ее и так было вдоволь.
– У инженера Захарова произвели обыск.
– Он, кажись, был помощником у Вечерека? – спросила Косарева.
– Угадала. Хотя ничего не нашли, но по приказу уфимского губернатора инженера с завода уволили и из Златоуста выслали.
– Невеселые новости, Макар Осипыч.
– Ты дальше слушай. На станции Бердяуш арестовали двух машинистов. Есть опасения, что в уфимском подполье завелся провокатор. А вот и самая плохая для нас новость. В Долматовской топографии, печатавшей для нас прокламации, неделю назад взяли товарища Фому.
– А Ваня-Образок?
– Пока, видимо, на свободе. Парнишка с головой, сумеет затаиться.
– Узнал, что было прописано в записке, которую Ваня съел?
– Узнал. Комитет приказывает соблюдать сугубую осторожность во всех наших делах. К людям внимательней приглядываться. Опасаться Жихарева. Одним словом, беречь на приисках партийную дисциплину.
– Все сказал? – спросила Косарева.
– Все.
– Хозяйке сказал об аресте Захарова?
– Зачем?
– Дружит она с Вечереками.
– Это нас не касается. Поутру, Косарева, всем, кому надо скажи, караулить Ваню-Образка и упредить, чтобы на промысле не маячил. А меня извиняйте. Пойду лягу, потому познабливает.
– Должно, остудились?
– Промок. Покойной ночи.
После ухода Бородкина Пестов внимательно осматривал Косареву.
– Чего не глянется во мне? – спросила она, улыбнувшись.
– Хмурость тебе не к лицу. Новости, прямо скажу, невеселые, но ведь мы с тобой и похуже слыхали.
– Хмурость во мне по другой причине, Лука Никодимыч.
– Причина секретная?
– Какие секреты от вас. Чать, за родного отца почитаю.
– Вот и сказывай разом.
– Душу невзначай любовью занозила. Оттого сама не своя. – Замолчав, Косарева склонила голову. Пестов, покашливая, встал и заходил по горнице.
Косарева прислушивалась к шарканью шагов, не поднимая головы, тихо сказала:
– В Бородкине моя причина.
– Так! Умеешь, Людмила, одаривать нежданностями. Сказала ему?
– Нет.
– Не девица, чтобы таиться. Должна понимать, что невысказанная любовь для женской души – отрава. А ведь ты с разумом.
Косарева встала.
– Пойду, Лука Никодимыч.
– Ступай, но про сказанное мною помни. Отрава – невысказанная любовь для бабы. Рад, Людмила, что со своим душевным теплом к Бородкину подошла. Нужна ты ему. Ступай. Спасибо, говорю, за доверие ко мне…
Уйдя от Пестова, Косарева, свернув на тропу к реке, услышала торопливые шаги. Остановились. Шаги все ближе и ближе. Косарева спросила:
– Кто это?
– Я, Люда!
Косарева почувствовала, как сильные руки взяли ее за плечи, ощутила на своем лице теплоту прерывистого дыхания.
– Напугал меня до озноба, Макар Осипович. Пошто же не лег? Ведь не можется.
– Хотел поблагодарить, что тревожилась обо мне.
– Ведь и ты обо мне думал?
– Думал. Провожу тебя.
– Не надо. Одна мигом дойду.
– Обязательно провожу. Может, скажешь что?
– Скажу. Люблю тебя, Макар Осипыч.
– Люда, милая…
Бородкин обнял Косареву, а она спокойно и твердо сказала:
– Только не целуй. Себя спроси ладом, подумав над тем, что сейчас сказал. Пойдем. Возьми меня под руку. Волнуюсь.
– Люда!
– Молча иди. Станешь говорить, задохнусь от волнения.
Посвежевший ветер упорно разгонял тучи ненастья. Небо в ярких бусах звезд. Весело лают собаки.
3
Взорванная неизвестными злоумышленниками плотина запруды на Серафимовском прииске заставила Софью Сучкову в сопровождении Луки Пестова прибыть на место происшествия. К счастью, взрыв запруды был произведен поспешно и неумело. Проран[15]15
Проран – промоина, отверстие в плотине, дамбе, прорванной водным потоком.
[Закрыть] через сутки ликвидирован благодаря дружной работе старателей, для которых вода в пруду была по ценности вровень с золотом, ибо без нее могла остановиться вся работа по его добыче, однако частичный спад воды причинил промыслу беды, залив делянки, снеся старательский инвентарь, затопив несколько рабочих казарм, нанеся значительный убыток.
Пробыв на прииске двое суток, Софья собралась уже ехать на Дарованный, но неожиданно отложила поездку из-за приезда жандармских офицеров под внушительным эскортом конных полицейских.
Встревоженная их появлением Софья была вынуждена принять нежданных визитеров в помещении приисковой конторы. Оба жандарма в мундирах, ладно пригнанных по фигурам, надушенные. На Тиунове особенно изящно сшитые тупоносые сапоги с лаковыми голенищами.
Софья сидела за смотрительским столом. Напротив нее на шатком венском стуле, заложив ногу на ногу, сидел корнет Савицкий, рано облысевший щеголь с моноклем в глазу и, несмотря на смущение девушки, пристально ощупывал ее взглядами. Тиунов, позванивая шпорами, ходил по конторе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































