Текст книги "Связанный гнев"
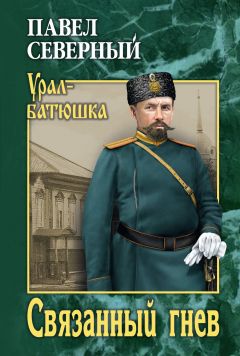
Автор книги: Павел Северный
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
– Умостилась, стало быть, в семейном гнезде?
– С Егором ей хорошо. Из девки справная жена выйдет.
– Слава богу. Наскакалась досыта, навертевшись подолом. Пусть счастливо живет, девка неплохая. К себе меня зовет?
– Оба просят, чтобы ты с Васюткой погостить к ним приехала.
– Пожалуй, можно съездить, ежели отпустишь со двора. Должна тебе, Аннушка, упреждение высказать.
– Какое еще упреждение?
– Тревожность у тебя под крышей заводится. Маруся ту тревожность с собой приволокла. В запахах та тревожность. Слов нет, запахи душистые, но в твоей избе чужие. У меня от них голова мутится да туманится.
– Оттого, что сама никогда не душилась.
– Верно сказала.
– Маруся живет по столичной моде, оттого и запахи у нее модные.
– Сама не слепая, вижу, что по-модному живет. Платья на ней и те не по-нашему скроены. Надень их на меня, так буду ходить, как корова в сбруе.
– Красиво дочка одевается.
– Все на ней как полагается. Вот седни вся в белом ходила, как лебедушка. Налюбоваться на нее не могла. Уродится же, прости Господи, такая красотка. Ты в молодости была конфеткой, а она тебя за поясок заткнула. Только ейный голос меня пугает. Холодный такой. Скажет, будто гвоздиком слова к памяти приколотит. Иной раз ее слово и не поглянется, а оспорить его боязно, уж больно по-решительному высказано. Седни утром позвала меня с Лукерьей. Просила помочь чемоданы уложить. Белье свое показывала, да прямо им на греховные мыслишки навела. Белье-то все сквозное. Одни кружева, да в ем, поди, все одно, что нагишом.
– С чего чемоданы складывала?
– Да не складывала. Думаю, хотела перед нами своими нарядами похвастаться. Аль тебе не понятно? В девках сама, помню, норовила всякой новой юбчонкой перед подружками хвастануть.
– Маруся спит?
– Како там! Опосля ужина с Михайлой Павловичем пошли на лодке поплавать.
– Стало быть, помирились. Хорошо!
– Хорошего, Аннушка, не больно много.
– Луша отчего с ними не пошла?
– Ее не позвали. Лукерья с утра книжку читает, так ходит, как ошпаренная. Маруся ей книжку дала. Поди, занятная. У Лукерьи от нее ажно глаза в блеске. Видать, книжка про любовь. Про то, как мужикам баб обманывать. Ноне бабы тоже хороши. Любовью, как шарфиком, укрываются, да и начинают с мужиками в жмурки играть. И до того заиграются, что под конец реветь зачинают.
– Почем знаешь? Ты таких книжек не читала.
– От людей про то слыхивала. Вот, к примеру, Настеньку взять. Начиталась книжек и стала у бабы парня отбивать, а та баба книжек не читала да лопатой и угостила Настеньку, оберегая полюбовничка.
Из открытых окон избы донесся бой часов.
– Десять часов.
– Времячко, Аннушка, шагает. Ему некого дожидаться.
– Ступай спать, Семеновна.
– Пошла бы, да уж больно душно. Пожалуй, посижу еще. Ночь по свету, что тебе день. Гроза скоро накатит. С утра седни ее чую, потому сердечко, как бараний хвост, мотается.
– И я чувствую грозу.
– Сама ляг. Аль не пристала с дороги?
– Марусю подожду.
– Зря. В озере она не утопнет. Оно седни вовсе, как зеркало.
– Но лодки на нем не вижу.
– Подле берега, видать, плавают. Вот что, Аннушка, мое дело сторона, но только ты Михайлу Палыча на время, покедова Маруся гостит, отошли по какому делу в Миасс.
– Зачем?
– Затем, чтобы чего неладного не вышло. Он парень молодой. Маруся ладная девушка. Одним словом, кабы они промеж собой какую игру не затеяли. Люди они нонешние. Книжками разум туманят, а для тебя их игра может горем обернуться. Сама вспомяни, как шуткой со студентом начала забавляться, а сердце твое возьми да и налейся взаправдешной любовью. Я одинова тоже крепко к мужику прикипела. Сперва будто просто лаской согрешила, да не поняла, как полюбила, дороже жизни он для меня стал, а когда кинул меня ради молоденькой, я как очумелая по свету бродила.
– Да будет тебе, Семеновна. Слушать не хочется. Выходит, ежели люблю Михаила Павлыча, то он не может с девушкой на лодке покататься?
– Может. Говорю к тому, что уплыть на ней может от тебя.
Анна звонко рассмеялась.
– Насмешила тебя? Видно, по глупости да по старости зря за тебя тревожусь. А все оттого, что ночь седни греховная. Луна в полный свет и духота.
– От этого и тревожишься напрасно.
– Все может быть. Только я бы со своего милого глаз не спускала, даже с родной дочерью наедине не оставляла. Берегла любимого.
– Как понять не можешь такого пустяка. Марусе здесь скучно. Вот она и проводит время с Михаилом Павловичем.
– В материнском-то доме скучно?
– Напрасно завела разговор о таком. Еще думать начну вовсе о зряшном.
– Думать не надо, а душу с любовью тебе надо беречь. Потому любовь из души может сквозь очи уйти. Одначе пойду. За сказанное обиды на меня не утаивай. Ты для меня как родная дочь. Коня сама распрягу.
Бабушка Семеновна, покряхтывая, встала на ноги.
– Духотища какая!
Спустилась с крыльца, пошла к воротам, растворив их, завела лошадь во двор. Закрывая ворота, сказала:
– Неохота мне тебя в горести увидать. Михайло Палыч мужик хороший, но дочка твоя тень с тебя молодой. Ошибиться он может при такой луне, за тебя ее признать.
Ушла Семеновна. Анна осталась сидеть на крыльце. Смотрела на лунное озеро…
* * *
Лодка плыла по черно-синей теневой полосе, отражавшей в себе все, что было на берегу. Теневая полоса на озере неширока, за ней вода горела голубым светом, стушеванным вдали туманом.
Болотин греб, бесшумно погружая весла в воду. Мария в белом платье сидела на корме. Смотрели друг на друга. Когда лодка выплывала на свет, Мария походила на облачко, и тогда от ее взгляда Болотин отводил глаза в сторону.
– Неужели так и не ответите на мой вопрос? – спросила Мария.
– Не знаю, что ответить.
– Вопрос ясен. Скучали без меня прошедшие дни?
– Все время думал о вас.
– Я также. Вначале решила, что ни за что больше не буду встречаться. Собиралась уехать, но не смогла и, наконец, сегодня позвала кататься на лодке.
– Я рад. Нет, просто счастлив.
– Запомнила вас в первый вечер, когда после приезда показывали озеро. Удивлялась, почему так властно заставили меня думать о вас. Решила, что вы простой и ясный. Потом мы говорили о революции, и вы стали мне дорогим и близким. Ваши слова о женщине запомнились… Потом узнала, что между нами стоит мать. Но разум и тогда не отказался от вас. Чтобы освободить память от вас, старалась уверить себя, что слишком молода, чтобы коверкать свою и материнскую жизнь. Михаил, я поняла, что полюбила тебя.
Болотин, опустив весла, наклонил голову.
– Правду говорю, и мне не стыдно признаться в чувстве.
– Мария…
– Разве нужно было молчать?
– Я молчал.
– Чтобы, расставшись, унести друг от друга тайну? Страдать в одиночестве, не сказав прекрасное слово, от которого радостным становится само существование? Я не могла молчать. Во мне есть смелость молодости, не позволившая мне молчать о первом чувстве. Люблю тебя, Михаил. Не хочу молчать об этом. Люблю так сильно, что ставлю чувство рядом с чувством и страстью матери, не будучи уверена, что будешь способен протянуть мне руки. Полюбив, собираюсь стать твоей женщиной, ради которой пойдешь рядом со мной в жизнь. Сейчас должен сказать мне, что выберешь для своей жизни: меня или мать. Веришь в мое чувство?
– Сам люблю тебя!
– Мой ты?
– Да.
Мария пересела в лодке на скамейку рядом с Болотиным.
– Осторожней!
– Не бойся, до тебя только шаг.
Сидела, прижавшись головой к его плечу, потом поцеловала его:
– А теперь будем молчать.
Болотин обнял Марию, а она шептала:
– Завтра уедем в Златоуст, обвенчаемся, и в Москву. К новой жизни со светлыми стремлениями.
Прислонившись спиной к перилам крыльца, Анна не отводила глаз с озера. В избе часы пробили одиннадцать раз. Сосчитав бой, Анна встала, пошла к двери в дом, но, оглянувшись вновь, не увидела на озере лодки. Беспокоилась. Налетел порыв ветра. Зашуршали листья берез. Прислушиваясь к их шелесту, спустилась с крыльца, пошла к озеру. Налетавшие порывы ветра шуршали листвой кустарников. Анна шла по тропе не торопясь, поглядывая на небо, половину которого уже закрыла грозовая туча. Выйдя на поляну среди скал, постояла, вспомнив, что именно на этом месте впервые прижалась к груди Болотина.
Ветер усиливался. На озере ходили волны. Услышала смех Марии и переведя взгляд, увидела лодку у берега, из нее Болотин на руках вынес дочь, она, обняв, целовала его. Потом Мария побежала по тропинке. Анна спряталась за выступ скалы. Они скоро прошли мимо нее. Анна совсем ясно услышала слова дочери:
– Хочешь, будем до утра вместе?
Ответа Болотина Анна не расслышала. Стояла окаменев. Вышла из-за скалы, когда на поляне никого не было. Шумно шелестела листва кустарников. Трава, приминаемая ветром, ложилась к земле и вновь выпрямлялась. Анна не могла двигаться. Ноги стали тяжелыми-тяжелыми, она села на тропу…
* * *
У крыльца Мария снова поцеловала Болотина.
– Иди, милый. До утра.
Болотин ушел во двор через калитку. Мария вбежала на крыльцо, столкнувшись в дверях с бабушкой Семеновной.
– Мама дома?
– Недавно тут сидела. Видно, пошла к озеру тебя встречать.
– Бабушка, я такая счастливая!
– Вот и хорошо!
– Который час?
– Полуночный подходит. Смотри, в темноте сенок со счастья не испужайся чего.
– Пойдем, помоги лампу зажечь. Как темно стало…
– Гроза сейчас выльется.
Семеновна впереди Марии пошла в сени, из них в избу. Зажгла в горнице на столе лампу. Залетавший в окна ветер надувал занавески парусами.
– Поди, закрыть окна-то?
– Не надо. Люблю грозу.
– Воды в избу нахлыщет.
– Гроза скоро проходит.
– Не всякая, Марусенька, иная бывает затяжная.
Пошел сильный дождь.
– Где же мама?
– Тебя встречает. Тревожится за тебя.
Семеновна закрыла окна, по стеклам застукали крупные капли дождя.
– Покойной ночи, Маруся.
– Покойной ночи!
Старуха, прищурившись, оглядела Марию и вышла. Мария, напевая, начала раздеваться. В горницу вошла вымокшая под дождем Анна. Остановилась у порога и смотрела на дочь. Часы пробили полночь.
– Что с вами, мама? Такая бледная. Где были?
– К озеру ходила тебя встречать.
– Как жаль, что разошлись.
– Встретились, только меня не приметили.
– Зачем меня встречала? Не маленькая. Была с Михаилом Павловичем.
– Видела, что с ним была. Он тебя на руках из лодки вынес, поцеловала его.
– Мама?
– Видела, доченька.
– Следили за мной?
– Случайно увидела, как душу мою обокрала.
– Люблю Михаила.
– Мой он, доченька. Нельзя тебе его любить. В нем вся моя судьба. Молода ты, и не поймешь, как мне тяжело его потерять.
– Любовников у меня еще не было.
– Как посмела такое сказать?
Анна, сжав кулаки, пошла к дочери. Мария, отходя от матери, прижалась к стене.
– Бить начнете?
– Маруся! Доченька! Люблю его! Неужли ничего не сказал тебе? Скажи Михаилу, что пошутила ты.
– Нет!
– Не смей его отнимать у меня. Иначе…
– Проклянете. Но я не боюсь.
– Мать просит тебя, доченька.
– Вы мне чужая. Мать, но совсем чужая.
– На коленях стану тебя просить.
– Встаньте! Неужели вам не противно унижаться?
Анна, стоя на коленях, просила:
– Уезжай отсюда. Он тебя забудет.
– Мы завтра вместе уедем. Не оставлю его погибать в вашей трясине. Не намерена ради вас лишаться счастья. У меня хватит сил защитить свое счастье даже от вас.
Анна встала с колен и сурово спросила:
– Хватит сил, говоришь, защитить счастье от меня? Думаешь, у меня не найдется сил защитить Михаила от тебя?
– Защищайтесь.
– Мария!
– Защищайтесь! Торопитесь! Утром будет уже поздно.
– Маруся!
– У вас нет сил заставить его поверить в вашу любовь. Он верит сейчас в мою. Для чувства нет матери и дочери, а есть женщины. Его воля опутана волей моего чувства. Это жестоко. Знаю об этом. Мне тяжело видеть горе, которое причинила вам. Но если бы Михаил любил вас, а я была на вашем месте, то не просила бы, перенесла бы боль и страдание молча, во мне выше всех чувств гордость.
– Нет у тебя гордости, если воруя попалась.
– Вы не поймали меня. Почему не вырвали его из моих объятий?
– Воровка!
– Пусть будет так. Оставьте меня в покое, или уйду.
– Никуда не пущу.
– Меня нельзя остановить.
– Заставлю слушаться.
Мария нервно засмеялась. Анна заслонила дверь. Мария пошла к двери.
– Пустите!
– Мария.
– Пустите! Не могу отказаться от Михаила. Я такая, другой быть меня никто не научил. Вашу ласку только теперь узнала.
Анна приникла головой к косяку двери и, слабо вскрикнув, упала на пол, громко разрыдалась. В горнице появилась Семеновна и строго сказала Марии:
– Уйди на крыльцо. Сама ее успокою.
Мария ушла. Старуха опустилась перед Анной на колени.
– Аннушка, я это. Подымись. Ляг пойди. Реветь не переставай. Выплачь горе. Только встань. Дай помогу.
Анна, приподнявшись на руках, оглядела горницу.
– Маруся где?
– На крыльце.
– Не обидела ты ее чем?
– За что мне ее обижать?
– Она не виновата. Сама я от всех правду утаивала.
– Ни на ком нет вины. Чувство любовное иной раз вредом для души оборачивается. Ляг в постель.
Анна покорно поднялась на ноги, попросила старуху:
– Никому ничего не говори.
– Да разве не понимаю, Аннушка.
Старуха увела Анну в опочивальню, уложив в одежде в постель, вышла на крыльцо, позвала:
– Маруся!
– Что, бабушка?
– Сделай милость, уезжай поутру пораньше. За матерью я сама пригляжу. Плачет сейчас, а это хорошо. Как только светать начнет, велю коней запречь. Не гоню тебя, так для всех лучше будет. Умная ты девушка, а чутья душевного в тебе мало ютится. Только выговаривать тебе об этом не мое дело. Сама поймешь, придет время…
5
На рассвете гроза стихла, но дождь не прекратился.
Семеновна сама распахнула створы ворот. Из темноты двора рысью выбежала гнедая пара, запряженная в крытый экипаж. Мария и Болотин уехали. Старуха на дожде долго стояла у раскрытых ворот. Заперев ворота, вернулась в кухню. Поставила самовар. Сходила в горницу. Прислонив ухо к двери Анниной опочивальни, прислушалась. Приоткрыв дверь, заглянула в комнату, увидела, что Анна крепко спала. Вернувшись в кухню, подкинула в самовар углей, разбудила спавшего на палатях Васютку. Мальчик тотчас спросил:
– Кто это уехал от нас в эдакую рань?
– Маруся с Михаилом Палычем.
– Пошто же?
– Понадобилось. Отгостили. Чего на меня бычком глядишь? Отгостили, говорю, и все тут.
– Вот так?
– Именно!
– Да я с ними не простился.
– Не успел, значит?
– А матушка где?
– Спит.
– Не проводила их?
– Ох и говорун же ты, Васютка. С вечеру она с ними простилась.
– Дожжит на воле?
– Мокреть.
– В ненастье уехали. Видать, торопились?
– Помолчи. Штаны скорей надевай. Твоя какая забота. Тарантас-то крытый.
– Все одно надо было переждать.
– Совета твоего забыли спросить.
– Куды уехали-то?
– На кудыкину гору с медным запором, для коего у твоего носа ключа нет.
Спускаясь с полатей, Васютка, держась за их край руками, перевернулся, как на трапеции, и спрыгнул на пол. В кухню вошла Анна.
– Доброе утречко, маменька.
– Встал уж?
– Маруся с учителем недавно уехали.
– Знаю. Занемогла я.
Семеновна приказала мальчику:
– Сбегай, Вася, в погреб за молоком. Смотри, слизывая сливки, пальцы в кринках не полоскай.
– Зря в таком безобразии обвиняешь, – оправдался мальчик и ушел.
Анна села на лавку возле стола. Спросила:
– Уехали?
Старуха молча кивнула головой.
– Во рту все пересохло.
– Сейчас чаю попьешь. Вместе будем пить.
– В непогоду и то уехали.
– Не думай про то. Сама их проводила.
– Чего сказали тебе?
– Ни единого словечка.
– Чудно мне. Уехали, а душа моя по ним не болит.
– Так и положено. Когда руку кипятком ошпаришь, она сразу не болит, опосля болеть зачинает. Твою душу кипятком горести ошпарило.
– Потом, говоришь, заболит?
– Обязательно, но ты рассудком ее полечишь.
– Не смогу такую боль перенести.
– Должна! Мы, бабы, так и сотворены, чтобы всякую боль осиливать. Должна, Аннушка! Хотя после твоей боли, как после оспы, на душе шадрины останутся…
* * *
После полудня дождь прекратился, выглянуло яркое солнце. Напившись утром со старухой и Васюткой чая, Анна снова легла в постель. Старуха просила Лукерью поглядывать за Анной, объяснив, что та недовольна скорым отъездом дочери, а сама боялась, чтобы Анна сгоряча не сотворила чего неладного.
За обедом Анна была спокойна, даже бледность сошла с лица. Рассказала старухе и Лукерье, что Луганин доверил ей присмотр за своими приисками. Поэтому она к осени переберется в Златоуст. А заимку оставит на попечении Катерины с Дуняшей.
Разговор Анны старуха слушала с тревогой, думала, что она бредит. Не спуская глаз с Анны, она хотела по глазам прочесть подтверждение, что рассудок Анны все же не выдержал горя и она стала заговариваться. Но на удивление старухи глаза Анны были прежними, ясными и снова властными, только веки их припухли от обильно пролитых слез. Заметив растерянность старухи, Анна, встав из-за стола, крепко ее расцеловала.
– Вижу, родимая, напугалась моего рассказа. Со мной будешь в Златоусте. Мне без тебя нельзя. И ты, Луша, со мной будешь. Мы неразлучные.
– А я, маменька? – спросил Васютка.
– А сын всегда при матери. Пойдем, Луша, погуляем возле озера. Расскажу тебе кое о чем…
* * *
Вечером, когда Тургояк-озеро отливало серебром под лунным светом, Семеновна, все еще тревожась за душевный покой Анны, сидела на крыльце. Старуха, услышав, как отворились ворота, обернувшись, увидела, как вышла Анна, одетая в лучшее праздничное платье черного муарового шелка, ведя под уздцы запряженного в тарантас коня.
Подведя лошадь к крыльцу, подошла к старухе.
– Куда ехать собралась? Да и нарядилась.
– Ради праздника своего нарядилась.
– Непонятно говоришь, Аннушка.
– Подумай ладом, может, поймешь.
– Думать мне недосуг. Куда бы не подалась, одну тебя не отпущу.
– Сама хотела тебя с собой позвать. На празднике возле меня только одна и будешь.
– Какой, голубушка, праздник? Ночь на воле. Лучше завтре поутру съездим. Куда бы не поехали, сейчас везде ночь. Люди скоро спать улягутся.
– Не спорь со мной. Ежели дорога тебе, то садись в тарантас.
Старуха, сокрушенно вздыхая, села в тарантас, следом села Анна, и вороной горячий жеребец взял с места…
* * *
Не чувствуя удержу, конь шел размашистой рысью по сырой дороге. Из-под копыт в стороны разлетались брызги воды, блестевшие под луной.
Ехали по лесной дороге уже больше трех часов. Старуха, прижавшись к боку плетенки, покряхтывала на ухабах. Дорога вилась лесом, перебигая через мосты, овражки, речки и, не узнавая ее, старуха наконец спросила:
– В какое место катим? Что-то этой дороги не упомню.
– Ты по ней не езживала. На свою свадьбу тебя везу.
Старуха размашисто перекрестилась.
– Не крестись, родимая! Разум я не утеряла. Верно говорю, что везу тебя на свою свадьбу.
Анна прикрикнула на лошадь и та, прижав уши, побежала быстрее.
Вскоре из-за поворота показалась деревня. За тарантасом, заливаясь громким лаем, побежали собаки, проводили до самой околицы, а за ней в ложбинке замигали огоньки прииска. Анна остановила лошадь у конторы. На сложенных бревнах сидел старик возле костра. Анна спросила его:
– Хозяин дома?
– Куда денется. Видишь, свет в окошке, выходит, не спит.
– Скажи ему, чтобы гостей встречал.
– Кто такие будете?
– Не признаешь?
Старик, сняв шапку, подошел к тарантасу.
– Разглядел?
– Анна Петровна! Какая оказия, издалека-то мне невдомек, что ты пожаловала. Плоховато зырить стал на свет Божий.
Услышав разговор, из конторы вышел Петр Кустов и, увидев Анну, побежал к тарантасу.
– Что случилось, дорогая?
– Помоги на землю ступить, Петя.
Анна вылезла из тарантаса и, положив руки на плечи Петра, сказала:
– Теперь целуй.
– Аннушка!
– Да целуй же, Петя. Женой к тебе приехала.
Оправившись от растерянности и удивления, Петр поцеловал Анну. Обнявшись, они пошли в контору.
Старик караульный, почесав затылок, надев шапку, смотрел на старуху в тарантасе.
– Чего глядишь? Сколь затылок не чеши, а Аннушка правду сказывала, что на свадьбу меня привезла.
– Экая оказия произошла с хозяином. Стало быть, муж он Волчицы?
– Стало быть, так. Порознь сколь годков жили, а тепереча вместе. Пособи земли коснуться.
Караульный помог Семеновне вылезти из тарантаса.
– Ну, молодец. Хоша я тебе не невеста, но приехала сюда по своей воле. Укажи доброе местечко, чтобы могла лежа ночь скоротать, а главное, от ухабов на вашей лешачьей дорожке кости в себе сызнова по-правильному сложить. Сеновал водится?
– Как не быть сеновалу. Живем не по-бедному.
– Ну вот и веди к сеновалу. На сене-то я отлежусь…
Глава XV
1
Лето протаптывало тропы августовской поры. На лугах зароды и стога сена, а на пряслах вокруг них сплетничали сороки.
На приисках под смех и плач людской жизни отмывали от грязи золото, а безысходность этого извечного надрыва трудового быта складывали только тоскливые напевы гармошек.
Лето стояло ведренное, но засухой народ не пугало, ополаскивая землю дождями, а то и грозами…
Перед полуночью в лесной глухомани ожила та таинственная тишина, когда даже веточки валежника перестают похрустывать под бойкими лапками ежа.
Заповедный лес обжал со всех сторон озеро. Начисто спрятал его от людских глаз. Вдался в озеро мыс клином и держит его, озеро, в своих водяных ладонях. На мысу пчелиное хозяйство деда Пахома. Лесная пасека. На замшелых стволах лесин среди рогатых сучьев навешаны колоды ульев. Стоят они и на земле среди валунов-катунов в густой перепутанной траве. Среди них на пригорке почерневший от древности сруб часовенки, окруженный березками, будто девичьим хороводом.
Высокое небо опутано тенетами звездного мерцания. Шар закатной луны уже притушил серебристый блеск света, сменив его на тусклый отсвет стынущего чугуна, вылитого из доменной печи. Остывает луна. Не светит. Не украшает колдовством природу, застилая ее ковровыми узорами, сплетенными из бликов света и теней.
Туман над озером стелется слоистыми вуалями. Просвечивая сквозь них, отражение луны не полощется в воде, а висит над ней в переливах искрометной сырости тумана.
У самой воды валуны в осоке и камышах. Тропка среди них к плоту, к которому привязана лодка, промявшая собой дорожку среди кувшинок.
Под лапами ели на валуне в плюще серого мха дед Пахом. Несет дозор. Возле его избы люди собрались на тайную сходку. Место на мысу глухое, но все равно зоркий глаз нужен, потому у полиции тоже водятся глаза. Пахом староват через меру, хотя высок и жилист. Седым волосом на голове и в бороде богат, да и волос в них крепок, потому в зубьях гребешка, выдираясь, не застревает. Накинут на плечи старика овчинный полушубок. Возле воды телу ознобно, кроме того, привычка у Пахома к овчине, редко скидывает с плеч полушубок даже в жаркие летние дни. Летом бороду заплетает в три косицы, чтобы не мешала в работе с пчелами.
Возле избы Пахома уже через сажень лесная дремучесть. Горит перед избой костер. Зажжен больше для дыма. Мошкара в это лето лютая.
Под двумя подслеповатыми окошками завалинка. На ней Рязанов и Бородкин. На ступеньках крылечка молодой Егор Корешков, инвалид, потерявший левую ногу в Русско-японскую войну. Теперь сторож у паровых котлов на Серафимовском прииске. На Егоре выгоревшая когда-то черная косоворотка, к ней на груди приколот серебряный Георгиевский крестик. На пороге в сени сидел Сорокин. У костра то появлялись в отсветах его пламени, то терялись в темноте Людмила Косарева, Паша, Лидия Травкина и Кесиния Архиповна Рыбакова, появившаяся на приисках в облике странницы с кружкой для сбора подаяний на украшение какого-то Божьего храма.
Беседу ведет Рыбакова, кратко знакомя товарищей с решениями, принятыми на Первой уральской областной конференции РСДРП(б) в Нижнем Тагиле. Она особенно подчеркивает необходимость введения строгой революционной дисциплины в работе подполья на промыслах. Слова Кесиния Архиповна произносит колючие, холодные, неоспоримые, идущие от разума.
– Царскому правительству теперь больше всего надобны любые рабочие беспорядки. А для чего ему они надобны? Для того, чтобы, придираясь к ним, устанавливать против нашего брата новые законы закабаления. На заводах добиться этого труднее. Заводский рабочий люд уразумел силу своей спайки, но зато на приисках и рудниках у всяких царских слуг еще водится зацепка, что на промыслах у людей меньше грамотности, да и сама трудовая жизнь позволяет народу развихляться разумом. Иные как судят: зло обидчику с кокардой не прощу, а в случае чего от царских карателей в лесной глухомани укроюсь.
Вроде бы правильно судит человек с обиды. Супротивность духа рабочего человека в нем не сломлена, от казачьей нагайки не дает обет покорного молчания перед волей царя-батюшки. Но партия решила по иному пути вести борьбу подполья, по пути революционной сдержанности отмщения врагам за насилия, вдумчиво понимая вражеские замыслы, дабы суровой дисциплиной удерживать себя от бессмысленных стычек с полицией и жандармами, выдержкой революционного характера не давать царским властям повода для ущемления наших и без того куцых житейских прав.
Конечно, надо признать, что подпольная работа на промыслах для всех нас в новинку. Дорогу к ней приходится нащупывать, как в глухом ночном лесу. Укреплять в людях веру и надежду на свободу с зорким взглядом и полым ухом. Все это верно. Партия знает об этом. Потому и посылает на прииски людей, понимающих ее волю, способных внедрять наказы партии в жизнь. К вам, на сучковские промыслы, прислан товарищ Макарий.
Рыбакова, замолчав, накинула на разгоревшийся огонь костра пихтовые ветки, притушив его, усилила густоту душистого дыма.
– Тебе, Бородкин, настрого было наказано крепить в людях разумный порядок, сдерживать их от любой злобной вольности против полицейских властей. Так ведь? А ты, как теперь мне стало ясно, надобной твердости в этом не проявил. Слов нет, с мужиками справился. Они словам и рукам воли не дают в беседах с полицией, а вот перед бабами ты не то оробел, не то не нашел правильного обращения с ними. Конечно, наши бабы на любой зуб – орехи крепкие. Но неужели ты не уяснил, что именно бабы в твоей работе – главная подмога? Ты меня прости, но тебе понятия о подпольной дисциплине не занимать. Разговор тебе мой не нравится? Не молчи, а оправдайся, сознайся, что не совсем правильно шел, выполняя полученный наказ.
– Правильно говорите.
– Знала, что так скажешь. Помощь от баб принимать не стыдись, потому на промыслах в их разумении больше, чем у мужиков житейской прозорливости. Душа у них теплее ко всему. Мужикам признавать это зазорно, но волей-неволей придется.
– Чего, Архиповна, на Макара высказом накинулась? – перебила старуху вопросом Лидия Травкина. – Слушай, что скажу. Не один раз Макар вдалбливал нам в память новый порядок нашего обхождения на промыслах со всяким начальством. Говорил доходчиво, но мы все одно ослушивались и станем наперед ослушиваться, пока нас стражники станут нахлестывать нагайками и кровь из зубов кулаками выбивать. Говоришь складно. Тебе легко давать советы о нашей покорной терпеливости. Тех, кто велел тебе нам поучения читать, стражники нагайками не хлещут. На заводах, там, может, и можно попуститься иной раз горькой обидой от какого мастера али инженера. А мы-то на приисках. С чего это учишь нас добренькими быть?
– Примолкни! – сухо полушепотом сказала Рыбакова. – Слышишь, Бородкин, как окрысилась на меня, став на твою защиту? Много, Лидия, доброго в твоем разуме, только от его тяжести будто пьяная из стороны в сторону качаешься. Вот недавно на Дарованном ты с товарками, накрыв мешком, по-доброму отдубасила стражника Еременко. По вашему примеру бабы начали избивать стражников на всех промыслах губернии. В защиту обиженных поднялись жандармы, усматривая в вашей расправе не простое битье, а корни политических беспорядков. Думаешь, зря на Дарованный ротмистр Тиунов наведался и беседовал с Жихаревым? Вот в чем беда для людского покоя на промыслах от вашей расправы с Еременко. Не скрою перед вами свою бабью откровенность, потому всей душой согласна с тем, что били Еременко. Насильникам нельзя спуска давать, только делать надо это по-иному.
– Скажи, как по-иному? – Но, не дав Рыбаковой ответить, Травкина продолжала: – Знаешь, за что били Еременко? За то, что ребят наших хлещет. Моего парнишку как полоснул по спине за то только, что попался ему навстречу! Матери мы, и горло перегрызем за ребятишек.
– На ваших приисках, Паша, за что дрались бабы со стражниками и со смотрителем? – спросила Рыбакова.
– Смотрителю попало за доносы про наши вечерние школы грамотности.
– Обыск был?
– Обязательно, только у нас все справно спрятано. Драка со стражниками началась, когда те при обыске в бараках зеркала с посудой ради забавы раскокали.
– Чем дело кончилось?
– Ничем! Прииск-то Новосильцева. У нашего барина фараоны не в чести. Узнав о драке, он только улыбнулся.
– Ох бабы, бабы. Не всякой барской улыбочке можно радоваться. Тебя, Косарева, в это лето будто подменили. Не помогаешь авторитетом среди баб наказ партии утверждать.
– А все потому, Кесиния Архиповна, что и по моим холкам нагайка в пятом кровяные полосы означала. Баба и завсегда с ними заодно.
– Тебе Лука Пестов больше всех доверяет, зная, что у тебя разум без потемков.
– Позабывает, видать, Лука, что во мне злоба водится, вот она иной раз и мутит разум. Ладно! Обещаю, Кесиния Архиповна, себя и баб от вспыльчивости сдерживать.
– За меня, Людка, слова не давай. У Травкиной свое имеется. Будут стражники баб хлестать, стану сдачи давать.
– Так тебя, дура, за это посадят, оставишь своего Володьку без материнской ласки.
Сказанное Сорокиным так удивило Травкину, что она выкрикнула:
– За что садить-то меня?
– За самоуправство с полицией. Меня в пятом за что на год упрятали в острог? За пустяк. Сплюнул кровяную слюну стражнику на сапог. А ведь звякнул-то меня он своим кулаком. Тебе объясняют, что терпеливостью надо с начальниками бороться. Полиция рада всякой драке, чтобы сызнова на прииски казачков нагнать для нашего усмирения. Столыпину любая заварушка на руку. Потому на насилии свою власть крепит. Понимай, Лидия. Он даже Думу разогнал из-за несогласия с его волей. Бородкина слушай, и все станешь ладом понимать.
– Будто не слушаю, но только не могу пересилить в себе недоверчивость к нему.
– Какую еще недоверчивость? Ему партийное подполье верит.
– Да это, может, оттого, что вижу его в купеческом обличии, Кесиния Архиповна.
– О пустяшном говоришь. Для пущей нашей сохранности любое обличие на руку. О другом думай, Травкина, что воля партии для тебя главный закон, ежели ты большевичка.
– Она просто сочувствующая вам, – сказал Рязанов. – Торопитесь всех большевиками называть. Мы революционеры, и у нас должна быть только цель стремления к революции.
– Сами-то вы кто, господин Рязанов?
– Если быть откровенным, то в партию пришел, поверив в революционные идеи Плеханова, и за это пострадал. Нас теперь модно зовут меньшевиками, и представьте, мы не против ответного террора.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































