Текст книги "Связанный гнев"
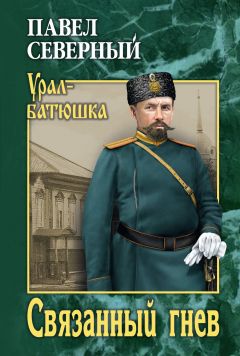
Автор книги: Павел Северный
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
– Не стращай. Не прощу ей обиды. Осрамила перед людьми. Осмелилась против Дымкина своим поступком восстать. Да я, ежели только захочу, так в грязи вас обеих искупаю и просохнуть не дам. Ты, Модестовна, вовсе сдурела от старости, променяв верного друга на дуру в столичном наряде.
Но Дымкин от взгляда Сучковой осекся на слове. Он видел, как старуха встала на ноги, и попятился к двери.
– А ты трус! Старухи боишься! Повторяю. Сказанное мною запомни. И не дай Господь, чтобы люди от тебя хоть одно плохое слово о Софушке услышали. Стану бить тебя прямо на людях, а то просто, как гниду на гребешке, ногтем раздавлю. Только хрустнешь.
– Да не пугай, старая ведьма. Не дам я тебе с внучкой покоя. Честью на том клянусь.
– Эх, Дымкин. Честь свою ты еще в утробе матери утерял. Ступай отсуда. А то опять, обозлившись на тебя, и эту поддевку порву.
Дымкин, ничего не сказав, а только плюнув в сторону Сучковой, вышел из горницы, хлопнув дверью. Олимпиада Модестовна от волнения начала откашливаться. Походила по горнице, подойдя к двери под синей бархатной шторой, распахнув ее громко, позвала:
– Максимовна!
Кружкова вошла в горницу и, улыбаясь, спросила:
– Побеседовали? Пожалуйте в столовую. А Осип Парфеныч где?
– Ушел. Потому больно ласково с ним беседовала.
– Прямо нежданно зашел седни.
– А к лапушке ненаглядной он волен в любой час наведаться. Пойдем чаевничать, а заодно и карты кинешь…
Глава X
1
На Урале люди знают разные сказы о том, как узнать, где в горной земле золото. Один сказ убеждает, что для этого надо в летнюю пору цветения ржи под вечер, когда тишина перед теменью начнет чесать куделю сумерек, в горных, лесных урочищах крикнуть полным голосом.
– Золото где?
И тогда услужливое эхо, переиначивая голос, не один раз повторит вопрос и, затихая, вздохом отдаленным ответит:
– Вез-де-е!
Сказ этот чаще всего можно услышать от бородатого меднолицего от загара золотоискателя. Если усомнишься в правдивости сказанного, рассказчик не обидится, а, ухмыльнувшись в бороду, покачав головой, выскажет:
– Умником норовишь прикинуться? Не во все потаенное веришь, кое водится за пазухой у народной мудрости?
Помолчав, прищурившись, с хитрецой добавит:
– Вольному воля. Хочешь верь, хочешь не верь. Мне-то все едино. Меня неверием своим в сторонку не спихнешь. А коли не трусоват, ежели леса нашего не боишься, то ступай в лунную полуночь в его непроходность да послушай беседу трухлявых пней про тропки к золотишку. Проверь правду сказа. Может, опосля не станешь, не подумавши ладом, правильного, лесного человека во вруны обряжать…
2
Первую весточку о весне на Южном Урале подают сосульки щелчками капелей. Потом начинают гоняться наперегонки разные по ворчливости суетливые ручьи талой воды, отмывая землю от зимней стужи. Со старческими вздохами будут оседать сугробные наметы, и в туманах дыхания оттаявшей земли покой людских помыслов начнут будоражить любовные экстазы глухарей и косачей…
Уральская весна – пора, когда воздух перенасыщен дурманом цветущих черемух и ландышей, когда покой лесных угодий оживет мелодией птичьих голосов. Всеми голосами природы весна скликает людей на промыслы, одухотворять на них трудовую жизнь. Весной по дорогам и тропам Урала люди приходят на прииски с новой надеждой на отыск золотого счастья, приучив себя к заветной мечте о нем в бессонные зимние ночи.
Приисковый рабочий люд. На уральской земле величают его по-разному: старателями, приискателями, а то просто хитниками[10]10
Хитник (диал.) – человек, занимающийся незаконной добычей золота или драгоценных камней.
[Закрыть].
Со всей российской необъятности сходится народ на Урал, оттого и слышатся на промыслах характерные российские говорки и речь разных народностей.
Приходят на Урал мужчины и женщины всех возрастов. Сводит их на его лесные просторы молва о золоте, принятая в разум ухом в той или иной губернии. Но хозяевами среди пришельцев почитаются все же коренные уральцы, чья жизнь началась на промыслах с пеленок, а измочаленная тяжелым, мокрым трудом и властью мечты тут же и окончится.
Не редкость, что объявляются возле песков землепашцы из уральских скитов и деревень. Такие работают от сева до жатвы. Страхуются. Вдруг недород, градобитие, засуха. Не уродится хлеб, так, может, выполоснутые крупинки золота не дадут зимой припухать с голода.
Пестрый на приисках народ по помыслам и характерам, да и по одежде разнится. Кондовый золотоискатель всегда в лаптях.
Совесть тоже не у всех одинаковая, страх перед суевериями и нечистой силой никого не обходит. Каждый человек, худой или правильный, живет возле золота своим тайным миром. И запоминаются поэтому лица, увиденные на сполоске у вашгерта[11]11
Вашгерд – простейший прибор для промывки золотоносных песков.
[Закрыть], за разгребкой отвала. Здесь можно увидеть лица, перед которыми хочется встать на колени, ибо горит в их взгляде свет теплой человечности, но можно также увидеть лица, от которых захочется убежать, как от ночного кошмара.
Самые памятные облики можно встретить среди одиноких хит– ников. От них у костра можно услышать увлекательные истины о чудесах в природе. Они научат понимать язык птиц, повадки зверей. Им известны суровые лесные законы. Известно, от чего на зорях тяжело вздыхают горы. Знают они целебные свойства трав и цветов, по вкусу воды в горных речках безошибочно назовут, что в ней растворилось и есть ли в их песках золото. Хитникам неведом страх перед лихими людьми и зверем, но они нередко краснеют перед пьяной бранью приискового гуляки. С ними лучше всего говорить о золоте. Если войдешь в доверие, они охотно расскажут и о том, как иной раз лешие помогают им отыскивать тропки к земным кладам.
Тысячи людей на уральских приисках со светлыми и темными душами творят тягостную трудовую жизнь, переполненную надеждами, хозяйскими обманами и обсчетами и просто житейскими невзгодами и разочарованиями.
Тысячи людей подбадривают себя песнями. Вот почему на приисках в любую погоду звучат грустные песни. Любая песня успокаивает, уводит в сторону от ожегшего горя, заставляет не терять веры, что счастье у него под ногами, что горести скоро останутся позади на крутых поворотах пройденных тропинок человеческого страдания.
Крутится жизнь на промыслах, как колеса в бегунах, дробящих породу. Людские руки отмывают от грязи крупицы золота потом и слезами. Те, кто в этой трудовой мешанине выживает, порой находят искомое счастье. От тех, кто падает, кого трудовой круговорот кладет в гроб, от тех остаются памятки: деревянные кресты на погостах да на обочинах глухих дорог, как последние, но недолговечные знаки, что они когда-то жили, думали, надеялись и трудились.
Разве напрасно на Урале верят, что его золото вымывают руки людей со всей России…
3
В майские сумерки Лука Пестов и Бородкин после очередного наезда на пасеку Пахома плыли в лодке по озеру.
Бородкин греб, медленно погружая весла в воду, бесшумно, как бы жалея разбуравливать воронками ее стылость.
Озеро отливало бликами перламутра, отсутствие над ним весеннего тумана не гасило в воде акварельную прелесть оттенков отраженных небес и берегов.
На пасеке пробыли дольше обычного, отыскивая в лесу место для сохранности гектографа, но разговаривали мало. Бородкин обратил внимание на особую сосредоточенность и задумчивость Пестова, но не решался спросить о причинах необычного для старика душевного настроя.
Когда лодка выплыла на середину озера, Пестов попросил спутника:
– Успокой руки, Макарий.
Бородкин перестал грести, а лодка, пройдя по инерции недолгие сажени, остановилась.
– Вижу, молчаливостью седни тебя озадачил. Такое со мной бывает. Накатит вдруг удрученность эдакая, и таскаю ее в себе даже на людях, ну вовсе как неотвязную тень.
– Может, случилось что?
– Именно случилось. Без причины удрученность не оседлает. С ночи накат обуял. Заснуть не мог. Раздумался о своих годах, о том, что старость под руку взяла именно теперь, когда надобно жить по-молодому. Вижу, опять удивлен сказанным. Почему надо мне жить по-молодому? Потому что родной русский народ ходко светлит разум могучими стремлениями к вольной жизни. Народ трудовой начинает по-иному осмысливать, да даже и сознавать, что и без хомута крепостного права все еще в рабстве творит житье-бытье по указам царской, барской и всякой полицейской блажи. Слушаешь?
– С полным вниманием.
– Больше всего мне обидно, что не успею повидать, как рабочий люд станет своими руками волю добывать. Начало революционного боя повидать посчастливилось, хотя бы он еще в полсилы. Революционному замыслу еще велика помеха людская темнота. Малограмотен трудовой народ. Но вот тебе мое доброе слово про то, что чую, как после пятого года светлеет людской разум, дознается простой народ, что именно в грамоте его главная сила, коей может порвать на себе всякие путы. Сам знаешь, какими тугими узлами связан людской гнев во всяких его проявлениях. Вот и не нравится мне, что старость подошла вплотную, когда у самого завелись дельные мысли. Охота мне ими с людьми поделиться да убедиться, что действительно они дельные для душевного вдохновения, способного поднять человечью гордость на борьбу за свое освобождение. Вот, Макарий, и вся причина моей молчаливости.
Пестов, задержав на Бородкине пристальный взгляд, помолчал, а потом, улыбнувшись, спросил:
– Не ошибусь в уверенности, что тебе, Макарий, охота узнать, как моя житейская тропа по Уралу, обозначившись, изворачивалась. Может, сейчас в самый раз вспомнить для тебя, как себя, лесного старателя, возле доменного огня в мастерового перекаливал. Так слушай.
Но Пестов, склонив голову, нервно покашливая, опять замолчал. Бородкин начал грести. Скрип весел на уключинах заставил старика поднять голову и заговорить:
– Олимпиада Модестовна, обретя власть над золотыми промыслами после смерти сына, решила от меня избавиться, понимая, что буду ей во всем ее управлении помеха. Отставив от смотрительства на Дарованном, обозлила меня до того, что по собственной обиде отлучил себя от песков. Друг с другом схлестнулись по сурьезному счету. Модестовна своей хозяйской повадкой, обвенчанной с бабьей ненавистью ко мне, до того распалила меня, что я, кондовый старатель, отплевываясь, шарахнулся от золота в заводскую стремнину.
Прислушиваясь к скрипу уключин, Пестов продолжал:
– Про Невьянский завод слыхал?
– Конечно.
– Так вот на нем обрядил себя в доменщика. И поверь на слово, как-то разом прикипел к помыслам о борьбе за свободу. Постигал истину житейскую о рабочей гордости по той причине, что наставники попадались люди дельные. Один товарищ Андрей чего стоил. Наторел я возле них в политике, потому не со скупостью открывали мне глаза на верные пути партии большевиков. Шесть лет ополаскивался потом возле жидкого чугуна, но не вытерпел тоски по золотым пескам и наново вернулся к ним. Вернуться вернулся, но с иным понятием о судьбах рабочего люда, с иными думами и устремлениями укреплять в себе, да и в любом рабочем человеке, уверенность, что по силам ему борьба за свободную жизнь. Горжусь, что изведал доменное умение на заводе. Потому, Макарий, что именно на заводе в человечьем сознании до конца оголяется вся бесправность рабочего человека перед придуманными для него законами удушения в нем всяких надежд на светлую жизнь. Именно на заводе в рабочем человеке закаливается гнев против угнетателей, гнев от сознания, что он, как и все остальные люди в государстве, также живет стуком сердца, теплом крови и разумом, а потому должен обрести свою власть для создания свободной жизни без унижений и угнетения. Понятней сказать, обрести власть рабочего человека над своей судьбой. Понимаешь, Макарий, какой я в свои годы неуемный старичок, и вдобавок ко всему почитающий себя рабочей косточкой, не глядя на то, что в теперешнюю пору ношу на себе бирку приискового начальства. А теперь ходче греби, потому темнеть зачинает…
4
Не подкрадываясь сумерками, майская ночь разом пала теменью. Ночь выдалась тихая, с высоким небом в бусинах звезд, но все еще с весенней прохладой. В лесных корытах оврагов дотаивали снежные наметы.
На подоле еловой горы, у самого зачина кедровников, на отшибе от Серафимовского прииска, речка Шишечница бежит по оврагу. Тянется возле нее по склонам рощи черемуха. Из себя речка неширокая, но течением бойкая, с водой, отливающей голубизной.
Возле речки в густых зарослях черемух изба в два окна, крытая берестой. Хозяин ее – старатель Дорофей Сорокин, арендующий у Сучковых лесной кедровый участок. Весной и летом Дорофей возле песков, а в осеннюю пору шишкарит кедровый орех.
Нынешняя весна облила черемухи буйным цветом. Кудрявые ветви нависают над крышей, над речкой, лебяжьим пухом посыпают молодую траву душистыми лепестками. В воздухе пряный аромат цветущих деревьев перемешивается с наносимым из кедровников росным духом весенней смолы…
Горит костер. Потрескивая, мечет искры в серых холстинах дыма. Над огнем таганок, на нем в большой чугунке варится уха.
Поодаль где-то стонут с хохотками сычи и совы, а издалека речная вода доносит скребущий душу тоской заячий плач.
День субботний. К Сорокину с прииска пришли дружки перекинуться словами, узнать, что у кого на уме. Под вечер зашел к Сорокину незнакомец. Не старый, не молодой. Одет по-простому. Сказался жителем Сибири и зашел к Сорокину со строгим наказом передать ему поклон от тетки Дарьи. За поклон Сорокин сказал спасибо, но никак не мог припомнить, какая такая тетка Дарья хранит его в памяти, да где-то возле Кургана.
Пришелец объявил, что поживет у него денек-другой и дальше направится, потому на уральскую землю заявился не понапрасну.
Под черемухами на скамье сидела девушка Клавдия. Темная коса у нее чуть не до пят. На плечах косынка с синей каймой. Подружки из зависти дали ей прозвище Юбошница за то, что каждая ее новая юбка свидетельствовала о перемене ее симпатий к тому или иному парню.
Возле Клавдии на пеньке умостился худощавый русый парень Никитушка. Опоясан его лоб ремешком, а по нему вышито гарусом красным слова «Помилуй Господи». Никитушку на приисках считали блаженным. В то же время люди верили в его ясновидение, считая, что ему известна потайность отыска самородков. Парень на промыслах с восьми лет. Отца с матерью в глаза не видел, не знал, где родился, но знал, что был подкинут в монастырь грудным ребенком, а убежал от монахинь из-за тяги к людям.
– Ты, Клаша, зря к грамоте не прилипаешь.
– С чего взял? Читаю не по слогам, конечно, не шибко прытко.
– Добивайся прыткости. По книжкам до всего дознаешься.
– Дознаться можно. Только шибко грамотных за иные книжки стражники нагайками нахлестывают. Я ее вкус пробовала. Девки болтают, будто ты, Никитка, стишки занятные знаешь.
– Про некрасовские, что ль, говоришь?
– Да нет. Те, кои под запретом.
– Тише с таким. Чать, тут не все свои люди. Ноне ведь и свои шепотки пускать любят. А за шепотками, глядишь, и участок с кулаком в зубы.
– Ты, Клавка, проси его стих про стон над Волгой почитать, – прислушиваясь к их разговору, вступила в него колдовавшая над ухой толстая старуха, с внушительной шириной плеч. Седые ее волосы скручены в кубышку. К Уралу она прижилась с молодых лет. Родом с Волги. Ушла с родных мест после ранней смерти мужа, волжского бурлака. Золото промышляла в звании хитницы. Когда попадались тяжелые пустые пески, она на пропитание отнимала добычу у таких, как сама, хитников, и перед ее физической силой пасовали даже мужики. Никто не знал ее имени и фамилии, но редкий человек не знал ее по прозвищу Бурлачка.
– Ленится он на чтение.
– Тогда чего липнет к тебе, да и с каким умыслом?
– Так мой же он недавно стал. Юбка на мне из его подарения.
– Тогда ему не до стишков. Потому капризами любого в чесотку вгонишь.
– Юбчонка на тебе, Клавка, баская. Цвет на ней голубой в меру кинут, мараться не будет, – растягивая лениво слова, говорила сидевшая на ступеньках крыльца Эсфирь – чернявая, большеглазая цыганка. В правом ее ухе серьга из золотого самородка листиком. Девичью грудь туго обтягивала желтая кофта с черными горошинами. Талия обвязана пестрой шалью, перекинутой через плечо. На шее Эсфири монисто из двугривенных. Возле промыслов она всего третий год: отец прогнал из табора за отказ выйти замуж за богатого башкира-лошадника.
– Ты, Клавка, осчастливленная. Возле тебя всегда парни с искрой, а вот я со своим измаялась. Всем будто мужик, а на деле в чем-то изъян.
В овраге подала голос гармошка. Пела вальс «На сопках Манчжурии». Эсфирь сокрушенно громко вздохнула.
– Шествует мое ясное солнышко в тучах.
– Чем Яшка тебе не угодил?
– Ревнивостью истиранил.
– Так сгони.
– Легко сказать. Сгонишь, заменишь кем?
Из кущей черемух вышел широким шагом Яков в пиджаке, накинутом на плечи. Яков высок ростом. Под картуз возле правого виска воткнута веточка черемухового цвета. Парень слывет неотразимым ухажером. Все в нем по-ладному. Числится на промыслах забойщиком, но работать избегает, предпочитая жить на иждивении временных зазноб. С гармошкой не расставался, как с табаком. Яков громко поздоровался:
– Золото на грязи!
– Того и тебе желаем, – ответили вразнобой все бывшие возле избы.
Яков, подойдя к костру, поставил на колени Бурлачке гармошку. Достал из кармана пачку папирос «Тары-бары», пальцами достал из костра уголек, прикурил. Плюнув на пальцы, вновь взял в руки гармошку. Заметив лежащего под черемухой башкирина про прозвищу Семерка, спросил:
– Много ль звездочек насчитал?
Башкирин промолчал. Яков заиграл вальс.
– Никак больше всего, Яшка, по душе тебе сей валец? – спросила Бурлачка.
– Точно. В память братана Егорки играю. Музыкой по нем панихиду справляю. Японская пулька загнала его в гости к угодникам.
– Про такое легче языком лязгай, – оборвала парня Бурлачка, размашисто перекрестившись. – Царство небесное воину убиенному.
Яков подошел к Эсфири:
– Пойдем разомнемся.
– Уха в чугуне доходит. Есть желание похлебать варево.
– А после ухи?
– Ступай. Седни мне не надобен.
– Тогда бывай здорова. От девок мне везде привет.
Наигрывая вальс, Яков ушел в черемухи мимо Клавдии и Никитушки, задев картузом нависшие ветки, а с них густо осыпались лепестки. Бурлачка засмеялась:
– Ухорез! Ни во что нашего брата не ставит.
Эсфирь встала на ноги, потянулась, передернув плечами, подошла к костру, провела рукой по седой голове Бурлачки, перешагнув через башкирина, направилась к речке.
Возле самодельного стола на двух столбиках, врытых в землю, на жердочке висел фонарь с керосиновой лампой. Скамьи. На столе продранная на углах клеенка. Расставлены на столе глиняные миски. В самой большой из них крошеный лук в квасе. Возле мисок ломтик ржаного хлеба, густо забеленный солью, деревянные ложки.
Рядом с Сорокиным старатель Савич, рано облысевший мужик. Летом лопатил пески, а зимой промышлял офеней от Верхотурского монастыря, торговал «святым товаром», книжонками о житии святых, иконками, кипарисовыми крестиками и поминальниками.
Бродячую торговлю Савич задумал не без умысла. Переходя с места на место по зимовкам старателей и хитников, он за рюмкой водки узнавал о заветных местах со знаками золота и самоцветов, а летом некоторые из них тайно навещал не без пользы.
Напротив Савича сидел татарин Ахмет. Он в годах. Родом из Казани. Из-под засаленной, когда-то бархатной тюбетейки торчали жесткие седые волосы.
С краю у стола сидел сибирский незнакомец, велевший звать себя для краткости Михалычем. Он уже успел рассказать мужикам, что живет от починки часов, не оседло, а где находит нужду в своем ремесле. Рассказал, что на Урале появился вербовать народ на Ленские промыслы. У пришельца хитрые маленькие глазки с прищуром. Редкие волосы причесаны на косой пробор под фиксатуаром. В разговоре боек, и слова для него подбирает без труда.
Старатели слушали со вниманием его размышления о житье рабочего люда в сытой сибирской стороне. По его словам, выходило, что там покойно, да и полиция руки не распускает.
– Так что кумекайте, братцы, да и зачинайте подаваться в сибирскую сторону. Ленское золото не чета вашему. У вас ноне что? Поскребыши перемываете. До вас настоящее выгребли. Аль неверно сказываю?
– Это как где, милок, – ответил Савич. – Верховое, может, и взяли, а оно и в глуби водится.
– Донное золото лопаткой не возьмешь. На машины хозяева ваши поскупятся. С вашего пота жиреют. Узнал про них. Старуха усладой живет, а молоденькая вовсе дуреха в золотом деле. А в сибирской стороне тайга тайная. А в ней добра всякого, слов не сыщешь высказать. Ну какая у вас жизнь возле сучковских песков? С хлеба на квас.
– Аль не чуешь налимьей ухи дух? – спросила от костра Бурлачка.
– Так это в летошнюю пору. Разве такой жизни достойны? А главное, в вашем крае через годик, не приведи Господь, что случится…
Мужики насторожились. Сорокин, откашлявшись в кулак, спросил:
– На что намекаешь? Может, молодая Сучкова что супротив нас надумала? Может, машинами нас сменит?
– Да что ты! Она не велика птица. Пострашнее дела в краю произойдут. Вовсе в потемках живете. Им на шею петлю готовят, а они и не ведают про напасть.
– Сказывай без загадок, – резко высказал Сорокин. – Загадки сами загадывать мастаки.
– Какая загадка в моих словах? Беда идет на вас. Государь со всяким начальством, озлившись на ваше смутьянство, порешил отдать Урал в аренду чужестранцам.
– Врешь? – в один голос спросили мужики.
– Вот вам крест. Сучковские прииски первее всего в их руках окажутся. Молодица-хозяйка пошто нежданно объявилась?
– Домой приехала.
– Откудова?
– Да знаем, откудова. Про дело сказывай, – недовольно высказался Савич.
– А я не про дело? Но ко всему надобен подход для вашей понятности. Думали, чему молодица-хозяйка в столице обучилась? Аль не тому, как прижимать трудовой народ? А чего нынче в столице деется? Молчите? Потому не ведаете про это.
Михайлыч перешел на шепот.
– Там возле царя-батюшки объявился министр, коего царь безропотно слушается. Думайте, что это за министр такой, ежели самого царя под ноготь прижал. А все понятно. Министр этот на откупе у иноземцев, и задумал отдать Урал под их власть.
– По фамилии кто?
– Столыпин. Наш, русский, а продался, сука, иноземцам.
– А царь что?
– Сказал уж: под ногтем он у него. Даже из столицы уехал. Вот как все обернулось из-за этого министра. Для вас беда в чем кроется? В том, что иноземцы сюда своих людей нагонят. У них тоже всякой рабочей голытьбы много. А тогда что? А в сибирской стороне этого не случится, потому они туда лезть боятся.
– Ежели не врешь, – задумчиво сказал Савич.
Никитушка, прислушиваясь к беседе, подошел к мужикам:
– Так должен сказать. Зимусь в Тагиле побывал. Так люди баяли, будто наезжал князь какой-то да уговаривал богатеев без споров отдать иноземцам золотоносные угодья.
– Вот слышите! Даже хозяев эта беда не минует! Так что думайте. Тайно сказывайте людям и, благословясь, кидайте работу и в Сибирь.
– Дела! – мрачно произнес Савич. – Неужли в самом деле слыхал про такое, Никитушка?
– Слыхал.
– А чего молчал?
– Вам скажи. Не поверив, изобьете, а то и до смерти. Шутка ли, такая беда замыслена супротив нас.
Бурлачка крикнула от костра:
– Поспела уха!
– Тащи на стол. Давно ждем.
Бурлачка, поставив чугунку на стол, начала разливать уху в миски. Клавдия пришла к столу вместе с башкирином. Эсфирь стояла на берегу речки.
– Цыганочка! Аль приглашения ждешь? – крикнул Сорокин.
Эсфирь, не торопясь, подошла к столу.
– Под речной говорок о судьбе раздумалась. Мне, поди, местечко возле сибиряка найдется.
Эсфирь села рядом с Михалычем.
Все ели молча. Слышался стукоток ложек о края мисок. Сорокин похвалил варево:
– Задалась у тебя седни ушица, но после таких вестей аппетит приглох.
– Да ерунда! – сказал Михалыч. – У вас ясная дорога. Уйдите с Урала, а там пусть иноземцы с хозяевами волками воют. Их люди здесь перемрут с непривычки. Так что ешь, Дорофей, в свое удовольствие. Уха первый сорт. Секрет, видимо, на сей случай знаете?
– Сноровку знаю. Вовремя надо чугунку сверху черемуховой веткой прикрыть. К ее листу больно плотно дым льнет.
– Хитро!
– Налимов седни Дорофей добрых поймал.
За столом снова стало тихо. Слышно, как башкирин громко схлебывал с ложки уху.
– Я что слыхала, братцы, – заговорила Клавдия, – деду Зотию на Отрадном прииске видение было.
– Какое такое видение? – спросила Бурлачка.
– Знамение-видение. Явился Зотию апостол Андрей Первозванный да велел народ уводить с этих мест. Потому будет мор на ребятишек.
– Пустое слышала, Клаша. У меня Зотию веры нет. С пьяных глаз чего не приснится, – сказал Савич.
Татарин Ахмет, вздыхая временами, шлепал себя ладонью по лбу. Сорокин спросил его:
– За что лоб наказываешь?
– Понимаешь, вспоминай, вспоминай, а толку нет.
– Тогда хлещи, может, выбьешь толк.
– Так как решим, мужики? – спросил Михалыч.
– Ты погодь, – заговорила Бурлачка, – словами про недоброе на мужиков не напирай. Не у них главное слово для решения, а у нас, у баб. На промыслах всякий мужик норовит за бабий подол держаться. Бабы судьбу жизни решают. Вот, к примеру, меня возьми. У любого человека рабочего по уезду спроси, как я в пятом году за рабочую волю молотилась с фараонами. Всем ведомо, как меня ингуши нагайками молотили да не убили. Отлежалась. А отлежавшись, выдернула жердь из прясла да шестерым насильникам ноги-руки покалечила. Годик за это тюрягу боками сушила. Здешние бабенки пострашнее иноземцев. Так думаю. Никто нас отселева не сгонит, если бабы за свою судьбу восстанут. Не согнуть нас в бараний рог. Пробовали. Зовешь к сибирскому золоту, а сам его мыл? За сказ про грядущую беду спасибо. Но мы своих умных людей спросим. У нас есть такой человек. Для рабочего вроде Николы-угодника.
– Кто такой?
– Лука Пестов.
– Хорош заступник. Он же хозяйский доверенный.
– Молчи, шайтан! – заорал на Михалыча, сжав кулаки, татарин. – Узнал!
– Кого узнал? – спросил Сорокин.
– Его, шайтана. Врет про Сибира. Кыштым его Сибира. Волосы постригай. Зачем врешь?
– Позволь, чего орешь? – растерявшись, защищался Михалыч. – Чего порочишь человека? Заступитесь, братцы!
Но татарин схватил пришельца через стол за руку и дернул к себе. Со стола полетели, раскалываясь на земле, миски. Татарин кричал:
– Зачем люди пугал? Зачем врал хороший люди?
Сорокин хотел оттащить татарина от Михалыча, но тот крепко держал его:
– Говори всем, кто велел тебе врать люди?
Михалыч, вырвавшись, побежал к речке, но по пути Эсфирь подставила ему ногу и он, запнувшись, упал. Хотел подняться, но его уже держала за шиворот Бурлачка.
– Сказывай, кем подослан?
– Речкам топить его! – кричал татарин.
– Позвольте сказать! Не топите! Все скажу!
– Правду говори!
– Самую истинную! Господин Дымкин велел мутить народ. Я сам парикмахер. В Кыштыме совсем недавно. Дымкинский приказчик пятерых заслал в народ.
– В речкам топи его, шайтана!
– Нет, Ахмат, топить не станем. Мы его на промыслах на поводке станем водить. Пусть поглядят люди, как мутят народ хозяева из-за склоки промеж собой.
– Топи его!
– Да не горячись, Ахмет! – успокаивал татарина Сорокин.
– Как не горячись! Кровь во мне живой! Слыхал, как врал!
– Эх ты, погань. На темноту нашу надеялся? Запри его, Бурлачка, до утра в чулане.
– Не надо. Лучше избейте!
– Нет! Пусть народ тебя осудит.
– Простите, сердешные. Сдуру продался окаянному Дымкину.
– Молчи, – Бурлачка поволокла Михайлыча к избе, приговаривая, – смотри, тихонько дыши в чулане, а то сама втопчу в землю за поклеп на Луку Пестова.
5
Орест Михайлович Небольсин появился в Сатке дня за три перед любительской постановкой «Бесприданницы». Приехал в сопровождении солистки цыганского хора Клеопатры и трех цыган-гитаристов. Остановился он у своего давнего знакомого управителя завода Всеволода Павловича.
В первый же день по приезде Небольсин развил кипучую деятельность, нанеся визиты видным местным интеллигентам. В сопровождении Осипа Дымкина он побывал у промышленников и купцов, имеющих то или иное отношение к добыче золота.
Не миновал он и дома Сучковых, но без Дымкина. Приняла его Олимпиада Модестовна. Старуха сетовала, что внучка по легкомыслию, увлекшись спектаклем, забросила все хозяйские дела, отдав их в руки доверенного Пестова. Но Пестова в Сатке не оказалось: он срочно уехал на промыслы. Сожалела, что сама, совершенно устранившись от дел, не может вести с гостем никаких деловых бесед…
В день спектакля за утренним кофе Небольсин предложил любезным хозяевам устроить у себя званый ужин для участников спектакля и для лиц, коих они пожелают пригласить. Его предложение особенно понравилось хозяйке Вере Григорьевне, вдохновительнице и режиссеру спектакля, ибо она надеялась пением цыганки доставить гостям редкое для этих мест удовольствие…
Дом управителя Саткинского завода старинный. Построен в годы императрицы Елизаветы. Его теперешние хозяева старались в его внутреннем облике сохранить все то былое, что им удалось в нем застать, когда они еще довольно молодые двадцать лет назад перешагнули его порог. Комнаты в нем обширны с расписными потолками. Церемонная мебель с изяществом своих форм и очертаний тех ушедших лет, память о которых теперь только на страницах истории.
После обеда Небольсин и Всеволод Павлович вели разговор в палевой гостиной, стены которой украшены изрядно выцветшими гобеленами.
В окна светили стрелы последних лучей майского заката, раскидав на полу кружевные тени от оконных штор.
Небольсин, заложив руки за спину, ходил по комнате и говорил сидевшему в кресле хозяину:
– Просто не узнаю вас, Всеволод Павлович. За последние годы, что мы с вами не виделись, вы, простите, стали каким-то махровым националистом. Вернее, типичным русским интеллигентом.
– Вы не правы в оценке меня. Я просто патриот своей страны с надежным запасом национальной гордости. Да, интеллигент, но только не модный, не чеховский. Живя в Сатке, не вздыхаю назойливо о Москве, а когда особенно начинаю скучать о ней, сажусь в поезд и еду.
– Но мы отвлеклись от главной темы нашего спора.
– Мы не спорим. Мы делимся мнениями. И я не соглашусь с вашим мнением. Повторяю, Орест Михайлович, я отнюдь не против технического прогресса в горнозаводской и золотой промышленности. Я только решительно возражаю под видом этого прогресса протаскивания в отечественную промышленность иностранных капиталовложений, в которых у нас на Урале нет необходимости. Наши промышленники располагают огромными средствами.
– Но держат их в своих кубышках, тогда как империя после недавней войны нуждается в средствах.
– Вы преувеличиваете. С уральских богатеев для войны тоже кое-что взяли, хотя не спросили их мнения о нужности войны с японцами. Кроме того, надо быть справедливым. Вы-то ведь знаете, что немало технических новшеств введено на уральских заводах, особенно на казенных, беда только в том, что эти новшества плохо используются на деле.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































