Текст книги "Связанный гнев"
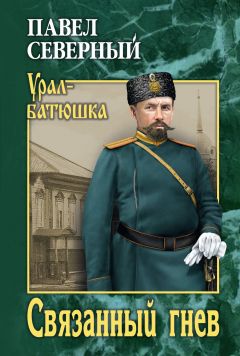
Автор книги: Павел Северный
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
– Только вашим вниманием, товарищ Пестов. Хотя должен признать, что внимательны ко мне с первых минут встречи. О вас, как о специалисте по золоту, я буквально наслышан досыта. О вас говорят все, но не всегда одинаково. Одним вы нравитесь, другим нет. Но, в общем, вы личность с большой буквы.
Штайнкопф, замолчав, потирая руки, прошелся по горнице и тихо спросил:
– Товарищ Бородкин на прииске?
– Нет. С утра сегодня подался на Серафимовский. И еще не вернулся.
– Жаль.
– Он вам нужен?
– Собственно он и является той причиной, из-за которой я свел с вами знакомство. Видите ли…
– Слушаю вас.
Пестов наблюдал за лицом собеседника. Его глаза то становились прищуренными, то расширялись, и в них вспыхивали искорки, отчего они становились молодыми и пытливыми.
Жесты собеседника как бы дорисовывали произносимые слова, хотя левая рука чаще всего перебирала в пальцах золотые брелоки на цепочке от часов, протянутой из карманчика в карманчик жилета.
– Прежде всего, разрешите поставить вас в известность, что до Пятого съезда партии считал себя в рядах меньшевиков, но теперь, внимательно продумав революционное кредо товарища Ленина, решительно считаю себя большевиком. Может быть, в настоящем разговоре это не так существенно, но все же между нами должна быть партийная ясность, ибо мы прежде всего революционеры.
– Какое дело у вас к Бородкину?
– Нет, мое дело к вам, товарищ Пестов, но о товарище Бородкине. Я перед вами как исполнитель данного мне поручения подпольным комитетом Златоуста.
– Понимаю.
– Скажите, у вас в комнатах можно курить?
– Сделайте одолжение.
Штейнкопф вынул из кармана пиджака серебряный портсигар, взяв из него папиросу, закурил.
– И снова мне приходится быть с вами откровенным до конца, сообщив, что мой салон в Златоусте популярен у всех его уважаемых особ самых высоких рангов. Среди моих клиентов сам управитель, все инженеры, господин Тиунов, духовенство и, конечно, купечество. Не скрою, что пользуюсь уважением даже господина Новосильцева. Все только потому, что обладаю большой практикой парикмахерского дела. Из сказанного мною вам понятно, что именно в мой салон стекаются самые неожиданные новости со всей губернии, не говоря уже о наших городских сплетнях, включительно до самых интимных. Естественно, не проходят мимо ушей и все разговоры о делах золотопромышленников. Вы слушаете меня?
– Внимательно, Лазарь Аронович.
– Вам, конечно, хочется скорей узнать, какая у меня новость о Бородкине?
– Конечно.
– Сейчас я вам о ней скажу. Как видите, сам волнуюсь, ибо новость о нем крайне необычна. Итак, случилось это три дня назад. Около полудня в моем салоне появился хорошо известный вам господин Дымкин, в сопровождении незнакомого мне сильно подвыпившего купца, которого Дымкин представил как своего гостя из Екатеринбурга. Признаться, Дымкина я не люблю, даже остерегаюсь, зная, что он черносотенец, но у него всегда большой запас всяких новостей, которые я за работой разными своими вопросами из него выпытываю. Делать мне это нетрудно, ибо Дымкин большой хвастун и похвальбушка.
Должен заметить, что, будучи довольно пахучей личностью из-за своей репутации, Дымкин очень капризный клиент. Требователен. Например, заставляет его брить три раза за один присест в кресло, уверяя, что только тогда молодеет его кожа…
Так было и три дня назад. Дымкин сел в кресло, а его спутнику я предложил просмотреть новый номер «Нивы». Намылив Дымкина второй раз, я правил на ремне бритву, как вдруг екатеринбургский купец заговорил: «Слушай Осип, чуть не забыл сказать тебе. Вспомнил, на кого похож тот купчишка, ну который у Сучковой на приисках. Вот только фамилия его выскочила из памяти». Дымкин совсем безразлично сказал: «Бородкин».
Услышав фамилию своего товарища, я, естественно, навострил уши, а пьяный купец говорит: «Так вот этот Бородкин вылитый слесарь Верх-Исетского завода, которого полиция ищет с пятого года. Бунтовщик он. У меня дома до сей поры хранится афишка с его портретом. Мне ее пристав дал». – «Да будет тебе, Егор, ерунду молоть. Может, путаешь. Люди часто похожи друг на друга». – «Нет, брат, у меня глаз на иные лица острый. На афишке он вроде без бородки, но глаза-то не замаскируешь».
Как вы думаете, товарищ Пестов, что должен был пережить ваш покорный слуга, услышав подобный разговор, а также как должен был поступить? Ясно, Бородкин узнан! Я тотчас сообщил об этом Рыбакову и получил от него приказание поставить об этом вас в известность. Конечно, есть возможность предположить, что Дымкин об указанном от купца не поставит в известность полицию, а наверняка постарается шантажировать Бородкина для своих выгод в делах против ваших хозяев, с которыми в контрах.
– Комитет высказал пожелание, чтобы Бородкин скрылся?
– Нет! Дана только задача Бородкину быть крайне осторожным с Дымкиным. Вижу моей новостью озадачены, но довольны. Будучи неплохим психологом, уверен, что Дымкин отнесся к сообщению дружка без особого восторга, но все же не исключена возможность, что в его башке может зародиться мыслишка, что Бородкин не тот, за кого он себя выдает в наших местах.
– Спасибо за новость, Лазарь Аронович.
– Прошу вас поставить в известность о ней всех товарищей, коим положено знать подобные новости. А теперь разрешите откланяться.
Штайнкопф вынул из карманчика жилета часы и, открыв на них крышку, покачал головой:
– Да, мне, к сожалению, пора.
– Каким образом добрались до нас? Где ваша лошадь?
– Господин Пестов, не лошадь, а тройка господина Новосильцева! Я же не простачок, чтобы заявиться на прииск с желанием побрить вас. Прежде, чем отправиться сюда, я предложил господину Новосильцеву только что полученные французские духи. Он их у меня купил и просил лично отвезти вашей очаровательной молодой хозяйке. Я прежде визита к вам нанес визит к ней, был даже угощен прекрасным кофе, а за ним сообщил ей, что вы мой старый знакомый. Извините, что солгал, но ведь русская народная мудрость, кажется, говорит, что иная ложь бывает во спасение. И не осуждайте меня за многословность. Привычка. Профессиональная привычка. Вы меня как старого знакомого проводите до конторы?
– Обязательно!
4
Столовая в бликах утреннего солнца. Олимпиада Модестовна не вышла из опочивальни, сославшись на головную боль, потому Софья Сучкова пила кофе в обществе Ольги Койранской.
Художница появилась на Дарованном накануне и озадачила хозяек своим необычным для нее нервным состоянием.
Вот и за кофе, продолжая начатый еще в спальне разговор, Койранская говорила возбужденно:
– Соня, ты права, говоря, что ухаживания за мной Владимира Воронова вначале меня просто забавляли. Действительно, я явно кокетничала с ним, не уставала говорить ему, что ревную его ко всем женщинам. Делала все это, чтобы не скучать в периоды, когда не держала в руках кисти. Но почему неожиданно для меня Владимир из объекта забавы превратился для меня в цель моей жизни? Почему? Я даже не поняла, когда это произошло. Ибо не старалась приучить себя к мысли, что именно он необходим мне в жизни, что без него эта жизнь будет пустой. Соня, но почему молчишь?
– Слушаю тебя.
– Может быть, все происходящее со мной, это просто неизбежность каждой женщины?
– Перестань терзать себя домыслами, когда все ясно.
– Что тебе ясно?
– Ты любишь Владимира.
– Подожди, Соня, о чем ты говоришь?
– Любишь Владимира, ибо заставила себя полюбить его, как я заставила себя полюбить Вадима. Каждый из них для нас необычен.
– Твое чувство к Новосильцеву мне понятно. Это чувство молодой неискушенной девичьей души. Но я не могу себя сравнивать с тобой. Не забывай…
– Что не должна забывать?
– Но ты же знаешь, что именно в твои годы я, очертя голову, стала женщиной. Сделала это, не задумываясь над тем, достоин ли любимый того, что я отдала ему свою первую ласку, по велению наивного девичьего разума.
– Но была счастлива?
– Только мгновения, а мечтала стать счастливой на всю жизнь.
– Ты просто неузнаваема. Куда делась твоя уверенность в себя. Ты подчинила себя пессимизму. Самоанализ твоих стремлений и чувства для жизненной реальности плохие помощники.
– Соня, мне скоро сорок. Владимир моложе меня.
– Вадим тоже старше меня. Однако разница наших лет больше всего пугает бабушку, но отнюдь не меня.
– И ты опять права. Я действительно в лапах пессимизма. Но, кстати, это в стране модное поветрие среди нашей интеллигенции. Это поветрие привито Достоевским и Чеховым. Это они уверили нас, что мы должны бродить полусонными, должны чувствовать себя несчастненькими, копаться в низменностях своих душ, отыскивая в них только мрачность, избегая стремлений к светлому, к воспитанию в себе силы воли. Порой мне даже ясно, что все свои настоящие переживания, с которыми я появилась у вас на Дарованном, придуманы мной самой от испуга, что смыслом жизни для меня стало чувство к Владимиру.
– А он?
– Что он?
– Любит тебя?
– Да. Поэтому я приехала к тебе. Мне стало страшно от сознания, что дорога ему.
– Не понимаю, как можно бояться чувства, страшиться сознания, что ты дорога любимому человеку.
– Конечно, я запуталась в своих противоречиях. Но мне страшно сознаться, что Владимир в моем сознании давно стал символом человека, которому должна принадлежать вся моя будущая жизнь. Ты улыбаешься, Соня?
– Конечно, улыбаюсь от радости за тебя, Ольга. Улыбаюсь, поняв, что у тебя нет никакого страха перед своим чувством, но зато тебя поработила растерянность свободной женщины, привыкшей быть самостоятельной, тогда как чувство любви подчиняет тебя своей власти, и ты тщетно стараешься вырваться из его власти, все более отдавая себя в его власть.
Впрочем, извини. Сама разберешься во всем без моих доводов. Владимир знает, что любишь его?
– Нет.
– Уверена?
– Я ему ничего не говорила.
– А он тебе сказал о своей любви?
– Соня!
– Извини. Но мне хочется понять и уверить тебя, что не должна себя мучить, а радоваться, улыбаться и смеяться.
Койранская, встав из-за стола, прошлась по комнате, остановившись у окна.
– Соня, а в природе уже звучат скрипки осени.
Отойдя от окна, Койранская остановилась около Софьи и, положив руки на ее плечи, раздельно заговорила:
– Владимир говорил мне о любви при каждой встрече. Говоря, он заставлял мою память запоминать каждое слово. Понимаешь, Соня, каждое слово, и постепенно слова заполнили собой мою память. Разве не страшно? Помнить только о его любви, забыв обо всем остальном, что прежде заполняло жизнь. Вот уже больше месяца скитаюсь среди природы Урала, пытаясь забыться в творчестве. Скитаюсь по разным местам, чтобы скрыть от Владимира свое местонахождение, но он упорно ищет, находит меня, и я снова стараюсь скрыться, хотя сознаю, что от себя скрыться нельзя.
– А что, если?..
– О чем говоришь?
– Если сказать ему правду о своем чувстве?
– И потерять право на удобную, привычную самостоятельность.
– Разве она необходима тебе, когда целью жизни стала не привычная самостоятельность свободной женщины, а любовь к человеку, полюбившему тебя?
– Не знаю. Но ты скоро убедишь меня в том, что мое нытье просто-напросто кликушество, необходимое мне для защиты от собственной растерянности перед чувством Владимира, перед силой его убедительности, которой он разрушил все мои шаткие доводы, необходимые мне для защиты от его непреклонной воли. Я утомила тебя, Соня. Мы говорили об этом вчера, прошлой ночью, говорим снова сейчас, и все о том, что нужно решить одним смелым шагом.
– Так и реши.
– Не могу. Соня, ты же собиралась на Серафимовский, а я задерживаю тебя.
– Поедем со мной.
– Я обещала навестить Косареву.
– Прекрасно. Я подвезу тебя до ее делянки.
– Хорошо.
Софья и Койранская, выйдя из дома, сели в пролетку, запряженную вороным рысаком.
Сначала ехали по угодьям прииска, но, свернув на большак, увидели, как навстречу мчался верший всадник. Вот он промчался мимо, но, осадив лошадь, повернул за пролеткой и нагнал ее. Койранская, побледнев, смотрела на подъехавшего Владимира Воронова.
– Куда торопитесь, Владимир Власович? – спросила Софья.
– К вам, Софья Тимофеевна, узнав, что у вас Ольга Степановна.
– Соня, поезжай одна, я останусь с Владимиром.
Койранская вышла из пролетки. Воронов спешился, держа разгоряченного коня за повод. Софья, отъехав, крикнула:
– Владимир Власович, дождитесь меня. Я скоро вернусь.
Койранская, осмотрев взволнованное лицо Воронова, спросила:
– Опять нашел?
– Нашел, – виновато ответил Воронов.
– Забыл, что обещал не мешать работать? Ну что ж, пойдем по этой лесной тропинке. Мне надо повидать Косареву, она где-то тут работает.
Несколько минут шли молча. Лесную тишину нарушало пофыркивание лошади, шедшей покорно за хозяином.
– Кто сказал тебе, что я на Дарованном.
– Костя Вечерек.
– Господи, даже он помогает тебе быть удачливым следопытом. Почему молчите? Неужели ждешь, что буду развлекать разговором о своем пребывании у Сони?
– Ольга Степановна!
Койранская вздрогнув, услышав свое полное имя, остановилась.
– Мое письмо получила?
Койранская, смотря в упор на Воронова, спросила:
– О чем письмо? Володя, почему не отвечаешь на вопрос?
– Отвечу. В нем я просил тебя стать моей женой. Ты же знаешь, как я люблю тебя?
– Володя. Милый. Письмо получила. Испугавшись твоей просьбы, сбежала на Дарованный.
– Неужели?
– Не перебивай. Горжусь честью быть твоей женой. Но пойми.
– Что понять, Ольга?
– Сейчас скажу. Только не торопи. Ты всегда настаиваешь. Прошу тебя, не торопи. Я должна сказать тебе обо всем спокойно, а меня бьет озноб. Пощупай, какие холодные пальцы. Согрей их. Подыши на них. Помнишь, как грел их, когда катались на лыжах по Тургояк-озеру. Помнишь, как грел.
– Помню любой шаг, сделанный рядом с тобой.
– Должна спокойно сказать тебе, что люблю и счастлива от тепла своего чувства. Слышишь, что сказала?
– Слышу.
– Тебе не смешно, что бегала от страха признаться в этом?
– Как мне благодарить тебя?
– Просто крепко, крепко поцеловать…
Глава XIX
1
Прииск Дарованный семнадцатого сентября под чистым бирюзовым небом спозаранок окатило яркое солнце.
С реки густой туман пухом стелился по отмелям и низинам, но, расчесываясь о вихри кустов бурьяна и крапивы с татарником, быстро терял белизну, а подсыхая, оставлял сырость на растительности.
Ветерок дул с озорными порывами. С деревьев облетала желтая листва и горела блеском новеньких медных монеток на траве в седине обильной росы.
В положенное время в котельной забасил гудок, подав весть о начале трудового дня, но и после того, как он смолк, на прииске продолжала жить тишина, обычная для праздничных дней.
Приказ о гудке отдал смотритель Жихарев, несмотря на то что накануне Лука Пестов запретил утром семнадцатого числа тревожить людской покой. Жихарев не исполнить приказ доверенного осмелился после того, как несколько дней назад стражник Еременко передал ему секретный приказ саткинского полицейского управления не допускать семнадцатого сентября на прииске нерабочий день. Получив приказ, Жихарев не доложил о нем Пестову.
По народному обычаю, Россия почитала день семнадцатого сентября неофициальным праздником в честь великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, имена, которых носило большинство женщин Российского государства.
Дня за два Жихарев старательно уговаривал мужиков в «бабий» день работать хотя бы половину дня, но в ответ слышал разные уклончивые ответы, главным образом оттого, что у мужиков в такой день не первый голос.
По подсчетам Жихарева, на Дарованном именинниц всех возрастом набиралось более четырех десятков во главе с молодой хозяйкой. А учитывая отношение женщин к себе, Жихарев даже не пытался заводить с ними разговор о работе. Принимать же принудительные меры не имел права, ибо старатели оплату за труд не получали, а их заработок складывался от золотников намытого и сданного в контору золота…
Со вчерашнего вечера на Дарованный начали стекаться старатели с сучковских приисков, главным образом женщины. У многих на Дарованном были подружки-именинницы. А раз шли женщины, то за молодухами и девицами увязывались ухажеры, а за женами – мужья, ибо кому не известно, что именины на приисках не обходятся без пирогов и выпивки…
Женщины, занятые различной стряпней, обращали внимание на особо раннее появление стражника Еременко в расположениях рабочих бараков, и не верхом, как обычно, а пешим.
Проходя мимо бараков, Еременко, узнавая именинниц, козырял, поздравляя их, а от иных поздравленных даже слышал приглашения зайти на пирог.
Возле пятого барака, населенного бобылками, Еременко разглядел чистившую рыбу Бурлачку с Серафимовского. Зная ее характер, хотел незамеченным свернуть в переулок, но Бурлачка его окликнула:
– Начальству селедочного племени нижайшее почтение. С чего это ни свет ни заря людям глаза мозолишь? Поди, с похмелья не спится?
– Почему здеся оказалась, толстомясая?
– Да, родненький, я везде, где твой след на пыли и грязи значится, давние у меня к тебе симпатии. А седни ты вовсе орел, даже глядеть нельзя, не зажмурившись. На мундире пуговки горят, как лампадные огоньки. Прямо шик-блеск. Чуешь, что плеснешь седни за ворот чужого винца.
– Опять за свое? Смотри у меня! Упреждаю! Воли своему шальному характеру не давай. Безобразия на своем участке не потерплю даже самого малого.
В открытое окно барака выглянула женщина, расчесывая волосы, и спросила Бурлачку:
– С кем лаской перекидываешься?
Но увидев около Бурлачки Еременко, залилась смехом:
– Вона с кем, а я думала, с кем путным. Может, поднести тебе, Еременко, за святых великомучениц стакашик?
Еременко готов был окриком оборвать насмешницу, но сдержался и только смачно сплюнул. Он именно эту старательницу подозревал, что она подговаривала женщин избить его, накрыв мешком.
– Приходи со мной кадриль плясать, Еременко, – пригласила Бурлачка, но стражник, отмахнувшись, свернул от барака в переулок, решив зайти в контору к Жихареву. Поравнявшись с хозяйским домом, Еременко увидел на балконе Олимпиаду Модестовну, козырнув, в контору не зашел, а направился в приемный покой к фельдшеру Грудкину…
Олимпиаду Модестовну разбудил гудок. Лежа в постели с закрытыми глазами, она прислушивалась к тишине, но, потеряв надежду снова заснуть, поднялась с постели, надев капот, накинув на голову пуховый платок, вышла на балкон.
Плетеное кресло, в котором обыкновенно сидела, влажно от росы. Подойдя к перилам, старуха с удовольствием смотрела на панораму прииска в осеннем уборе. Нравилось ей, что нынешней осенью из-за ведреной погоды радует глаз переливчатость красок, в коих цвет меди смешивается со сгустками кумача и синьки.
Тишина. Слышно, как шелестит листва на деревьях. Только с реки доносятся голоса коноводов, пригнавших лошадей на водопой.
Оперевшись руками о перила, Олимпиада Модестовна вдруг подумала, какое впечатление произведут на приисковых именинниц подарки в виде отрезов на платья, которыми Софья распорядилась одарить от своего имени. Потом подумала, исполнит ли Пестов ее просьбу в знак примирения с ней. Просила старика сесть за стол именинного обеда в новом сюртуке, сменив излюбленную им косоворотку на крахмальную манишку со стоячим воротником при пышном банте галстука.
Раздумья старухи нарушила вышедшая на балкон Ульяна в голубом сарафане.
– С дорогой именинницей, матушка барыня.
– Спасибо. Ты спозаранок в полном параде. Ступай к Жихареву и дознайся, кто осмелился супротив приказу гудком тревожить покой людей.
– Дозналась уж.
– А чего молчишь тогда?
– Жихарев винит в самоуправстве машиниста.
– Перед гостями стыдно. Златоустовский барин, поди, тоже поднялся.
– Он с Софьей Тимофеевной еще до гудка куда-то отправился.
– Ты обозналась. В такую рань…
– Ничего не обозналась. Чать, первой именинницу поздравила. Вот и пятишницу золотом за такое внимание от нее получила. Пошто барин без матушки приехал?
– Ее депешей в Петербург позвали. И хорошо. Потому не по душе ей наша горнозаводская жизнь.
– Уж до чего же важная она из себя. Поглядела тогда на меня сквозь стеклышки в золотой оправе. Глаза-то у нее показались мне большущими-большущими и недобрыми.
– Так ты разом и разглядела ее глаза. Я беседовала с ней, а зла в ее глазах не углядела. Пойдем. Надо мне с кухарками побеседовать.
– Како платье наденете?
– Софьюшкино любимое.
– Знаю. То, которое с палевыми кружевами…
Во втором часу пополудни на столах именинниц под пенистую брагу и водку были съедены рыбные и капустные пироги.
На Дарованном зазвучали песни.
Песня – властный и добрый лекарь любого душевного и сердечного поранения. Человек во всякой песне может отыскать нужное ему слово, способное искренностью и простотой заставить глубоко задуматься, а то и выжать из глаз трезвую слезу.
Бражный хмель, сдобренный настоем смородинового листа и хрена, затуманивая разум, не будит в нем злобу, скопленную в памяти из-за окружающих рабочего человека обид от хозяйских и полицейских несправедливостей, обозначенных буквами царских законов. Злобу в разуме растит водка. От нее в глазах кровянеют жилки, туго сжимаются кулаки от иного взгляда, словечка, способного показаться недобрым и зацепить обидой сознание опьяневшего.
Брага веселит сознание бодростью. Водка злобит, и тогда память, услужая хмелю, напоминает о следах тех или иных поранений души и тела, а сознание начинает настойчиво требовать песни, сложенной мудростью русского народа, которой он скрадывает житейскую безрадостность.
Вначале звучат песни, знакомые всем с детских лет, сросшиеся воедино с народной памятью по всей России. За ними запеваются песни, сложенные у дымных костров старателей с глазу на глаз с суровыми законами уральской природы. В таких песнях грусть перемешана с верой в лучшее будущее, а их четкими словами выявляется вся гольная правда жизни рабочего человека.
Слитность женских голосов звонкостью одухотворяет слова пес ни за застольями и не уменьшают их прелесть даже пьяные осипшие мужские голоса, путающие словесный смысл. Но начинают всхлипывать гармошки, уводят к озорным напевам частушек, а от них не больше шага до плясовых наигрышей. И тогда пустеют душные рабочие бараки с объедками на именинных столах. Гармошки взахлеб выпевают мотивы плясов. Начинается круговерть веселья в пестроте российских ситцев…
На Дарованном центром любого людского веселия становится поляна на маковке холма возле хозяйского дома, окруженная, как колоннами, стволами берез.
Сегодня тут власть кадрилей. Ревут гармошки. На перевернутом вверх дном стиральном корыте белокурая Любовь Тюрина выбивает каблуками башмаков ритмы танцевальных притопов и подает команду о смене фигур танца. Танцоры с торжественными выражениями на лицах, выполняя ее приказы, то сходятся шеренгами стенок, то распадаются на пары, выводя узоры пляса.
Ведет кадриль Бурлачка в паре с рыжебородым хмурым мужиком. Рядом с ней парень с казачьим чубом в сапогах при блестящих лаком новых галошах то и дело путает заходы танцевальных фигур, а Бурлачка, покрикивая на него, с деланной сердитостью выговаривает:
– Чемор, отрывай пятки от земли! Береги, Егорка, траву хозяйскую под ногами!
Егорка растерянно оправдывается:
– Так я стараюсь, поди, – виновато улыбается и, оглядываясь по сторонам, продолжает портить стройность кадрили.
Ревут гармошки, то рассыпаясь рублеными звуками, то затихая до шепота, и тогда ясно слышится топот ног. Умаявшие себя кадрилью танцоры выходят из пляса, но их место тотчас занимают отдохнувшие пары.
Ревут гармошки. От порывов ветра осыпаются желтые листья с веток берез…
На берегу реки, на отмели заводи, где густо разрослись плакучие ивы, девушки с парнями веселили себя частушками. Запевала Клавдия Юбошница с Серафимовского, сменившая Никитушку на нового ухажера. Избранником ее стал Яков – гармонист, мучивший цыганку Эсфирь ревностью. Пела Клавдия под аккомпанемент его гармошки. Сегодня на Клавдии сарафан с воланами оборок по подолу. Сарафан зеленый, а оборки синие с раскиданными на них белыми ромашками.
Чашки чисты, чай душистый,
Кипяченая вода.
Кто нас с Яшенькой разлучит,
Тому чистая беда.
Заканчивая куплет, Клавдия лихо взвизгивала, мелкими шажками обегала круг, пока девушки повторяли последние строки частушки:
Шила милому штаны,
Вышла рукавица.
Он меня похвалил,
Экая мастерица.
У ствола ивы под гирляндами обвислых ветвей стоял грустный Никитушка. Он не сводил глаз с недавней зазнобы, уведенной от него гармонистом, удачно купившим у Бородкина материю для нового клавдиного сарафана.
Клавдия знает, что Никитушка тоскует по ней. Ей самой жаль его, но беда в том, что в парне мало веселости, хотя и умеет заливать слезой глаза чтением стихов. Но Клавдии этого мало. Молчаливая влюбленность Никитушки и его преданность ей скучны, потому живет она на свете всего третий год третьего десятка, переходя из рук в руки парней, умеющих приманивать ее броскими красками ситцев.
Мама, чаю, мама, чаю,
Из большего чайника.
Полюбила я милого,
Земского начальника.
Спела Клавдия, поплыла шажками к иве, у которой Никитушка, и шепнула ему:
– Потерпи. Может, вернусь.
Шепнула, хлестнув память парня заманчивым обещанием. Заставила его похолодеть, а сама, залившись смехом, опять запела:
Моя милка платье мыла,
Я в реке купался.
Она, дура, утонула,
Я над ней смеялся.
Никитушка рванулся с места, быстро зашагал берегом. В его голове шумело. Лишку выпил с горя, что в одиночестве в эту осень будет приминать опавшую листву.
Поравнявшись с плотом, парень увидел женщину с перевязанной головой. Показалась знакомой, но где видел, вспомнить сразу не мог. В руке женщины полное ведро. Позвала его женщина тихо:
– Никитушка. Аль не помнишь? Подсоби, ежели не торопишься. Угощу чаем с морковными пирогами. Вижу, начисто позабыл, а ведь год вместе хищничали подле Таганая.
Парень, вспоминая, взял из руки женщины ведро. К бараку шли рядом. Женщина заметила, что он оглядывает ее.
– Поди, думаешь, что подралась с кем? Не такая. А ты похудел. Так и есть похудел. А все оттого, что Клашка от тебя отсохла.
– Ушла.
– Потому ветрогон девка. Чем не угодил?
– Одурела, начитавшись про любовь заморской королевы, и стала сетовать, что ласка моя для нее со студеностью. Возле Яшки греется.
– Нашла с кем. Он только с виду ухарь, а так слабосильный. Ты, Никитушка, понимай, что без мужичьего тепла в ласке нашему бабьему сословию несподручно по жизни мотаться. Подумай на досуге, может, привыкнешь ко мне. Зима скоро.
– Вдовая, что ли?
– Не помню, как бабой возле золота стала. Кое с кем венчалась под искрами костра, а расставалась при лунном блеске. Какая есть. Гляди. Шить и варить умею, да и совесть чистая с нательным крестом.
– Ладно, за чаем потолкуем. Но упреждаю, что жить к тебе пойду.
– Как велишь. Для меня ты не плох. Хуже Клавки я только тем, что старее, но зато преданность во мне водится, ежели душевным окажешься…
В четвертом часу Олимпиада Модестовна пригласила гостей к именинному столу. Обед готовили по наказу старухи, и она лично приглядывала за начинкой для пирога из осетрины.
Во главе стола по желанию Софьи сидела Олимпиада Модестовна. По правую руку от нее – именинница, рядом с Новосильцевым, а по левую расположились доктор Пургин с Ниной Васильевной, артистка Глинская и Лука Пестов.
Лука выполнил просьбу старухи, сменив косоворотку на манишку. Высокий, туго накрахмаленный воротник раздражал Пестова, и он был хмур и молчалив.
Пили только шампанское. Олимпиада Модестовна, наблюдая за аппетитом гостей, была довольна, что всем угодила выбором обеденных блюд.
Когда подали кофе, Пестов, отказавшись от напитка, обратился к имениннице:
– Дозвольте, Софья Тимофеевна, поблагодарить за угощение и выйти из-за стола. Надо мне взглянуть, как себя люди правят. У мужиков водки много. Дозволите?
– Посмотрите и обязательно вернитесь. Поведете нас на прогулку.
– До чего же приятный старик. Удивительный покой в его глазах. Так и кажется, что обо всем знает, что может радовать и тревожить людей. Согласны со сказанным мной, господа? – спросил доктор Пургин.
– Я лично в нем души не чаю, – ответила Софья.
– И я признаю, что по всем статьям дельный мужик, – согласилась Олимпиада Модестовна.
– Жаль только, что власти относятся к нему подозрительно. Ротмистр Тиунов уверял меня, что именно Пестов тайный руководитель любых беспорядков на промыслах.
– Тиунов и мне говорил об этом, Вадим Николаевич. Но ведь подозрения еще не доказательства.
– Да просто жандармам не нравится его независимое поведение.
– Ты, как всегда, доктор, прав.
Желая переменить тему разговора, Олимпиада Модестовна спросила Пургина:
– Когда к матушке в гости тронетесь?
– Через несколько дней. Задержался из-за именин Софьи Тимофеевны.
– Посмели бы поступить иначе, – засмеявшись, произнесла Софья.
– Надеюсь, встретишься с матерью не так, как я? – спросил Новосильцев.
– Встреча с мамой меня сильно волнует. Ведь столько лет не виделись. Помню ее ласковой-ласковой.
– Материнское сердце отходчиво, Вадим Николаевич. Матерям до самой смерти хочется считать детей несмышленышами. Уж я, грешная, как с сыном воевала из-за его вольностей, а теперь с внучкой воюю, но, видать, так и смирюсь с ее характером.
– Бабушка.
– Молчу, Софушка, молчу. Нина Васильевна, скучать будете без доктора.
– Я, бабушка, уже уговорила ее у нас пожить до возвращения доктора.
– Умница. Правильно поступила.
– Софья Тимофеевна, кто та красивая женщина, поднесшая вам утром хлеб с солью? – спросила Глинская.
– Старательница Людмила Косарева.
– Какой у нее певучий тембр голоса. А как умно и легко говорит.
– На это она мастерица, – вступила в разговор Олимпиада Модестовна.
– Неужели она и полотенце вышила? Первый раз вижу такой узор.
– Я спрашивала женщин. Молчат. Тоже думаю, что это Косаревой работа, ибо прекрасно рисует.
– Мне кажется, Софья Тимофеевна, что полотенце вышивалось с искренним желанием доставить вам удовольствие. Вот и угадай глубины русской души. Царизм, отгородившись от народа ажурными решетками петербургских дворцов, упорно не хочет осознать вольное величие русской души. Русских нельзя заставить жить по строго надуманным канонам жизненного правопорядка, взятого Романовыми за образец с немецкого. Наш народ, все его сословия, привык жить мгновенными велениями сердца и разума. Его никогда не удастся втиснуть в узкие щели дозволенного и недозволенного. Правда, иной раз наши смелые душевные веления оборачиваются тяжкими невзгодами. Но разве русским привыкать, разве им в диковинку какие-либо невзгоды? За плечами народа татарское иго, нашествия всяких иноплеменников, недавно сгинувшее крепостное право, стоившее большей крови, чем нашествие Наполеона. И, несмотря ни на что, мы продолжаем жить по велению души и разума, и нет силы, способной нас от этого отучить. Девятьсот пятый год – подтверждение моих слов. Девятьсот пятый – это вдохновенное величие народного сознания, хотя и приглушенное. Помешала вдохновенным борцам за свободу безграмотность, не позволила им найти верный путь. Но разве, понеся поражение, они утеряли уверенность, что не отыщут этот нужный путь?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































