Текст книги "Связанный гнев"
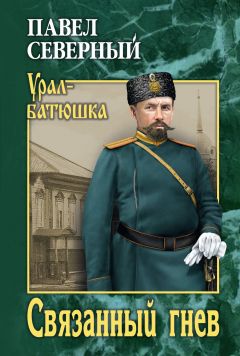
Автор книги: Павел Северный
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
– Надежда Константиновна тоже дворянка, однако она в ленинской партии.
– А я испугалась.
– Так же, как я. Когда в Петербурге слушала Крупскую, верила, что революция соберет вокруг себя все самое передовое, все светло мыслящее ради единой цели – освобождения народа от царизма. Но встречая в Петербурге других революционеров, неожиданно узнавала, что они способны на обычные обывательские подлости из-за партийной вражды и достижения целей своих революционных программ. Это мне было противно. Ибо даже идеи революции у всех были разные. Крупская для меня, Надежда Степановна, была идеалом революционерки. Я наивно собиралась подражать ей. Но не стало рядом идеала, все показалось обычным, угасло мое стремление служить делу революции.
– Рада, что вовремя осознала, что революция не для меня. Я не способна жертвовать собой для других. Готова была на этот шаг под впечатлением девятого января, пока видела перед собой вдохновленность Крупской. Кроме того, до смешного молода. Потом подошло время моего вступления в наследство. Мне захотелось жить, как подобает богатой наследнице. Решила жить не мудрствуя. А по правде сказать, сама не знаю, как буду жить. Вернее всего, с пути рода Сучковых от золота в сторону не сверну.
– В Уфе Надюша Крупская мне постоянно твердила, Софья Тимофеевна, что я способна воспитать в себе качества революционного характера. Но видите, у меня все кончилось другим. Малюсеньким мирком материнского счастья. Мне в нем уютно, и я пришла к убеждению, что в революционной борьбе не найду себе места.
– Вы, Надежда Степановна, верите, что в России будет революция?
– Отвыкла от подобных вопросов. Исторический путь России изобилует контрастными неожиданностями. Спор народа с царями в нашей истории идет столетиями, хотя народ, спорящий о воле, помогал князьям в их удельной междоусобице. Русский народ неизменно велик в любых проявлениях своего бытия. Это особый народ, испытавший бездну страданий. Его подлинный революционный порыв будет страшен для всех вековых устоев страны. Это будет обязательно ураганный порыв разгневанного народа. Порыв двух классов: рабочих и крестьян. Проблески народного гнева страна пережила в пятом и шестом годах. Но, видимо, поражение царизма в японской войне еще не было тем, что способно поднять народ на необходимые революционные подвиги и жертвы… Софья Тимофеевна, теперь я страшусь революции. Боюсь эгоистично, понимая, что она губительна для моего мирка материнского счастья. Особенно меня страшит революция с диктатурой рабочего класса. Единственно, что меня успокаивает – это предположение, что для подготовки в России подобной революции нужны долгие годы. Среди рабочих невероятно трудно создать единство. Однако на Урале рабочие больше всего верят партии большевиков. А мне хорошо известно, что уральцы не легковеры… Расскажите еще о Надюше. Она здорова? Как выглядит внешне? Всегда удивлялась ее удивительной собранности. У нее большой вкус просто одеваться. Удивительная женщина!
– Не бережет себя Надежда Константиновна. Очень устает от работы, от переводов, от беспокойства о Владимире Ильиче. Беззаветно его любит, а отсюда все тревоги. Но нет у нее сейчас семейного покоя. Впрочем, мне ли судить об этом?
– В этом и кроется, Софья Тимофеевна, душевная сила Надюши, ее индивидуальность русской женщины. Отказавшись от всего личного, что нужно женщине для счастья, она, оставаясь женщиной, несет душевное вдохновение и разум идее любимого революционера, мужа и друга. Она непоколебимо верит, что революционный замысел Ленина принесет русскому народу подлинное освобождение от всего, что взвалило на его трудовые плечи многовековое иго царизма. А мы с вами боимся революции только потому, что лишат нас личного благополучия.
– Только ли мы боимся ее? Ведь не только Софье Сучковой она страшна. Я видела, как напугана сановная столица. У всех на устах Столыпин. Все верят, что он положит конец революционному подполью. А если нет? В конце концов, я от крестьянского корня.
– Для рабочего класса вы – капиталистка. Довольно об этом! Мне кажется, Надюше очень тяжело.
– Я предлагала ей послать деньги, но она отказалась наотрез.
– В этом вопросе она очень щепетильна.
– Однако уже поздно, разрешите откланяться?
– Думаете, отпущу от себя в ночное время?
– У меня здесь живет подруга детства.
– Никуда вас не отпущу. Так благодарна вам, что всколыхнули гладь моей тихой жизни.
– Надежда Константиновна просила написать ей.
– Просила написать? Но я разочарую ее, сообщив о своей настоящей жизни. Впрочем, что и говорю. Выйдя замуж, став матерью, не стала мещанкой. Надюша поймет меня и простит мое малодушие. Ведь это ей посчастливилось стать женой необыкновенного революционера…
Надежда Степановна достала из ящичка секретера пачку фотографий, нашла нужную, спросила Софью:
– Хотите взглянуть?
– С удовольствием.
Надежда Степановна передала Софье фотографию:
– Найдите на ней Надюшу.
– Вот! Это вы. Кто седьмая дама?
– Народоволка Четвергова. Светлый ум, несмотря на возраст, а какая в ней бездна душевного тепла! Да, все это было в моей жизни семь лет назад.
В гостиную вошла молодая женщина. Увидев ее, Надежда Степановна спросила:
– Няня?
– Прошу, барыня, глянуть, как скроила баричу ночные рубашки.
– Сейчас приду! Извините меня, Софья Тимофеевна, я на минутку покину вас!
Оставшись одна, Софья рассматривала фотографию, где Надежда Константиновна Крупская показалась ей совсем такой, какой видела ее в Петербурге.
Где-то в доме стенные часы мелодично прозвонили десять ударов. А в какой-то щели комнаты временами поскрипывал сверчок…
5
Лука Никодимович Пестов, новый главный доверенный Софьи Сучковой, появился в доме ранним утром. Пришел он с черного крыльца в кухню. Горбатый старичок не торопясь снял шапку и овчинный полушубок. На нем опрятный пиджак поверх белой холщовой рубахи, плисовые шаровары, вправленные в подшитые валенки. Расчесав частым гребешком все еще густые седые волосы, он оторвал от бороды и усов намерзший ледок. Заметив на валенках снег, постукал ногами о порог и, ласково улыбаясь, сказал кухарке, хлопотавшей возле квашенки:
– Самоварчик оживи, Михайловна! По морозцу прогулялся, а посему охота густого чайку испить. Кажись, будто не рада мне?
– Господь с вами! Скажете такое. Ноне вы кто? Главный доверенный, второе лицо после хозяйки. Вот и не знаю, как обходиться с вами.
– По-старому, Михайловна. Понимай, должность у меня новая, а обличием все тот же, каким четверть века знаешь.
– Да все тридцать годков, Лука Никодимович. – Михайловна разбудила спавшую на лавке девушку, покрытую с головой тяжелым тулупом. Высунув из-под него голову, девушка громко зевнула, но, увидев чужого человека, быстро встала, поняв жест кухарки, показавшей на стоявший на столе самовар, отнесла его к печке и стала наливать воду.
Лука сел на лавку около стола. В переднем углу перед иконой Симеона Верхотурского весело горела лампадка.
В прошедшем году, после Николы Зимнего, Лука начал жить седьмой десяток. На здоровье все еще не жаловался, хотя при ходьбе по холоду покашливал. Родом он из Сатки, только от его корня живых никого не осталось. Возле золота Лука с парнишечьих лет, из-за горба прожил бобылем, хотя он его и не очень безобразил. Самому же Луке всегда казалось, что ни одна девушка не пойдет с ним под венец. Жил всегда безбедно, а на пятом десятке сошлась тропа его жизни с тропой Тимофея Сучкова и стал он другом и советчиком богатого хозяина. Потом вскорости Тимофей Сучков умер, а он так и остался на его промыслах старателем, заступаясь за обиженных работных людей, снискав этим доверие и преданность. Но заботами об обиженных Лука нажил ненависть приисковых смотрителей, доверенных и самой Олимпиады Модестовны. Устав от их разных притеснений, ушел с промыслов, но после нескольких лет, проведенных возле завода, вновь вернулся к пескам.
Лесным человеком считал себя Лука, но грамоту постиг по-настоящему. Дельно знал законы Российской империи, разбирался в горнозаводских уставах. Начальству это не нравилось. После пятого года приглядывала за ним полиция, но придраться ни к чему не могла. Так жил Лука до дня, когда приехала за ним молодая наследница и объявила своим главным доверенным. Старик оказанную ему честь принял спокойно, виду не показал, что на самом деле она его глубоко взволновала. Лука ждал этого. Верил, что его любимица, наконец, объявится хозяйкой и не забудет о его дружбе с покойным отцом.
Осматривая кухню, Лука сказал Михайловне с ноткой неудовольствия:
– Потолок здорово подкосился. А ты, Михайловна, в памяти моей числишься чистоплюйкой, хворостиной тебя стегани!
Михайловна, взглянув на старика, ожидала встретиться с его суровым взглядом, а увидев на лице неизменную улыбку, ответила:
– Винюсь. За заботами не доглядела, когда к Рождеству белили. Сама знаю, что плохой рукой сробили. Завтра же…
– Не обязательно завтра. Но порядок наведи. В дому у молодой хозяйки житуха другим аллюром пойдет. – Лука с удовольствием наблюдал, как девушка ловко управлялась возле самовара, и спросил ее: – Звать как?
– Санькой, – ответила девушка, не зная, куда деть измазанные углем руки, наконец, торопливо спрятала их под фартуком.
– Александрой, выходит, тебя крестили. Вели звать тебя Сашей. Санька к твоему обличию не подходит. Так вот, Саша, кто у вас старшим кучером? Все, поди, Митрич?
– Обязательно он.
– Вот и сходи к нему. Пусть придет с острыми ножницами.
– Пошла.
– Погоди! Позовешь Митрича, добеги в Мокрый переулок к портному Тугорукову. Скажешь, надобен мне, чтобы мерку снять. Пусть захватит с собой образчик сукна. Скажешь, что шить на меня будет.
– Еще чего?
– Все. Руки помой и ступай за Митричем. Бороду надумал на другой фасон постричь, а лучше Митрича никто этого не изладит.
Девушка, помыв руки, надев валенки, выбежала из кухни.
– Шустрая у тебя помощница.
– Старательная. С полуслова все понимает, – подтвердила Михайловна. – Может, Лука Никодимович, к чаю тебе лепешек испечь.
– Не навеличивай. О моем отчестве вспоминай, когда распекать стану, ежели неладное сотворишь. Лукой зови. Не перед всеми в новой должности буду важничать. А лепешек испеки.
* * *
Одеваясь, Олимпиада Модестовна узнала от Ульяны, что в доме появился Лука Пестов. Старуха приказала девушке спешно прибрать постель и позвать Луку, не приминув напомнить ей:
– Вежливо пригласи. Он больше не дед Лука, а доверенный, и для всех нас начальство.
– Калистрат куда денется? – спосила Ульяна.
– Узнаешь. Любопытная до чужих дел. Ступай!
Когда Лука вошел к старой хозяйке, она стояла у комода. Старик кашлянул, старуха обернулась. Прищурившись, оглядела его.
– Заходи смелей, Никодимыч. Рада повидать тебя, – подошла к нему и подала руку. – Здравствуй! Никак у тебя борода короче стала?
– Сейчас Михеич укоротил.
– Ишь, какой мастер, а я про то и не ведала.
– Ты многое про своих людей не знаешь. Но на тебе в том вины нет. Приучила себя о людях с чужих слов судить.
– Так. На любой мой высказ у тебя свой обсказ? Хворостинкой тебя стегани.
– Помнишь мою присказку?
– Про тебя, Лука, все помню. А бороду ты наладил вовсе, как у моего покойного сынка.
– На люди Софушка на седьмом десятке вывела, а для этого пришлось поубавить на себе лесное обличие.
– На многое, Лука, нагляделся, а теперь глядишь, как меня судьба от золота в сторонку отодвинула.
– Не можешь гордость свою переломить? Оно трудно такое в наши годы. Гордость, что заноза под ногтем. Обидно тебе, что лишили тебя хозяйской власти? Но главного звания тебя в доме не лишили. Была бабушкой Софушки, так и осталась ей. И внучкино уважение к твоему званию прежнее.
Желая переменить тему разговора, Олимпиада Модестовна спросила Луку:
– Пошто с черного хода пришел?
– Чаю захотелось. Знаю, чать, что с тобой в такую рань чаю не напьюсь.
– В сторону ушел от ясного ответа?
– С парадного стану ходить, как приобвыкну к новому положению.
– Чего носить станешь? Про валенки да плисовые штаны позабыть придется.
– Собирался поддевкой обходиться, да Софушка определила, что надлежит мне быть в сюртуке и штиблетах. Спорить не стал, но выговорил, что под сюртук стану надевать холщовую рубаху. В манишке задохнуться боюсь, а охота пожить в звании доверенного, хворостиной тебя стегани.
– С Софьей не больно поспоришь. Лихая девка на мысль.
– Лишь бы на руку, Олимпиада Модестовна.
– Лука, обиду на меня носишь в душе?
– Чем обидела?
– Ладно, не юли. При моем царствовании не в начальниках ходил. Виновата перед тобой.
– Коли чуешь вину, в церкви свечку перед Лукой-угодником засвети. Мне не кайся. Нет у меня власти грехи отпускать.
– Ко времени про Божий храм вспомнил. В новом звании придется тебе к обедне ходить. На виду у людей будешь. Время ноне ходкое. Люди глядят, как чтишь Господа.
– Люди ништо. Жандармы страшнее. Они глядят, с каким выражением имя государя с государыней поминаешь. Чуть неласково скажешь, сразу тебе по скуле кулаком, по столыпинскому наказу. Ходить в церковь стану, потому не пойду – попики сами заявятся. Потому теперь не Лука-горбун, а господин Пестов. А у кого при помысле о сучковских капиталах слюни не текут? В безбожники не обряжай, потому без креста в лесу с нечистой силой не совладать.
– Ты кержак?
– При надобности двумя и тремя перстами крещусь.
– Просьба к тебе. Станешь делом править, за былые промашки Калистрата Зайцева не забижай. Помятуй, что и он в почетных годах.
– Вины на нем не углядываю. Вы его запрягли в свою телегу. Любой конь в хомуте везет в ту сторону, куда вожжа тянет. Ты хозяйствовала, он только тебе цифры в книги записывал, хворостинкой тебя стегани. Наказывать буду только отпетых воров, особливо Дымкина.
– Не тронь его, Никодимыч. Глубокие у него корешки. Со всяким начальством ходит. Скажет, как в старину, «слово и дело», и звенят железа на неугодных ему людях. Вспомни, как прошлым летом хозяйничали казачки на приисках да рудниках. Чем Дымкин меня на поводу вел? Страхом. К тебе полиция по чьему наущению в сундучки лазила?
– Страсти какие! Дымкин, матушка, в моем понятии – гнида, тобой вскормленная. С начальством в ладу? Понятно и это. Сучковскими деньгами взятки давал. Поглядишь, как теперь станут его привечать, когда не станет ублажать дружков со всякими кокардами.
– Мое дело упредить. Рисковый ты. Неохота мне на тебя в арестантской одежде глядеть.
– Мудрость людская сказывает: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Поживу – погляжу, хворостинкой тебя стегани.
– Позвала тебя…
– Догадался.
– Стало быть, ты Софье отписывал в столицу?
– Я, по ее просьбе. Слово с меня взяла сообщать обо всех беззаконностях возле ее денег.
– А я-то который день голову ломаю.
– Врешь! Сразу догадалась, потому в головушке у тебя царек водится.
– Тогда и на сей вопрос ответь.
– Спрашивай!
– Обо всем Софье писал про мою жизнь?
– Нету! Только о ворах, коим потакала. Чтобы знала наследница, в чьих карманах ее денежки место нашли. А про другое ни-ни. Про твое женское поведение ни одной буковки не вывел. Понимал, кто ты такая. Не гляди, что Лука бобылем состарился. Он на женскую долю со всех сторон нагляделся.
– Значит, не очернил мою вдовью судьбу?
– Не обучен чужую жизнь грязью закидывать. Твоему сыну клятвенное слово дал – оберегать сучковское добро. Вспомяни, как тебе про многое говорил! Ты не мне, а своим шептунам верила. Больно сладко пели про твою вальяжность. Ладно! Разговорился, как подвыпивший псаломщик. Не хотел правду тебе открывать. Сказал, потому за руку со мной поздоровалась.
В хозяйкину спальню вошла Марьяна.
– Чего тебе?
– Софья Тимофеевна приглашает обоих чай откушать.
– Слыхали? Не зовет хозяйка, а приглашает. А слово это означает ее уважение к нам.
Глава VIII
1
У Новосильцева в синей гостиной любимый хозяином полумрак, а от него комната кажется просторней. Свечи горят на столике около статуи Дианы, свет золотит мрамор.
На плечи Вадима накинут бухарский халат и, шагая по комнате, слушает он мастерскую игру на гитаре. Играет доктор Дмитрий Павлович Пургин. Играет «Половецкие пляски» Бородина. Пряди русых волос с проседью, ниспадая, щекочут лоб, и доктору приходится вскидывать голову. Костюм на докторе дорожный: валенки и меховая куртка.
– А ведь я опять получил приглашение из Питера. Зовут в частную клинику, – не прерывая игры, сказал доктор.
– Не удивлен. Не первый и не последний зов из столицы. И до Северной Пальмиры докатилась молва о «лапотном докторе». Поедешь? – спросил Новосильцев.
– Нет. Не смогу расстаться с Уралом.
– А еще петербуржец. Неужели в самом деле не тянет?
– Бывший петербуржец, и меня туда не тянет.
– Хочется мне узнать, почему ты покинул Петрово творение?
– Вынудили обстоятельства. Было мне тогда двадцать четыре года, – доктор начал подпевать мелодии, а перестав петь, добавил: – И обстоятельства тогда казались такими серьезными. – И снова под его пальцами звенели струны гитары, а комната наполнялась стремительной, тревожной, восточной музыкой.
За окнами не на шутку без устали которые сутки бушевал уральский буран. Ветер спутывал снег и стужу. Беспощадная стихия, одичав, все упрятала в непроглядном тумане взбаламученных снегов. Сугробы косматились конскими гривами. Не стало на уральской земле древнего Златоуста, стерлись сторожившие его горные хребты. Все исчезло, только свирепый ветер гнусавит на все голоса, и чаще всего слышится в его подвывании блеяние стада перепуганных овец. Наскоками вихрей ветер мечется из стороны в сторону. Завивает столбики поземок, оскребая сугробы на городских улицах, стелет снежные половики к берегу реки Ай. Скатываются они с береговых откосов, наметами принижая их высоту. В роще новосильцевской усадьбы, в снежном дыму, со скрипами раскачиваются дряхлые березы, мотают ветвями, будто отмахиваются от студеной непогоды.
Доктор Пургин, всегда желанный гость в доме, появился сегодня после полудня в самый разгар буранной бесноватости. Завернул по пути, возвращаясь домой с операции в Сыростани. На Урале Дмитрий Павлович человек известный. Ходит о нем громкая молва, величают его по-всякому: то «легким на руку хирургом», то «лапотным доктором», то «чудаком-барином». Об его житейских причудах можно услышать массу правдивых и придуманных рассказов, особенно на приисках, и во всех говорится о нем, как о непонятном и через силу хорошем человеке.
Для Новосильцева доктор – друг. Сдружила его с хозяином музыка. Пургин неплохо играл на пианино, но лучше на гитаре.
Двадцать лет живет он на Южном Урале, а уральцам все равно непонятна его барская блажь бродяжить в летнюю пору в лаптях, в обличии старателя, по приискам, оказывая помощь больным. Заботится доктор о людях, возвращает им здоровье, а всем на промыслах чудной кажется его жизнь среди их трудовой каторги на золотоносных песках. Зимой Пургин живет в разных горных заводах. Эту зиму коротает в Златоусте. Здесь у него много друзей и просто приятных людей. Работает в больнице. Редкий день для него обходится без операции. Больные приезжают за помощью из разных мест. Но наступит весна, солнце превратит мертвые сугробы в журчащие ручейки, в потоке вешней воды и Пургин расстанется с уютом зимней жизни. В гуще трудовой приисковой суматохи бродит по разным тропам, выискивает места, где нужна его помощь. И нередко в отсветах случайного костра можно увидеть его, курящего цигарку из душистой махорки. И так до первых золотых метелей осени. Из года в год.
Перестав играть, Пургин повесил гитару на ковер рядом с боевой шашкой хозяина с эфесом, обвитым красной лентой анненского темляка. Подошел к окну, послушал вой ветра.
– Здорово свирепствует. Вовремя до тебя добрался, а то бы вспоминал всех святых.
– Пусть перетрясет сугробы. От заводской копоти загрязнились. Ты, надеюсь, у меня ночуешь? Лошадей твоих сразу отправили на заводскую конюшню.
– Не возражаю.
– Не помогло бы. Своих лошадей не дам, а пешком сам откажешься, любезный Митрий Палыч. Слушал сейчас «Половецкие пляски» и окончательно убедился, что Бородин чертовски талантлив. Какая у него проникновенность в музыкальное соединение восточного и русского колорита… Так, может быть, все же расскажешь, как расстался с Петербургом?
– Рассказать про свои серьезные обстоятельства?
– Именно. Вспомни! Осенью обещал рассказать, как стал уральцем.
– Скажу! В жизни у меня две дороги. Одна длиной двадцать четыре года, а по второй шагаю двадцать первый год. Первая была на берегах Невы, а вторая тянется среди гор и лесов Урала. В Петербурге мое прошлое. Барский сынок. Гимназист. Студент-белоподкладочник. Начало карьеры подающего надежды хирурга. С первой дороги свернуть пришлось круто после операции с роковым исходом. Пациент умер на операционном столе. Угрызения совести заставили покинуть родной город и, очертя голову, бежать на неведомый Каменный пояс с твердым намерением забыть о профессии доктора и никогда не брать в руки скальпель. Но… – Пургин, задержавшись у окна, замолчал. Потом направился к роялю, облокотившись на него, продолжал: – Но то, от чего бежал – догнало меня. Встретился с долгом врача внезапно на глухом руднике. Сделал операцию на грудной клетке на грязном столе при свете керосиновых ламп, в рабочей казарме. Взялся за операцию, когда местный врач отказался, обрекая тяжелораненого на смерть. Пациент выжил и здравствует доныне. Аминь! На этом можно и закончить о серьезных обстоятельствах доктора Пургина. Но все же продолжу. Тебе тоже не совсем понятна моя бродяжная блажь. В самом деле, зачем летом мотаться по приискам, когда можно работать в больнице, наконец, иметь частную практику?
Так слушай. Та операция вселила в меня уверенность. Я снова поверил в себя, в свои руки, знания, забыл свое слабоволие. Снова стал хирургом, связав свою жизнь с летним бытом трудового люда, среди которого нашел потерянное «я».
Слушая доктора, Новосильцев видел, как менялось выражение его нервного лица. Мысленная встреча с прожитым его взволновала, но в то же время ему хотелось продолжать разговор о пережитом.
– За годы настоящей жизни мне удалось узнать, что на промыслах в рабочем быту счастье и горе вечно спорят о власти над людским разумом. Этот спор всегда смывается кровью. И не только по вине людей. Выливает из них кровь и природа, калеча бесшабашных смельчаков, рискующих вступать с ней в единоборство. И вот эту кровь уже двадцать лет стараюсь сохранять в людях всеми возможными средствами медицины. Как видишь, в прошлом за смерть пациента злопыхатели обвинили меня в чрезмерной смелости неопытного хирурга. В настоящем моя смелость и решительность на каждом шагу помогает мне делать сложнейшие операции в самых примитивнейших условиях, и никто из моих пациентов не ложится на стол под образа. Почему же здесь мне сопутствует удача? Оттого, что люди мне доверяют, а это доверие, не сковывая меня, дает мне силу уверенности. И знаю, что теперь даже случайная неудача не отнимет от меня титула «лапотного доктора», не лишит авторитета.
Отойдя от рояля, Пургин достал портсигар и закурил папиросу. Остановившись около камина, спросил:
– Почему не топится?
– Вчера попробовали. Напустили дыма.
– Понятно. Теперь скажу, почему мне будет трудно расстаться с Уралом. Прошедшим летом в дождливый вечер в избе старателя Наума Косача мне довелось встретиться с девушкой – Ниной Петровной. Короче, я полюбил ее. В ответном чувстве удивительной девушки обрел награду за все пережитое в долгом одиночестве. Нина Петровна вошла в мою жизнь стареющего бобыля, заставила меня понять, что наша встреча и есть мой первый подарок судьбы, полученный в глухом таганайском лесу от чуткой смелой девушки. Осень разлучила нас до нового лета.
– Кто она?
– Учительница зимой, летом лесная жительница, влюбленная в природу родного края. Сирота. У отца была небольшая торговля, но его убили в лесу бродяги. Сейчас учительствует в селе Катайском на Среднем Урале. Если бы знал, как она говорит о людях, какое тепло хранится в ее сердце! Я счастлив! Ты видишь перед собой счастливого человека. Согласен, что не смогу уехать с Урала, хотя в Питере старушка мама. Я писал ей о встрече с Ниной. В ответ получил материнское необычайно ласковое письмо с обещанием молиться, чтобы был с Ниной счастлив.
– Значит?
– Об этом еще не говорили.
– Уверен, что действительно любишь?
– Конечно!
– Завидую. Да, завидую… У меня…
– Договаривай! Что у тебя?
– Ничего, Митрий Палыч.
– Не скажешь?
– Не сегодня. Мне тяжело вспоминать об этом.
– Понял. Не предполагал.
Новосильцев перебил доктора:
– Не предполагал, что я способен любить?
– Что своим рассказом заставлю тебя вспомнить о своем сокровенном.
– Извини! Спасибо! Таким тебя еще не знал, милый доктор. Ты хороший. Бываю счастлив, когда ты около меня. Который час?
Доктор взглянул на карманные часы:
– Восьмой.
– Скоро ужин. Специально для тебя заказал карасей в сметане. Погоди… Слышишь? – Новосильцев, прислушиваясь, подошел к окну. – Слышишь? Или у меня в ушах звенит? Иди сюда.
Доктор подошел к Новосильцеву прислушался, приоткрыв тяжелую штору.
– Как будто колокольцы.
Оба ясно слышали перед домом перезвон колокольцов.
– Кто же это в такой буран обо мне вспомнил?
– Действительно, кто приехал? Возможно, сбились с пути. Пригнали, ища спасения, на огни в окнах.
В гостиную торопливо вошел улыбающийся Закир.
– Гости ходил, барин.
– Кто?
– Хозяин Ворон и один женщина.
– Какая женщина?
– Незнакомый. Сам смотри.
Новосильцев поспешно сбросил с плеч халат и вышел из гостиной. В вестибюле он увидел Владимира Воронова, помогавшего горничной раскутывать молодую женщину.
– Здравствуйте, Владимир Власович.
– Прошу прощения за такое несуразное вторжение. Буран вынудил искать у вас спасения.
– Милости прошу! У меня сегодня счастливый день. Доктора Пургина ко мне тоже буран загнал.
– Это совсем хорошо. Давненько не виделся с ним.
– Идемте скорей в гостиную, там у меня тепло.
Раздетая спутница, поклонившись Новосильцеву, рассматривала его с явной тревогой. Они вошли в гостиную. За ним вбежала горничная и зажгла свечи в торшере около камина.
– Что прикажете, барин?
– Беги на кухню и поторопи с ужином. Стол накроешь в красной столовой.
– Слушаюсь!
– Знакомьтесь, господа! Сестра моя – Ксения.
Щуря глаза от яркого света, Ксения протянула руку Новосильцеву и неожиданно опустилась на колени. Новосильцев, подхватив, не дал ей упасть на пол. Легко взяв девушку на руки, Новосильцев положил ее на диван. К ней подошел доктор и послушал пульс.
– Что с ней?
– Спокойствие. Обычный обморок от перенапряжения нервной системы. Немедленно в кровать, вдобавок у нее высокая температура.
– Владимир Власович, несите сестру в спальню! – сказал Новосильцев.
Воронов взял сестру на руки и вместе с доктором вышел из гостиной.
– Какая незадача. Все идет наперекосяк, – сказал вернувшийся Владимир Воронов. – Жила у меня три дня. Рабочий из Каслей предупредил, что жандармерия в заводе ищет беглых ссыльных. Воспользовавшись бураном, решили перевезти сестру в Сатку, но добравшись до вас, дальше не рискнул.
– Отважилась на побег из Сибири?
– Как видите. Полтора месяца до меня добиралась.
– Кучер надежный?
– Сам правил. Трудно теперь в людях разбираться. Позволите ей побыть у вас некоторое время?
– Не слышал неуместного вопроса.
В гостиную, напевая, вошел доктор:
– Все не так плохо, но температура солидная. Будем надеяться, что спасем барышню от воспаления легких. Я налицо, посему полное спокойствие. Идите к ней, Владимир Власович, расскажите, куда завезли, одним словом – успокойте. Судя по всему, девушка не из робкого десятка.
– Как думаете, Дмитрий Павлович, может быть, лучше поместить ее в турецкую гостиную? Там уютно.
– Сегодня не надо. Поспит ночку в твоей спальне. Ступайте, братец, к сестренке.
После ухода Воронова, доктор закурил папиросу.
– Ты что, трубку разлюбил?
– В дороге всегда обхожусь папиросами. Не предполагал, что у Владимира такая прелестная сестрица в ссылке. Просто немыслимая девушка. Ведь откуда драпанула? Из Сибири! Я бы не рискнул, да еще зимой. Владимир – молодец! В правильное место привез крамольницу, под кровлю господина Новосильцева, к коему стражи царского престола запросто не вхожи. Буквально немыслимая девушка.
– Отчаянная. На вид хрупкая статуэтка.
– Кровь в ней вороновская. Братец тоже ухарь. Извини! Пойду посмотрю на буранную пациентку. А ты подумай, где будешь ночь коротать, потому на диван я лягу с Владимиром.
2
Софья Сучкова с бабушкой принимала гостью в парадном зале. Залиты его просторы морозным солнцем. Отбушевал буран. Перемел в Сатке сугробы на новые места. Приехала к Сучковым Анна Кустова. Знает она Софью с детских лет, а с Олимпиадой Модестовной не один пуд соли съела. Не раз бывала гостья в сучковском зале, а оттого и бросилось в глаза, что нет на стене царских портретов, а, заметив такое новшество, не смолчала.
– Родительские лица с твоим, Модестовна, теперь вместо венценосцев висят. Глядят, как дочка жизнь налаживает. Твое распоряжение, Сонечка?
Вместо внучки ответила на вопрос бабушка:
– Рамы ей не понравились.
– Права! Рамы были неказистые. Нонешняя позолота на багетах даже у икон не стойкая. Тускнеет быстро.
– Ты по каким делам в Сатку? – спросила старуха.
– По мелким. Зерно мне здесь пшеничное должны, вот я и решила его на саткинской мельнице смолоть. Но это так. Главное, приехала взглянуть на твою молодую хозяйку. Хороша. Женихи табуном пойдут.
– Рановато ей. Пусть вольной в охотку поживет. Женихи ноне с червоточиной.
– А у тебя глаза зачем?
– На все у тебя, Анюта, слово сыщется. Гляжу, что никак в тебе кровь не устоится.
– Да разве позволю ей устояться? Живая пока, вот и живу не по-мертвому.
– Слыхала.
– У нас, Модестовна, разве скроешь? В Челябе чихнешь – в Чердыне услышат.
– Болтают люди: о расторжении брака собираешься хлопотать?
– Имею такое намерение. Что скажешь, Сонечка, о моем облике?
– Что скажу? Прежняя вы, Анна Петровна. Только вот глаза радостью искрятся.
– Ох, девонька! Спасибо за сказанное. Стареет Волчица. Слыхала про мою любовь?
– Нет.
– Сейчас скажу. Полюбила господина Болотина. Полюбила, и все тут, а люди от скуки бог знает что плетут обо мне. Не нравится им, что молодого полюбила.
– Сами не старуха.
– Но все же в годах. Любимый моложе меня. Но любовь про года разве спрашивает? Так ведь?
– Кто такой?
– Студент. На поселении здесь за политику. Учительствует в Миассе. Срок у него недавно кончился. Опять вольным стал.
– Смотри, Петровна, чужак нашему краю.
– Верно, Модестовна, из Москвы родом.
– То-то и оно. Москва – не Волчицын посад возле Тургояк-озера.
– Думала про это. Недавно, как стал вольным, спросила его. Сказал, что от меня никуда не уедет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































