Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
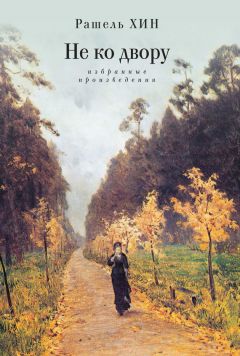
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц)
Приехавшего на другой день в дубки Коломина приняли не только радушно, но даже подобострастно. Ора Николаевна хотя и отказалась сначала играть, но мотивировала свой отказ нерешительностью, опасением не выдержать роли, говоря, что не признает за собой никакого сценического дарования. Гость же с подобающей почтительностью упрекнул ее в излишней скромности, уверяя, что он с своей стороны, как человек, страстно любящий театр и видавший на своем веку много артистов, находит всю фигуру Оры Николаевны чрезвычайно сценичной, а что манера говорить и жестикуляцией она положительно напоминает Делапорт.
Сидевшая с Костей в углу, Сара с любопытством подняла глаза на Коломина, желая, по-видимому, убедиться – смеется он над простодушными хозяевами, или говорит серьезно. Он говорил с полным убеждением и, встретив недоумевающий взор Сары, внимательно посмотрел на нее задумчивыми несколько влажными глазами.
Борис Арсеньевич Коломин был уже не молод. Ему даже по виду можно было дать больше сорока лет. Высокий, плечистый и, несмотря на начинающуюся полноту, еще стройный – он выдавался своей мощной фигурой. Русые волосы, перемешанные белыми нитями, густые, хотя уже поредевшие на висках, красиво обрамляли его широкий, белый, испещренный тонкими морщинами лоб. Серые умные глаза, окруженные целой сеточкой лучистых складок, глядели обыкновенно не на собеседника, а куда-то через его голову. Крупный, чисто славянский нос, большой, резко очерченный рот и крутой подбородок, теряющийся в длинной, рыжеватой бороде, – составляли вместе одно из тех немногих лиц, которые одинаково нравятся и мужчинам, и женщинам.
Одет он был хорошо, но не особенно щегольски.
– Какой он, однако, красивый этот губернский дон Жуан, подумала Сара.
Серафима Алексеевна не хотела отпустить гостя без обеда. Он охотно согласился остаться. За столом Коломин искусно завел общий разговор, давая каждому случай вставить свое слово, держался непринужденно, так что Сара, против ожидания, нашла оригинал совсем непохожим на изображенный Орой Николаевной портрет.
– А вы, Сара Павловна, не желаете принять участие в нашем спектакле? – обратился он к ней.
– Нет, – односложно ответила она.
– Как это жаль, мы бы для вас поставили другую пьесу.
Сара промолчала.
– Вы, вероятно, жили прежде в Петербурге, – продолжал он, не смущаясь ее молчанием; – мне кажется, что я уже вас где-то встречал.
– Вряд ли, я жила в Петербурге недолго и никуда не выезжала.
– Не думаю, чтобы я ошибался; я вообще обладаю превосходной памятью на лица, а ваше лицо трудно не запомнить. Ба!.. вот я и вспомнил! Вы поразительно похожи на одну картину Мурильо…
– Вы, кажется, страдаете слабостью всюду находить сходство, – сказала Сара, и в голосе ее явно зазвучала насмешливая нотка.
Коломин понял намек и закусил нижнюю губу.
– На этот раз я могу доказать вам, что моя слабость опирается на реальное основание. Если позволите, я вам привезу прекрасную гравюру с этой картины.
Сара холодно наклонила голову.
– Ах, m-г Коломин, как бы это было мило с вашей стороны, если б вы привозили нам иногда книги, – заговорила Ора Николаевна, которой совсем не понравилось внимание гостя к гувернантке, – вы наверно выписываете много журналов.
– Вся моя библиотека к вашим услугам, – любезно ответил Коломин.
Время летело незаметно. Разговор перескакивал с одного предмета на другой. Коломин как-то сумел всех к себе расположить и привлечь. Он припоминал разные случаи из своей жизни, говорил о своих путешествиях. Рассказал между прочим, как он, будучи еще совсем молодым человеком, перебрался с помощью еврея-контрабандиста через границу. Контрабандист, по его словам, походил на настоящего итальянского bravo[43]43
Молодца!
[Закрыть], сорвавшегося с картины Сальватора Розы, и поражал своей храбростью, составлявшей особенный контраст с его, Коломина, трусостью.
– Мне было мучительно стыдно, – рассказывал Коломин. – Малейший шорох заставлял меня вздрагивать, и когда над нами с громким криком взвилась ворона, я чуть не упал в обморок. Вдруг над самой моей головой раздался выстрел. Это были, вероятно, караульные солдаты. Волосы мои стали дыбом; мне показалось, мне показалось, что я лечу стремглав в страшную бездну, и я с ужасом почувствовал, что умер. Когда я пришел в себя, уже начало рассветать; голова моя покоилась на коленях контрабандиста, который тер мне лоб и виски водкой, – он, видите ли, ухитрился стащить меня в овраг. Не могу вам выразить, до чего я обрадовался. Я расплакался как десятилетний мальчишка. Контрабандист смотрел на меня с пренебрежительным сожалением, – так мне, по крайней мере, казалось. Помню, что в порыве радости я пытался убедить его переменить профессию, но он только рукою махнул. Тогда я, по молодости, вознегодовал, но, проживши несколько лет в наших западных губерниях, присмотрелся к нищенски-жалкому прозябанию еврея и стал смотреть на вещи снисходительнее.
В душе Сары зашевелились давно заглохшие струны. На нее пахнуло как будто чем-то родным. Она вся оживилась, на бледных щеках вспыхнул румянец, глаза заблистали, на сжатых обыкновенно губах заиграла улыбка. Она незаметно для себя увлеклась, и, когда беседа перешла на литературу, разговорилась – горячо, порывисто, как долго молчавший человек.
– Вы слишком требовательны, – возразил Коломин на какое-то ее замечание – у нас теперь нет поэтов, да и быть их не может.
– Но почему же?
– А потому что условия жизни всего менее поэтические. “Нам нужен хлеб, нам деньги нужны”… Какая уж тут поэзия!
– По-моему, это совсем не так, – заметила Сара. – Если нужен хлеб и нужны деньги, это только доказывает, что нам точно голодно и холодно живется на свете. Нужда и страдания естественно должны вызывать жалобы, а когда в жизни человечества выпадала особо скорбная полоса – самыми яркими выразителями общих страданий являлись… поэты.
– Другое время – другие песни. Оглянитесь кругом. Вчерашний радикал и космополит выдал товарищей, получил “мзду” за усердие и печатно вопит о своем раскаяньи; юный отпрыск дворянской фамилии обокрал кассу или подделал вексель; жена самым простодушным образом заводит друга дома, а супруг не менее добродушно бьет окна в ресторанах… А пресловутая меньшая братия, наши милые пейзане! Перепьются до положения риз, оттаскают своих пейзанок за косы и затем приводятся в нормальное состояние философами волостного правления – самобытным способом… – сколько влезет. Вот вам сюжетики нашей современной поэзии. Бывают, конечно, видоизменения, но это, так сказать, колоратурные украшения к основному мотиву.
– Но ведь мотив этот ужасен. Ведь это невежество, повальный мрак… А величайшие произведения человеческого духа, это скорбная повесть о страдании и несчастьях людей. Я не говорю о таких писателях, как Шекспир, Гете, Диккенс… Но возьмите – Гоголя, Тургенева, Достоевского… Разве они изображали одних очаровательных красавиц и интересных кавалеров? И, несмотря на низменность, как вы говорите, сюжетиков, сколько в них чарующей, неувядаемой прелести? Они никогда не умрут, потому что отражают человеческие страдания, а страдание – вечно…
Одна лишь радость мимолетна и призрачна.
Последние слова Сара произнесла тихим упавшим голосом, и на лицо ее легло печальное облачко. Коломны глядел на нее с нескрываемым интересом.
– Вы слишком сильно чувствуете, слишком живете нервами, это не годится, – сказал он.
– Что же “годится”?
Он улыбнулся и продекламировал вместо ответа: “Давайте жизнию играть, пусть чернь тупая суетиться, не нам безумной поражать”.
– Эгоизм, – сказала Сара. – А что выигрывают вечные труженики и печальники?
Коломны подошел к роялю, взял несколько аккордов и пропел мягким баритоном куплет из Шубертовского “Лейермана”.
Вот она, ваша сердобольная чернь, как она награждает артиста, – сказал он вставая.
– Как вы хорошо поете, я и не подозревала, что вы обладаете такими разнообразными талантами, – воскликнула Ора Николаевна.
– О, помилуйте, я неисчерпаем, – весело ответил Коломны и стал искать глазами Сару. Она сидела в тени, согнувшись, вся бледная.
– Отчего же вы не увенчаете лаврами певца, – обратился он к ней шутливо, но, взглянув на ее нахмуренные брови, поспешно отошел от нее.
А Сара молчала, потому что ей вдруг вспомнился добродушный тон рассказа Коломина о контрабандисте, и она усомнилась в его искренности. Ей как-то не верилось, что можно произнести слово “еврей” без прибавления – плут, мошенник, подлец, когда к этому представляется удобный случай, и вдруг ее осенила мысль – верно он знает, что я еврейка, и великодушничает… ну, конечно, как это я раньше не догадалась…
Остальная часть вечера как-то не клеилась. Сара скоро ушла наверх; Коломин немного посидел после ее ухода и уехал.
XIXСара была недовольна собой. Ей было неприятно и даже как бы стыдно, что она перешла за границу той черты, которую она сама себе провела и обнаружила перед людьми, совершенно ей чужими, часть своей внутренней боли, которую она так старательно от всех прятала, о которой сама старалась забыть. И что они теперь обо мне думают: генеральша, Орочка? Наверно скажут: вот притворщица, корчила из себя недотрогу-царевну, а увидела интересного кавалера и растаяла… Да и лев этот провинциальный, должно быть, уже празднует победу над смазливенькой гувернанткой…
Вот какие мысли бродили в голове Сары, когда она на другой день сходила вниз пить чай, совершенно расстроенная, ожидая с некоторым страхом услышать насмешки. Но к ее удивлению, ничего подобного не случилось. Вся семья находилась еще под впечатлением вчерашнего визита и мирно беседовала за столом.
Неблагоприятное мнение о Коломине изменилось на самое лестное. Даже к его репутации бездушного волокиты теперь относились гораздо снисходительнее: – на то он и мужчина и холостой, – женщина сама виновата, если к ней забывают почтение; вероятно дала повод…
Сару встретили очень шумно и тотчас засыпали вопросами, – понравился ли ей Коломин. Она ответила, что он с виду кажется порядочным человеком, а впрочем, Бог его знает.
– А как вы ему понравились, Сара Павловна, – затрещала Оленька, – когда вы ушли, он сказал, что вы ужасная красавица, ужасно образованная, только очень горды.
Сара усмехнулась наивному отчету Оленьки. Ора Николаевна, хотя втайне порицала неуместное кокетство гувернантки, но, увлеченная перспективой спектакля, подавила в себе неприятное чувство, тем более, что рассчитывала на помощь Сары в устройстве костюмов и изучении роли. Немедленно приступили к разборке гардероба. На рояль, столы и диваны навалили целую кучу всяких платьев. Серафима Алексеевна заметила, что если понадобится сшить что-нибудь новое, то чтобы Орочка не беспокоилась, все будет сделано. После этого обещания Орочка сама сделалась совсем добрая.
– Сара Павловна, сегодня Коломин мне пришлет роль, вы знаете эту пьесу – “Жертва за жертву”?
– Знаю.
– Вот и отлично! А то мне неловко было сказать, что я ее не читала (он ведь такой насмешник!) а из одной роли трудно понять. Что же пьеса хорошая?
– Мне не нравится – слишком мелодраматична, но ваша роль благодарная и довольно эффектна.
– Это главное, а на остальное мне наплевать, – в порыве увлечения высказалась Ора Николаевна. – Знаете что, Сара Павловна, Костя все равно не будет сегодня заниматься – у него что-то болит, – если вам не трудно, расскажите, пока мы тут разбираемся, в чем заключается содержание.
Сара рассказала. Пьесу нашли превосходной. Ора Николаевна только огорчилась, что особенно элегантных костюмов совсем не требуется, но утешилась тем, что в последнем акте она к траурному платью прицепит трехаршинный шлейф.
– Сара Павловна, вы мне поможете выучить роль?
– С удовольствием, но я сама в этом ничего не смыслю. Начались репетиции: Саре не удалось освободиться от обязанности быть провожатой. Генеральша боялась частыми поездками застудить свой ревматизм. Оленьку Ора Николаевна не желала с собой брать, так что оставалась одна Сара. Она, однако, выговорила себе некоторое облегчение, а именно, попросила, чтоб ее, кроме хозяев, ни с кем не знакомить, на что Ора Николаевна охотно согласилась.
Репетиции происходили в квартире полковника Караваева. Сам он был человек, любивший плотно покушать и повинтить, но, находясь под башмаком у своей супруги, – дамы худощавой и сентиментальной, несмотря на пятьдесят лет, не потерявшей еще способности беседовать о возвышенных чувствах, – полковник старался всеми силами доказать, что для него обед с шампанским или карты положительно не имеют никакой привлекательности и что, во всяком случае, духовные и тонкие развлечения, как музыка, например, или литература гораздо достойнее образованного человека.
Когда Ора Николаевна с Сарой приехали, любители и любительницы были все налицо. Кроме главной пьесы предполагалось поставить еще маленькую комедию или водевиль, но не знали, на чем остановиться. Первый актер, поручик Конопля, – долговязый и худой, как спичка, с жиденькими бакенбардами, длинной, как у журавля, шеей и необыкновенно крючковатым носом, благодаря которому он был уверен, что у него самый римский профиль, – занимал публику, рассказывая картавым голосом всевозможные эпизоды из своей сценической деятельности.
– Представьте, – ораторствовал он, стоя среди комнаты, – какой со мною был случай лет пять тому назад. Наш полк квартировал в X***. Ну, офицеры натурально были приняты в лучших домах. У губернатора затеяли спектакль, мне предлагают первую роль. Прекрасно. За день до спектакля получаю телеграмму, что мать моя умерла. Я натурально к губернатору. Так и так, говорю, ваше превосходительство, увольте, не могу играть. Он положил мне руку на плечо. – Как, говорит, хотите, Конопля, а играть вы должны, иначе пропадет весь спектакль. Докажите, говорит, что вы артист в душе и что искусство, говорит, для вас всего дороже. Что тут делать! Согласился, и так, доложу вам, играл, как никогда в жизни. Сама губернаторша себе мозоли набила, хлопая.
– Этот анекдот он уже двадцатый раз рассказывает и двадцатый раз врет, – сказал Коломин, подходя к Саре, сидевшей в сторонке и почти скрытой цветами.
– А вы даже сосчитали, сколько он раз солгал, – заметила Сара.
– Что прикажете делать, Сара Павловна, скучно; я человек, что называется, праздный и от нечего делать люблю заниматься делами ближних.
– Плодотворное занятие.
– Зато вполне бескорыстное, могу вас уверить. Скажите, однако, отчего вы так уединились? Не желаете разве познакомиться с нашими культурными мастодонтами?
– Не желаю; я, в противоположность вам, очень мало интересуюсь ближними и очень довольна, если они мною тоже не интересуются.
– Благодарю за урок и постараюсь принять к сведению, хотя не обещаю исправиться, – сказал, смеясь, Коломин.
– Я и не думаю вас исправлять, я ведь сказала, что ближние меня не интересуют, – холодно ответила Сара и, наклонив голову, стала рассматривать альбом с какими-то видами.
– Как вы горды! А ведь признайтесь, Сара Павловна, вы ведь только из деликатности не гоните меня от себя? Впрочем, лучше не признавайтесь, потому что я все равно не уйду. Знаете, мне о вас прожужжал все уши Раздеришин – он мне какой-то кузен, – но я, грешный человек, не мог себе представить, чтобы в тошнотворном доме Серафимы Алексеевны…
– Послушайте, m-г Коломин, – прервала его Сара, – разве вы не участвуете в пьесе? Вам, я думаю, надо идти считываться, смотрите все уж ушли.
– Не извольте беспокоиться, я постарался оказаться ненужным… вот вы прервали меня, и я забыл, о чем говорил… да! О генеральше и этой прокисшей Орочке, которую вы должны охранять, хотя она вам годится в бабушки.
– Уж если вам непременно хочется злословить, то, пожалуйста, не о людях, с которыми я живу, – сказала Сара.
– О, какая беспримерная добродетель!
– Совсем нет, но это слишком… слишком… вульгарно – осуждать и насмехаться за спиною у человека, которому через пять минут будешь с улыбкой жать руку.
– Ну, я, положим, не так благороден, но, чтобы доставить вам удовольствие, о ваших патронах так и быть ни слова не скажу.
– Однако, – сказала Сара, – это не совсем прилично, что мы с вами сидим тут одни. Пойдемте в залу слушать чтение.
– Полно, Сара Павловна, еще и так оно успеет надоесть, ведь месяц, по крайней мере, будут тянуться репетиции, а что до неприличия, то могу вас успокоить – мне сама хозяйка поручила вас занимать.
– Какая непостижимая любезность! Ведь на гувернанток, кажется, не принято обращать внимание?
– Вы особ-статья. Очень уж вы поражаете своим видом. Сара вопросительно на него посмотрела.
– Вы слишком хороши собой для гувернантки, – пояснил он, – и я бьюсь об заклад, что все здешние дамы уже успели вас возненавидеть.
– А вы, m-r Коломин по-видимому не считаете нужным церемониться с гувернанткой, – сказала Сара и встала
– Сара Павловна, Бога ради, вы меня не поняли, я не хотел сказать вам что-нибудь обидное, – воскликнул Коломин.
Но она его не слушала, тихо вошла в залу и села на пустой стул сзади Оры Николаевны.
XXСчитка шла не особенно удачно. Дамы читали слишком сладостно, нараспев; мужчины без всякой надобности делали свирепые лица, махали руками, издавали дикие звуки… Игравший любовника, курносый надворный советник Мирошев, рьяный поклонник изящных искусств, – патетически наставлял Ору Николаевну.
– В этом месте, Ора Николаевна, когда вы меня в первый раз видите после разлуки, нужно выразить как можно больше души, чувства-с. В этот момент, когда, так сказать, просыпаются в вас воспоминания старой любви – нужно судорожно этак ухватиться за кресло и прошептать: “Вельский? Вы здесь”.
Для большей ясности, Мирошев закинул назад голову и прохрипел, как удавленный: “Вельский? Вы здесь”. Картина была так умилительна, что все расхохотались, не исключая Коломина, угрюмо сидевшего в углу.
– Послушайте, – хныкал горбатый сын хозяйки, юноша лет восемнадцати, успевший побывать в нескольких учебных заведениях, из которых и был благополучно увольняем через более или менее продолжительный срок. – Послушайте, что же мне-то никакой роли не будет?
– Вам, Витинька, не выходит ничего. А вот хотите быть полезным? – изобразите лунную ночь, – предложила жена полкового доктора, петербургская дама с Выборгской стороны, худенькая, маленькая, с вздернутым носиком, круглыми глазками и черными зубами.
– Как же это я могу лунную ночь изобразить, – совершенно резонно изумился Витинька.
– Ах, очень просто, – ответила докторша, – возьмите в одну руку зажженную свечку, в другую круглое зеркало, да и поворачивайте зеркало в разные стороны так, чтобы свет падал на актеров. У нас в Петербурге всегда так делается на любительских спектаклях.
Сговорчивый Витинька согласился, довольный тем, что на его долю выпала хоть какая-нибудь активная роль и что и он является таким образом не последней спицей в колесе.
У Сары разболелась голова от безмолвного глядения на чужие лица декламаторской несносной читки любителей, отрывистого смеха, бессвязных разговоров, передаваемых на ухо сплетен и пересудов, перелетавших с одного конца комнаты в другой. Она опустила уставшую голову на руку, на ее красивом лице ясно отпечатлелось выражение утомления и скуки. Ее бесстрастный взгляд упал нечаянно на Коломина. Он глядел на нее, и в его больших глазах светилось столько доброты, ласки и какой-то невысказанной печальной нежности.
– Какое у него славное лицо, когда он не ломается, – подумала Сара, – неужели он такое же ничтожество, как все остальные… а впрочем, не все ли мне равно!.. Он точно понял ее мысли, улыбнулся ей открытой, почти детской улыбкой и, наклонившись к докторше, стал ее вдруг уверять, что она ужасно похорошела. Та жеманилась, затыкала уши и пищала тоненьким-тоненьким голоском:
– Подите, я даже говорить с вами не хочу… Хозяйка предложила сделать антракт и пригласила гостей в столовую. Там уже сидел Аполлон Егорович Филатов и с аппетитом уписывал баранью котлетку. На восклицание хозяйки: – А что же Анфиса Ивановна? – он сначала вытер губы, со всеми поздоровался и затем уже пробасил:
– Совсем уже собралась, да проходя мимо самовара, задела рукавом за крант, ну и ошпарила всю руку… этакая, подумаешь, неловкая баба, а туда же за модой гонится! – и как ни в чем не бывало принялся опять за котлету.
– В чем же тут мода? – со смехом спросил Коломин.
– Да как же, батюшка Борис Арсеньич, рукава эти каторжные в три аршина пускает, добро-бы еще молоденькая.
Все засмеялись, а обиженный Аполлон Егорович недовольно пробурчал:
– И все-то вы такие.
– Сара Павловна, вам чего прикажете, – вежливо спросила хозяйка.
– Позвольте мне чаю.
– Борис Арсеньич, вы взялись бы быть моим помощником, передайте Саре Павловне чаю и бисквиты.
– С величайшим удовольствием, Юлия Александровна… Какая милая наша Юлия Александровна, вот истинно достойная женщина, – болтал Коломин, ставя на маленький столик перед Сарой чашку и корзинку с бисквитами. – И как это она всегда хорошо устроит – все отдельно, где кто хочет… а еще говорят, провинция – не рай, Сара Павловна, вы ведь не сердитесь на меня больше, – тихо спросил он, заглядывая ей в глаза.
– Какой вы странный человек, могу ли я на вас сердиться, когда я вас совсем не знаю.
– Ну а я вас знаю. Вообразите на минутку, что я гадалка и выслушайте, что я скажу. Вы много страдали, – начал он торжественным тоном, – обманулись в своих иллюзиях, надменно отрешились от мира и стараетесь себя заморозить… вам это не удается, т. е. снаружи-то вы одели себя ледяной корочкой, но внутри жизнь бьет ключом и пробивается…
– Замолчите, – строго прервала Сара, – я не люблю, когда со мной говорят в таком тоне.
– Как вы побледнели! Значит я угадал… Извольте, я замолчу; но окажите мне одну милость.
Она с недоумением посмотрела на него.
– Вам, должно быть, очень скверно, а мне страшно скучно, – сказал Коломин. – Глядите на меня без предубеждения и позвольте мне с вами быть искренним. От вас я, конечно, ничего подобного не требую… Согласны?
Она молчала.
– Молчание есть знак согласия, Сара Павловна, я так это и принимаю. А ведь я знаю, что вы теперь думаете, – сказал он, немного помолчав, – с чего этот уездный Чайльд-Гарольд ко мне привязался – правда?
– Правда, только без эпитета, и если вы уж так проницательны, то признайтесь, что наша беседа для второго свидания, по меньшей мере, странная.
– Еще бы не странная, – согласился Коломин, – но такие ли со мной казусы бывали. Видите, Сара Павловна, как все вообще неперестроившиеся люди и слабохарактерный русский человек в частности я люблю (втихомолку, конечно) сваливать всякие неудачи и собственную несостоятельность на судьбу, на среду и т. д. Когда же совесть начинает слишком надоедать, я не прочь и от самобичевания; поешь себя хорошенько, раздразнишь, ну и легче на душе, даже как будто гордость ощущаешь… вот в такие-то минуты, когда меня одолевает хандра, меня всегда тянет высказаться, привязаться к чему-нибудь, взбесить наконец кого-нибудь, лишь бы свалить на чужие плечи бремя. Помню раз, это было в Петербурге, я что-то особенно заныл. Чтобы забыться, играл напролет целые ночи, кутил, плясал, пил, – нет, не проходит. Еще несколько таких дней, и я бы наверно застрелился. Вздумал я отправиться на заседание к одному своему знакомому, отставному студенту, Василию Иванычу, фамилии его никто не знал. Замечательный был человек в своем роде. Кончил три факультета, убедился, что все на свете – суета сует и выеденного яйца не стоит, улегся на диван и лежал обыкновенно до тех пор, пока хозяйка не сгоняла его с квартиры; тогда он отыскивал другую и опять укладывался. Кончил он тем, что отравился. Впрочем, не в нем дело и не о нем я хотел рассказать вам. Я только шел к нему. Он жил где-то на линиях и мне пришлось перебираться через Неву. Погода стояла отвратительная – холод, ветер, дождь, снег… небо, воздух и все кругом серое, точно гороховый кисель. Добрался я до узкого застроенного двора и хотел уже подняться по темнеющей лестнице на четвертый этаж – и остановился. У самых дверей стояла, сбившись в кружок, кучка людей, по-видимому, – горничные, кухарки, дворники… Из центра этого кружка неслось визгливое пиликанье шарманки, звяканье какого-то металла и надтреснутый, хриплый, прерывающийся голос. Я протолкался через публику и увидал рыжего бородача, в шерстяной куртке и шарфе, вертящего шарманку, а рядом с ним девочку, лет одиннадцати, одетую буквально в лохмотья: короткое ситцевое платье еле доходящее ей до колен, оставляя на виду худые, синие, исцарапанные ноги, в рваных прюнелевых ботинках. Красными закоченевшими пальцами она ударяла железною палкой о железный треугольник, притоптывала каблучками и, надувая сухое, напряженное горло выкрикивала:
“Ты новые лица увидишь //И новых друзей наберешь, // Ты новые чувства узнаешь”…
Тут она остановилась, или ей очень холодно стало, или она забыла, как дальше, только она выронила из рук палочку и поглядела кругом таким взглядом, что мне показалось, что она умирает. Бородач тряхнул ее за плечо и сердито проворчал – veux-tu chanter, cousine[45]45
Не хотите ли танцевать, кузина?
[Закрыть]. Она ничего не ответила, опустилась на землю и заплакала. Я почувствовал, как у меня сжалось горло, и не давая себе отчета, что я делаю, подошел к шарманщику и стал его упрашивать отдать мне девочку хоть на время. Он не соглашался, я вынул бумажник, – и он уступил. Не могу вам передать, с каким чувством я вез к себе девочку. В моей голове роились тысячи планов, я радовался, я был в экстазе и дрожал, как бы только она не простудилась, не схватила тифа, не умерла и кутал ее в свою шубу. Она прижалась ко мне и молчала. Дорога показалась мне бесконечной. Наконец, мы доехали до дому. Швейцар бросил на меня удивленный взгляд, но мне было не до него. Я схватил на руки свою находку и помчался с ней по лестнице. Жена повара вымыла девочку, причесала, одела и привела ко мне. Я усадил ее в кресло перед камином, велел подать ужин и радовался, как ребенок, видя, что она ест и пьет. Меня только огорчало, что на все мои вопросы она отвечала глубоким молчанием и только пугливо, словно пойманный зверек озиралась серыми глазками. Я успел, впрочем, узнать, что зовут ее Саша, что родных у нее нет, что “хозяин”, когда пьян, дерется, а летом “ничего” – и решился отложить дальнейшие разговоры до утра. Но утром Саша была еще более молчалива и печальна. Она была некрасива – какое-то жалкое старческое личико, но мне кажется, что именно ее худоба и некрасивость привлекало меня к ней – мне хотелось согреть ее, защитить, осчастливить, одним словом, и вместе с тем я даже не решался приласкать ее. На все мои планы она отвечала одним словом – “а хозяин?” и когда я ей объяснял, что теперь над ней нет никакого хозяина, она недоверчиво ежилась и оглядывалась… Так прошло с неделю; я ее одел, как куколку, пичкал конфетами, возил кататься; она все принимала с видимым удовольствием, и только, когда ей приходилось говорить со мной становилась печальна, а когда я вздумал учить ее читать – расплакалась и целый день не поднимала головы. Я ужасно терзался. Прошло еще несколько дней. Знакомый один утащил меня в клуб. Когда я возвратился домой, Саши уже не было. Она исчезла, захватив с собой свои тряпки и маленькую шкатулку, из которой при ней вынимал деньги. Я чуть с ума не сошел, прогнал всю прислугу, метался, как угорелый, по Петербургу и конечно не нашел своей беглянки. Но я до сих пор ее не забыл. Как сейчас вижу ее бедную худенькую фигурку, сидящую перед камином, слышу, как на все мои соблазнительные обещания, она отвечает однозвучно – “а хозяин?” – Когда я вас увидел у генеральши, мне вдруг представилась моя Саша, поющая на холодном петербургском дворе. И сам знаю, что в этом нет ничего похожего, исключая разве, что Серафима Алексеевна с дочерьми смахивает на кухарок… но я не могу отделаться от этого впечатления и вот вам le mot de I’enigme[46]46
Свидетельство.
[Закрыть] моей навязчивости… Однако, я должен вам казаться присяжным рассказчиком.
– Странный вы человек, – опять сказала Сара, но уже более мягким доверчивым голосом, – а еще говорили, что я слишком живу нервами.
Считка кончилась поздно. Стали разъезжаться уже в сумерках. Саре казалось, что она носится в каком-то чаду, она чувствовала себя почти больной. Две руки бережно и заботливо накинули ей на плечи салоп, укутали платком голову. Она ощущала сквозь шелк прикосновение пальцев к своим волосам, и ей вдруг сделалось как-то бессознательно приятно, словно ее охватила теплая, мягкая волна.
– До свидания, Ора Николаевна, – говорил Коломин, усаживая на возок генеральскую дочку.
– A bientot[47]47
До скорого!
[Закрыть], Борис Арсеньич, вы непременно скоро должны быть у нас. – Сара Павловна, до свидания, – повторил Коломин, пожимая сильной рукой тонкую руку Сары.
– До свидания, – сказала она чуть слышно, не отвечая на его пожатие.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































