Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
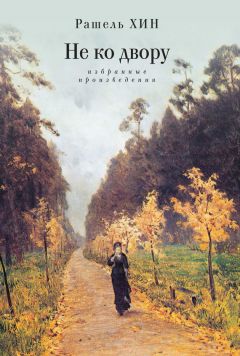
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
Ора Николаевна проснулась поздно. В голове ее еще носился туман от проведенного вечера, так резко выделившегося из длинного монотонного ряда вечеров ее однообразной жизни. Еще нежась в кровати, она начала припоминать все происшедшие накануне мелочи; воспоминания эти были так приятны, что она нарочно закрыла глаза, чтобы воспроизвести в воображении улетающие, как грезы, детали. Наконец она решилась встать и начала одеваться. Подойдя к зеркалу, Ора Николаевна нахмурилась: измученная бессонными ночами и постоянными поездками, она очень похудела. Лицо ее вытянулось, облупилось, пожелтело и глядело как-то особенно старообразно. Она умылась холодной водой, намазала все лицо кольд-кремом и, обсыпав пудрой, осторожно вытерла; потом зажгла свечу и накалив на ней шпильку, слегка подвела глаза и брови… стало как будто лучше, но все-таки нехорошо. В столовой она застала уже всех за завтраком. Оленька, в пестрой ситцевой блузе, свежая как розан, хлебала молоко прямо из кувшина, мать с какой-то грустной нежностью смотрела на нее. С приходом Оры Николаевны они обе точно замялись. Общий разговор словно оборвался. Сара пожаловалась на мигрень и ушла, уведя с собой Костю.
– Что это, какие вы сегодня все кислые, – спросила Ора Николаевна, – неужели не выспались?
– Нет, ничего, Орочка, мы ничего… – заикаясь проговорила Серафима Алексеевна, – а вот ты немножко бледна, ты здорова ли, милая?
Ора Николаевна подозрительно взглянула на нее.
– Вы что-то скрываете от меня, maman, скажите прямо, что случилось?
– Да право же ничего, Орочка, что мне скрывать. Я сама даже желала с тобой посоветоваться, ты ведь у меня самая умная, потом все-таки старшая… – все больше и больше мямлила несчастная Серафима Алексеевна.
– Да скажите же вы, наконец, толком, в чем дело?.. – закричала, выходя из себя, Ора Николаевна. Обокрали вас, что ли…
– Раздеришин сделал предложение Оленьке, – скороговоркой досказала Серафима Алексеевна и пересела на диван.
В глазах Оры Николаевны все на мгновение закружилось, замелькало и заплясало, ей показалось, что она падает; она ухватилась своими похолодевшими пальцами за край стола, сделала над собой страшное усилие – и очнулась.
– Что ж тут особенного? – вымолвила она, силясь вызвать улыбку на свои посиневшие губы, – этого следовало ожидать…
– А как же ты-то, Орочка? – начала мать.
– Что я?..
– Да как же, Орочка, ведь ты, все-таки старше, – совсем глупо докончила генеральша.
– Я вам сто раз говорила, maman, что не намерена выходить замуж, – сдавленным голосом заявила Ольга Николаевна, с ненавистью глядя на не понимавшую ее мучений мать. Оленька, – обратилась она к сестре, – что же поздравить тебя?
Оленька одним прыжком очутилась у ее колен и крепко обвила ее руками за талию.
– Ора, ты ведь не сердишься на меня? – спросила она писклявым голосом готового расплакаться ребенка.
– Ты совсем дура, Ольга, – ответила Ора Николаевна и обняла ее.
Обе сестры заплакали. Серафима Алексеевна не замедлила к ним присоединиться, крестясь под своей шалью, что все обошлось благополучно.
Наконец бедной Оре Николаевне удалось вырваться в свою комнату. Она бросилась на кровать, измученная, разбитая, уничтоженная без мысли в голове и лежала так долго… бессмысленно, обводя мутными глазами стены. Все те же занавески с птичками, тот же розовый кисейный туалет с чинно расставленными коробочками и невинными сувенирами, те же обои с цветочками… Но, Боже, как все это одиноко, холодно, бесприютно!
И так – навсегда, навеки, до гробовой тоски… без ласки… без участия.
Она уткнула голову в подушки и зарыдала.
Новость быстро облетела весь дом и дошла до девичьей.
– Полковник-то младшую барышню посватал, – доложила горничная Дуняша прачке.
– Ой-ли?
– Ей-Богу, своими ушами слышала, как Ольга Николаевна старой барыне рассказывала. Вчера на балу, вишь ты, за танцами у них объяснение вышло.
– То-то, чай, Орка обозлится!
– Ништо ей, змее подколодной…
– Ох, девушка, нам-то что с ихней свадьбы, – философски заметила прачка, – и так работы не оберешься, а теперь, гляди, совсем из корыта не вылезаешь.
– И то правда, – согласилась Дуняша, – однех этих чертовых юбок сколько, – глядишь, глядишь, инда вся спинушка изноет. Давай, тетка, утюг-от… чтоб им ни дна, ни покрышки. Она поплевала на утюг, ударила по нему пальцами и стала гладить, затянув писклявым голосом:
Не е-е-сча-а-стная нара-ди-илась,
Не-е-е-сча-а-стная вара-сла,
В из меи-щи-и-ка влю-би-и-лась
В тиран-на мо-лод-ца-а
Зачем тиран тирани-ишь?
– Какие вы все чудесные песни поете, Дунечка, – любезно сказал вошедший повар.
– Чай мы не какие-нибудь, – гордо ответила горничная.
– Сейчас полковник приехал, – произнес он таинственно, – сказывают Ольгу Николаевну сватать.
– Уж мы про то давно известны.
– Ишь вы, скрытные какие!
– Не люблю я про господские дела зря болтать, – процедила сквозь зубы Дуняша и, размахивая по доске утюгом, опять меланхолически завыла:
Все по етому случаю
Я не ем, не пью и чаю
И я оченно скучаю
Все по етому слу-у-ча-ю.
– А старшей-то барышне, чай, не понравится этот соус, – вставил опять замечание повар.
– А пущай ее давится, – гуманно разрешила Дуняша, но в эту минуту сильный звонок заставил ее взвизгнуть, и она опрометью бросилась из комнаты.
Ора Николаевна слышала, как приехал Раздеришин, как он прошел к матери в гостиную, как Серафима Алексеевна громко приказала позвать туда Оленьку…
– По крайней мере, я не буду смешною, – сказала она вслух и, схватив щетку, сорвала с головы банты и стала с лихорадочной быстротой расчесывать свои взбитые волосы; причесала их совершенно гладко, немного на лоб, заплела косу и скромно уложила ее вокруг головы; вынула из шкафа темное, серое платье, пристегнула к нему полотняный окладной воротничок и рукавички – и торопливо стала одеваться. Одевшись, она подошла к туалету; зеркало отразило некрасивую, но приличную особу пожилых лет.
Ора Николаевна с горькой усмешкой поклонилась своему новому образу, прошептав – “так-то лучше! Здравствуй, старая дева!”.
Она явилась в гостиную совершенно спокойная и равнодушная, любезно поздравила полковника и еще раз поцеловала сестру. Костюм ее поразил Серафиму Алексеевну.
– Что это ты, Орочка, какой-то старухой вырядилась! – сказала она со своим обычным тактом.
– Что ж, maman, мы и в самом деле с вами старухи. Вот повенчаем Оленьку, да и начнем раскладывать вдвоем пасьянсы – проговорила Ора Николаевна с улыбкой и, словно опасаясь возражений, отошла быстрыми шагами к Саре.
Сара поняла, чего стоило ей это самообладание, она поняла, что простенькая прическа и гладкое платье здесь не обыкновенная случайность, а формальное отречение от молодости, признание себя побежденной – и впервые шевельнулось в ней что-то вроде уважения к Оре Николаевне.
Полковник, между тем, шутил с невестой и, не выпуская из своих рук ее пухленьких ручек, поминутно целовал их. Оленька, упоенная, но совершенно растерявшаяся, конфузилась, краснела и тяжело молчала. Серафима Алексеевна, как женщина опытная, смекнула, в чем дело, поднялась со своего места, и, выйдя в другую комнату, позвала Сару и Ору Николаевну.
– Пусть их побудут вдвоем, – сказала она с блаженным видом, потом обратилась к образу, положила земной поклон и, благоговейно крестясь, зашептала:
– Господи, благослови и помилуй…
После долгих расчетов решено было объявить о помолвке Оленьки через месяц, в день ее рождения, приходившееся на второе февраля.
XXIVНаступило, наконец, и второе февраля. Погода была чудная: стоял морозный зимний день. Снег блестел и искрился на солнце; опушенные белым пухом деревья, казалось, замерли в своей яркой серебристой одежде. На окнах целою сетью легли причудливые, фантастические, тонкие, как кружево, узоры. Золотисто – серый пар тянулся ломаными волнами из закоптелых деревенских труб к чистому, холодному небу… В зубковском доме с самого утра поднялась та неугомонная беготня и суматоха, без которой обыкновенно не обходится ни одно торжественное событие. Серафима Алексеевна, вся красная, собственной особой царила на кухне воспроизводя, по завещанному еще бабушкой рецепту, какие-то удивительные пирожки. Кучер и скотник, обращенные в полотеров, выкидывали антраша, которые бы сделали честь не только завзятому танцору, но и любому акробату, и благодаря их усилиям, пол заблестел так, что на него не только ступить, даже взглянуть было страшно. Дуняша, подобно вихрю, носилась по комнатам с целым ворохом крахмальных юбок… Словом, все были в том наэлектризованном состоянии, когда руки сами чешутся что-нибудь делать, когда даже самому хладнокровному человеку становится совестно за свое хладнокровие, и он стремится приткнуть к чему-нибудь свою неумелую особу, но, увы, вместо благодарности, встречает лишь недовольное ворчание официальных заправил: – уж сидели бы тихо, только мешаете.
Гости стали съезжаться к вечеру. Николай Иванович привез невесте роскошные серьги – два огромных бриллианта и собственноручно вдел их в пылающие маленькие ушки. Оленька сияла от восторга; она не сводила своих блаженных, полных покорного обожания глаз с румяного лица Николая Иваныча и только вспыхивала, чувствуя на своей щеке бесцеремонную близость его жестких усов. Ора Николаевна, в черном платье, застегнутой у ворота матовой золотой брошкой, степенно занимала гостей, стараясь всеми силами изобразить, как можно естественнее, довольную старшую сестру. Но, встретив исковерканную жадным любопытством физиономию какой-нибудь во всех отношениях приятной дамы, она терялась, на лице ее загорались пятна, и ей страстно хотелось убежать, спрятаться как можно дальше от этих людей, глядевших на нее не то с затаенной насмешкой, не то с торжеством.
Приехал Коломин и, поклонившись издали Саре, (после спектакля он заметно избегал ее) сел возле Оры Николаевны. Он заметил происшедшую с ней перемену и, должно быть, ему стало ее жаль, потому что он заговорил с ней искренним дружеским тоном, – посмеялся слегка над важностью события, заметил, что по его наблюдениям у женихов и невест всегда немножко глупые лица, даже когда они, в сущности, очень умные люди, что даже ласки их как-то приторно-вульгарны, благодаря пошловато-снисходительному контролю окружающих, и признался, что он со своей стороны предпочитает “Schattekusse, Schattenliebe”[55]55
Нежные поцелуи, нежная любовь.
[Закрыть], как у Гейне.
– Право в них гораздо больше поэзии – заключил он.
– Ну, вас, я вижу, так же трудно будет женить, как меня выдать замуж, – сказала, усмехаясь, Ора Николаевна.
– По всей вероятности, – согласился он, – авось, мы оба от этого не много потеряем.
Сара, еще утром изъявившая желание заменить тапера, чем привела в неописанный восторг генеральшу, села к роялю и заиграла вальс, потом кадриль и польку. Танцующие кружились, смеялись, отдыхали и снова начинали кружиться.
– Что это вам вздумалось жертвовать собой? – спросил Коломин, останавливаясь перед Сарой.
– В чем же вы видите жертву?
– Отколачивать себе руки для этих антиков! Положительно не понимаю…
Сара сделала вид, что не слышит и продолжала играть.
– Сара Павловна, я не хочу, чтобы вы для них играли, – встаньте, я вас заменю.
Она хотела ответить резко, но всмотревшись в его осунувшееся, постаревшее лицо, в его тоскливый, тревожный взгляд, сказала только:
– Теперь нельзя, после.
Появление Аполлона Егоровича прервало танцы. Анфиса Ивановна была при нем и на этот раз в своем костюме не обнаружила ни малейшего поползновения на моду, до того все на ней было допотопно. Все обступили прибывшую чету. Хозяйка попеняла, зачем они поздно приехали.
– Не виноват, матушка, не виноват, все купцы эти оголтелые задерживали, – говорил густым басом Аполлон Егорович. Вчера только вернулся из Погорелец. Зато доложу вам того насмотрелся, что век не забуду.
– Что такое? – А вот послушайте, расскажу. В… в… черт его знает, забыл название, словом, – недалеко от Погорелец, в большом местечке было повальное избиение жидов.
– Что вы?!..
– Ей-ей! Сам туда ездил смотреть, как их, подлецов, жарили… страсть! На улицах проходу не было от пуху, жидовки ведь самые бедные – и те на перинах спят, ну и повытрясли им перинки-то…
Между гостями послышались смех и отрывистые замечания: “так и надо”… “противный народ”, “разбойник”, “душу готовы за грош вымотать”, “нахалы”… “всюду норовят пролезть”, “никакого благородства”… “ничего святого”…
– Нет, вы только послушайте, – прерывал, воодушевляясь, Аполлон Егорович, – что за народец? Когда стали их дуть, ну натурально, жидки перетрусили, подняли вой, гвалт: ай вай, грабят, режут… Один, похрабрее, бросился за солдатами, а наши-то не будь глупы – хвать его, бестию, за пейсики и ну катать: не ори, мол. Жидовки со своими щенятами на чердаки попрятались, а ребята наши их оттуда галантерейным этаким манером повытаскивали, да и того, по юбочкам…
– Фи, фи, Аполлон Егорыч, бессовестный, противный: как вы смеете такие вещи рассказывать! – запротестовали дамы.
– Ну, сударыни, извините, из песни слова не выкинешь, – сказал, захохотав во все горло, Аполлон Егорыч. – Только вот явились казаки, – продолжал он, – да ничего не поделали, помахивают себе для виду нагайками, да пересмеиваются. И что же эти окаянные жидки выдумали, видят, что дело плохо, капут приходит, взяли да и выставили в окнах иконы! Каково?! Ну, не мошенники ли?..
– Ужас, какие лицемеры! – возмутилась одна из дам, бледное эфирное существо. Но хуже, по-моему, всего – это образованные жиды… Что они только о себе воображают! Вот, например, у нас в полку доктор…
Негодование дамы было прервано внезапным шумом. Сара, сидевшая до тех пор неподвижно у рояля, вдруг порывисто поднялась со своего места, опрокинув табурет с нотами и, подойдя к собравшимся в кружок гостям, остановилась против Аполлона Егорыча, готовившегося с самым благодушным видом преподнести обществу еще одну подробность. Все взгляды невольно обратились на гувернантку. Коломин подбежал к ней, но она отстранила его жестом. Лицо ее было мертвенно-бледно, широко раскрытые глаза горели зловещим блеском, как у сумасшедшей, тонкие ноздри нервно вздрагивали.
– Что же вы не продолжаете, – сказала она каким-то чужим звенящим голосом, со странной улыбкой на искривленных губах, – это так интересно… изувечены ведь не живые люди, а какие-то грязные жидки с пейсиками, в смешных лайбсардаках… Вы не стесняйтесь подробностями, наши мягкосердечные дамы не упадут в обморок… другое дело, если бы завизжала раздавленная болонка, а то… барахтались и кричали от боли и испуга еврейские дети… pardon, жидовские щенки… Даже иконы на окнах выставили, чтобы провести добрых честных людей… Ужасно!… А вас, сударыня, больше всего, кажется, волнуют образованные жиды!.. Поглядите же хорошенько на меня, я ведь тоже образованная жидовка…
Она захохотала злым, надтреснутым смехом.
– Вот оно что! – промолвил шепотом Аполлон Егорыч.
– Сара Павловна, прошу вас, успокойтесь, – проговорила чуть не со слезами Серафима Алексеевна. – Уж этот мне Аполлон Егорыч, вечно мне что-нибудь наговорит!
– Сара Павловна, – воскликнула Ора Николаевна, – вы знаете, что мы вас никогда не смешивали с массой, а считали за свою.
– Мы не виноваты, мы не знали, что вы… – сконфуженно, не доканчивая, бормотали гости.
– Конечно, Сара Павловна, виноваты вы, вольно же вам было принимать нас за порядочных людей! – иронически произнес Коломин.
Но Сара уже их не слушала. Шатаясь и придерживаясь за мебель, она выскользнула из комнаты и, добравшись до спальни Серафимы Алексеевны, в изнеможении опустилась на диван. В висках у нее стучало, она чувствовала во всем теле какую-то жгучую дрожь, из ее полуоткрытых запекшихся губ вылетало нервное быстрое дыхание. Она рада была, что убежала, что никто ее уже не видит больше… В комнате было темно, только один угол освещался бледными лучами луны да у образа трепетно мерцала лампадка.
Коломин все время не спускавший глаз с Сары неслышно пошел за ней. Он остановился у дверей и несколько минут молча смотрел на ее согнувшуюся на диване фигуру. Видя, что она судорожно ухватилась за сердце, он решился подойти к ней и осторожно взял ее за руку:
– Успокойтесь, – сказал он ласковым голосом, не огорчайтесь так, право же, они этого не стоят…
Она обратила к нему искаженное гневом лицо.
– Вы слышали, – зашептала она дрожащими губами, слышали… Эти люди радуются, что душат других людей…
– Не ведают, что творят.
– Не ведают! Какие невинные младенцы! Впрочем, что ж я! И вы в душе, может быть, ликуете, да неловко показать это перед жидовочкой… особенно, когда жидовочка похожа на испанскую картинку.
– Послушайте, Сара Павловна, вы меня слишком оскорбляете! – вскрикнул Коломин, – я могу быть волокитой, пустым бездельником, чем угодно, но вы не имеете права считать меня злобным идиотом.
Она опомнилась и протянула к нему руки.
– Не сердитесь, Борис Арсеньич, я не знаю, что со мною…, мне так тяжело… так больно. Я верю, что вы не такой… – проговорила она, заливаясь слезами.
Он схватил ее протянутые руки и жадно прильнул к ним горячими губами.
– Славная вы моя… чистая, не гоните меня, верьте, нет в мире вещи, которой я бы для вас не сделал… – сказал он с жаром.
Она в испуге отодвинулась от него.
– Зачем, зачем вы отодвигаетесь от меня? Неужели я вам так противен…
– Борис Арсеньич, – медленно произнесла совершенно пришедшая в себя Сара, – прекратим этот разговор, мы с вами не дети. Я ничего не могу дать вам взамен… взамен вашей преданности.
– Я ничего и не прошу от вас, Сара Павловна, – печально ответил Коломин, – только терпите меня – ну… хоть как старого дядю; будьте покойны, я вас слишком уважаю и ничем не скомпрометирую. О чем же вы плачете?
– Не знаю сама, – сказала она, вытирая платком струящиеся по лицу слезы, – я так привыкла быть одна. Мне кажется диким, даже то, что я с вами говорю откровенно, а за то, что я изливалась перед ними, я бы готова себя прибить…
В комнату вошла Серафима Алексеевна с Оленькой.
– Душечка, не сердитесь на нас, – сказала Оленька, целуя Сару.
– Я не сержусь, но хочу попросить Серафиму Алексеевну отпустить меня, – после сегодняшнего казуса нам будет неловко…
– Вот еще чего выдумали! – сердито возразила Серафима Алексеевна, – так я вас и отпущу перед Оленькиной свадьбой. И нашли на кого обращать внимание – на Аполлона Егорыча! Он для красного словца отца с матерью не пожалеет, а мы, кажется, никогда не давали вам повода…
– Да что тут толковать, мама, я не отпущу Сару Павловну и конец, веревкой привяжу – заявила Оленька и, бросившись на шею Саре, стала ее душить поцелуями, повторяя:
– Милочка, засмейтесь, прошу вас…
Коломин поспешил незаметно скрыться.
XXVПрошло три месяца. В воздухе высоко закружились жаворонки; на крышах зачирикали воробьи; вся степь зазеленела и заколыхалась волнами ковыля, в которых, словно разноцветные бусы, мелькали синие колокольчики, мальва, белая ромашка, желтые одуванчики, дикий мак… Деревья совсем оделись, и лишь кое-где на липах попадались еще толстые набухшие почки. Пахло сырой землей, полынью и донником; аромат сирени, ландышей и какой-то особенно влажной весенней свежести проникал в грудь едкой и сладкой струей. По небу плыли и таяли золотые тучки. Проснулась и засинела в своих берегах Волга. Все ожило, зашумело, заплясало, запело и зашевелилось…
Зубковский дом точно заразился общим оживлением и принял новый помолодевший вид. Из раскрытых настежь окон лилась музыка, слышалось пение и звонкие взрывы смеха. Терраса обтянулась полотном, уставилась цветами, мебелью и смотрела совсем жилой комнатой – тут валялась книга, там рабочая корзинка, в другом месте забытый чулок с выпавшей спицей. Темные зимние цветы уступили место светлым и ярким. Серафима Алексеевна расхаживала в батистовом капоте, Ора Николаевна и Оленька утопали в воздушных оборках, и даже Сара сменила свое вечное черное платье на белое. Эти три месяца промелькнули для нее, как сон. Она сама не могла сказать, хорошо ли ей было и, если хорошо, то почему. Но одно она испытывала всем своим существом – облегчение, которое дается высказанным, разделенным страданием. Знаменательный вечер Оленькиной помолвки, помимо ее воли, сблизил ее с Коломиным. Она тогда же почувствовала, что в этом обленившемся, избалованном барине – не замерзло еще все живое и жадно ухватилась за его дружбу, не думая, не рассуждая, что будет дальше. Бывают минуты, когда переполненное горечью и болью сердце ищет, во что бы то ни стало, выхода из напряженного состояния – и в такие минуты сдержанный человек раскрывает свои заветные мысли пустому болтуну, порядочная женщина бросается, очертя голову, в объятия пошлого селадона, трезвый начинает пить запоем. Борис Арсеньич сумел сделаться необходимым человеком у Зубковых. Он играл в карты с Серафимой Алексеевной, давал уроки английского языка Оре Николаевне, предоставил в распоряжение полковника, с которым состоял в родстве, свои конюшни и оранжереи. С Сарой он был, по-видимому, дружески вежлив, – и только. Но она чувствовала, что все это делается для нее, чтобы быть ближе к ней, что ни одно ее движение не ускользает от внимательного, незаметно следящего за ней взора, – и ей было легко от сознания, что она не одна после долгого одиночества… Но это состояние забытья продолжалось недолго, оно постоянно отравлялось внутренним томительным страхом, что все это скоро кончится, что это обман, мираж, который должен рассеяться. Свадьба Оленьки была назначена на июль. Серафима Алексеевна совсем, что называется, с ног сбилась; хлопоты о приданом требовали постоянного ее присутствия в городе, а она сдала свой дом жильцам и не знала теперь, как быть. Коломин вывел ее из затруднения, обязательно предложив к ее услугам свой дом; он уверял, что это его нисколько не стеснит, напротив, доставит величайшее наслаждение, что с ним, как будущим родственником Оленьки, нечего церемониться, и так далее. После нескольких отказов, которых требовало приличие, Серафима Алексеевна приняла предложение этого “милого Бориса Арсеньича”, очень довольная, что ей не придется истратить “Бог знает сколько” на наем квартиры, – ей и с приданым-то было тяжело справиться. Времени до свадьбы оставалось немного, а потому было решено перебраться в город как можно скорее. Переезд этот очень огорчал Сару, так боявшуюся всяких перемен. Она привыкла и привязалась к этому заброшенному уголку и с тоской пробегала лихорадочными шагами большой тенистый сад, прилегавший к дому; ее давило какое-то неопределенное предчувствие, что она его больше не увидит.
Стояла жаркая послеобеденная пора. Все в доме улеглись; для прохлады закрыли ставни; но Сара не могла заснуть; ей было душно в комнате, ее раздражала окружающая тишина, прерываемая лишь всхрапыванием Серафимы Алексеевны. Она встала, захватила первую попавшуюся книгу, вышла в сад и, вскарабкавшись на высокий крутой холмик, прилегла под старой развесистой березой; попробовала читать, но книга соскользнула у нее с колен и упала в траву. Она оперлась подбородком на руку и загляделась… Волга, вся залитая солнцем, ласково катила свои светлые волны; на горизонте лениво тянулась баржа; там и сям белели бесчисленными точками парусные лодки; по берегу перекликались рыбаки… Жигулевские горы, окутанные дымкой знойного воздуха, отражались в сверкающей бриллиантовой рябью воде. Совсем далеко сидел утес Стеньки Разина, упираясь головой в багрово-лиловую тучу.
Возле Сары послышался треск сучьев. Она повернула голову и увидала шедшего к ней Коломина, в шелковом летнем костюме и широкополой соломенной шляпе.
– Здравствуйте, Сара Павловна, какое у вас там сонное царство! – сказал он, садясь подле нее на траву. – Я обошел весь дом и повсюду до меня доносился храп, как в сказке о принцессе “Dorn-roachen”… Пошел в сад и, увидав на холме белую фигуру, подумал – уж не Ольга ли Николаевна изображает из себя Лорелею, поджидая в легком челноке Николая Иваныча; всмотрелся и узнал ваши черные косы. Как я рад, что вижу вас, наконец, одну, – нам так давно не удавалось перекинуться словечком.
Он снял шляпу, вынул из кармана черепаховую сигарочницу и закурил.
– О чем это вы думали, сидя здесь? – спросил он. – Вы оглянулись, когда я был совсем близко.
– Да ни о чем особенно, я залюбовалась на Волгу, и мне грустно стало расстаться с ней. Зачем вы только нас отсюда увозите… Мне так не хочется уезжать отсюда. Мне страшно будет в вашем большом чужом доме.
Он близко наклонился к ней и заговорил взволнованным голосом:
– Дорогая моя… вам стоит только захотеть, и дом этот не будет чужим для вас, он будет вашим… Будьте моей… открыто… перед светом… Как я вас люблю, Боже мой!.. Он приник всем лицом к ее рукам, и она почувствовала на них его горячие слезы.
– Если бы вы знали, сколько лет я не плакал, а теперь мне даже не стыдно своих слез! Сара, скажите да…
– Это невозможно, – чуть слышно проговорила она.
– Отчего? – сказал он, поднимая голову и глядя на нее полными любви и слез глазами. – Отчего? Или вы меня совсем не любите?
Она стиснула руки и ничего не ответила.
– Послушайте, я не требую от вас, чтобы вы меня сейчас полюбили, я отлично знаю, что не стою вас… но согласитесь только быть моей женой, и клянусь вам…
– Борис Арсеньич, это-то именно и невозможно. Я ни за что не переменю религию, перестанем об этом говорить, прошу вас.
– Но ведь это простая формальность, обряд. Для такой женщины как вы, существует лишь одна религия, религия добра и справедливости, которая совсем не обуславливается той или иной церковью. Не могу же я поверить, что вы заражены религиозным фанатизмом.
– Конечно… И несколько лет тому назад я рассуждала бы так же, как и вы. Но с тех пор многое изменилось. Мои мечты о братстве людей, о родине, оказались такой жалкой ребяческой иллюзией… Слушайте, я считала себя с детства русскою, думала и говорила по-русски, мое ухо с колыбели привыкло к звукам русской песни… Все это осмеяли, забрызгали грязью. Я испытала на себе весь ужас положения несчастного незаконнорожденного ребенка, приставшего к чужой семье. Я стучалась у всех дверей, протягивая за работой свои исхудалые от голода руки – и всюду встречала отказ. На моих глазах умерло мое дитя – и я не могла оказать ему помощи… “Жидовка!” – это слово горело на моем лбу, как жгучее позорное клеймо проклятия… Мне даже великодушно предложили продать себя, потому что жидовской красотой и деньгами православные христиане ведь не брезгуют… Я, наконец, была свидетельницей дикой животной травли на людей, скученных на одном клочке, за чертой которого им запрещалось дышать, а когда эти глупые люди не догадались задохнуться от тесноты и грязи и стали барахтаться, – их обозвали эксплуататорами, вампирами и мало ли еще чем. Все это прошло, как плеть по моему телу, оставив на нем вечные кровавые рубцы… И я отвернулась от вас, не хотевших признать за мной того, в чем вы даже собакам своим не отказываете – ведь собаки ваши свободно бегают и живут, где хотят – и всей измученной душой своей прилепилась к этим гонимым, невежественным, забитым евреям, которых вы же изуродовали и над которыми вы же и издеваетесь. И вдруг теперь… громогласно отречься от них… перейти во вражеский лагерь самодовольных и ликующих… Милый мой… я люблю тебя, как душу, но никогда за тебя не пойду!
Она припала головой к его плечу и горько зарыдала. Он прижал ее к своей груди и молчал. Все стихло в томительно-знойном сиянии дня и только в вершине старой ели по-прежнему уныло куковала кукушка, да с Волги протяжными переливами неслась тоскливая песня.
– Сара, – начал Борис Арсеньич, – послушай меня, ты права, твое озлобление справедливо, но чем же я виноват, зачем ты меня караешь? Подумай, – знать, что ты меня любишь, чувствовать так близко счастье… ведь я совсем другим человеком стал… и вдруг ты все отнимаешь… ты ведь этого не сделаешь, Сара, ты не убьешь меня…
– Я и себя не щажу, – прошептала она, рыдая.
– Но, дитя, ведь это безрассудство, ты не имеешь права разбивать наше счастье.
– Мы все равно не будем счастливы.
– Отчего это?
– Оттого, что меня вечно будет преследовать призраки прошлого, у меня не будет ни минуты покоя, да, кроме того, вы знаете, что у меня есть тетка и сестра, мне будет отрезан путь к ним… Кончится тем, что я вас возненавижу.
– Уедем в таком случае заграницу, это – единственный исход.
Она грустно покачала головой.
– И этого не хочешь?
– Я никогда не решусь обречь вас на бессмысленную жизнь вечного туриста; да и сама я не решусь покинуть навсегда Россию…
– Что же нам делать, голубка моя?
– Расстаться… Я уеду отсюда, и вы меня забудете.
Он нетерпеливо передернул плечами.
– Полно, Сара, за кого вы меня принимаете? Я не мальчик и не допущу погубить свою жизнь в угоду какому-то отвлеченному идеалу. Милая моя, ведь это просто мания – стремиться страдать quand тете[56]56
Все еще.
[Закрыть]. Неужели ты еще недостаточно измучена? Отчего же ты не хочешь отдохнуть у меня?
– Что бы вы ни сказали, я никогда не изменю, как вы говорите, отвлеченному идеалу, – промолвила Сара. – Мне ужасно больно отказаться от вас, но я все-таки уйду.
Она закрыла лицо и опять заплакала.
– Но я тебя не пущу: ты моя, ты сама сказала, что любишь меня, я считаю тебя своей женой теперь, и никто, слышишь, Сара, никто не посмеет отнять у меня мою жену! – сказал он, задыхаясь и крепко, до боли сжимая ее в своих объятиях.
В саду послышались стук копыт и лай собаки. Сара испуганно вырвалась из рук Коломина.
– Это Николай Иваныч приехал, – сказал он. – Ступай к себе, успокойся и подумай хорошенько о нашей будущей жизни.
Она поднялась и стала быстро спускаться с горки. Коломны догнал ее.
– Сара, – сказал он с улыбкой, – я даже не простился с тобой… Можно? – и, не дожидаясь ответа, прильнул к ее губам долгим поцелуем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































