Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
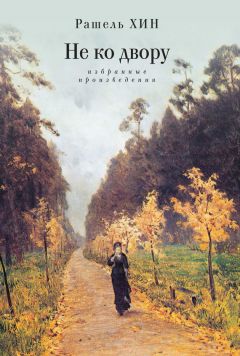
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 36 страниц)
Эссе, воспоминания
Письма из Москвы
Письмо первое
У нас начался сезон, т. е. обыватели, как коренные, так и приставшие, давным-давно собрались в город; квартиры после летнего беспорядка прибраны, на окна навешены шторы, с картин и мебели сдернуты чехлы, газеты запестрели объявлениями студентов и учительниц, готовых распространять всевозможные науки и искусства за какую угодно цену; румянец, зажженных летним солнцем на девичьих щечках, уступил место обычной интересной бледности… Все прилизалось, подтянулось и, вздохнув, принялось за отбывание барщины обыденного существования.
Москву в последние годы как-то вообще обуяла дремота – все бродят, словно сонные. Грянет какой-нибудь скандал-монстр вроде Рыковского или Назаровского процессов, ну и москвичи встрепенутся, поахают, поволнуются, поропщут на вердикт присяжных, и опять “все задремлет, все заснет”. Появится заграничная знаменитость – Поссарт, Барнай… – глядишь, наша матушка воспрянула, ни дать ни взять – феникс из пепла. Цветы, овации, газетные дифирамбы, взаимные комплименты рецензентов противоположных лагерей, разоблачения частной жизни, привычек и слабостей “дорогих гостей”, восторженные речи, прощальные обеды и ужины, торжественные проводы на вокзал, рыданья и сувениры прекрасных поклонниц… – и снова тишь да гладь… Евреи, как народ отзывчивый, тоже вносят свою лепту в повальный восторг, хотя, конечно, в более смиренной форме. Робость и смирение – наши невольные добродетели. Мы когда и веселимся, так точно прощенья просим.
Не знаю, как в других городах, но в Москве, особенно за последнее десятилетие, евреи живут совершенно особняком, и живут томительно-скучно. Правда, местная русская интеллигенция, за исключением разве некоторых, не по разуму усердствующих газет, не накидывается на евреев с пеной у рта, не высказывает громогласно желания стереть бедный Израиль с лица земли, но зато так чистосердечно, так искренне игнорирует его существование, что даже сами евреи как бы свыклись с мыслью, что так этому и быть надлежит. Есть, конечно, единичные исключения, которые проникают всюду, на которых смотрят почти, как на “своих”, но мне кажется, что эти счастливые единицы должны чувствовать себя неловко на чужом пиру. У таких измученных людей, как евреи, нервы очень чутки: малейшая ирония в голосе, небрежный жест, беззаботно брошенное в вашем присутствии слово “еврейчик”… и иллюзия мгновенно пропадает, сердце начинает ныть, слова замирают на губах, смех обрывается жалобной нотой, и чувствуешь, как в наболевшей груди все кричит: Ложь! ты тут не “почти свой”, а совсем, совсем чужой. Помню, как лет 10–15 тому назад я, только что выпущенный из учебного заведения птенец, мечтал вкупе с такими же птенцами о наступлении новой эры. Чем-чем только мы тогда не увлекались, даже славянофильством… Я особенно кипел жаждой “слияния”. Меня сердило всякое проявление шероховатости, грубости, вульгарности со стороны юношей-евреев, к которым я относился с преувеличенной подозрительностью и требовательностью, в то же время бессознательно закрывая глаза на крупную грубость коренных, к которым питал страстную благодарность за ласку. Мне все казалось, что нам нужно только еще немножко потерпеть, чтобы они могли убедиться, какие мы на самом деле, как душа наша открыта для истины, добра и красоты, и тогда… какое же сомнение, что они откроют нам братские объятия… Тогда, впрочем, и во всем обществе чувствовалось какое-то приподнятое настроение… Действительность скоро всех отрезвила, и скорее всех, конечно, нас, на которых сердце срывали и либералы, и консерваторы, и народники, и квартальные, и всякие добровольцы. Теперь и у нас, и у них все вяло, серо и донельзя шаблонно, так что в этом отношении по крайней мере нам нечему завидовать друг другу.
Казалось бы, что при таких условиях все евреи должны черпать все жизненные ресурсы у себя. Недаром же столько говорят о еврейской солидарности. Но увы, эта солидарность чисто внешняя. Конечно, евреи разговаривают, ездят в гости, сходятся преимущественно друг с другом и по виду, как будто, и вправду составляют что-то похожее на общество. Но это общество, особенно его привилегированная часть, до того лишено всякой физиономии, до того тщеславно, надуто, мелочно, что оно действует, как угар на попадающего в его среду нового, свежего человека. Настоящее убожество русской жизни охватило и нас своей мутной волной. Личная жизнь в самом узком смысле, заслонила все общепринятые интересы. Все идеалы свелись к одному: как бы поприятнее пожить; и сколько муки, сколько пыток причиняет этот упрощенный идеал, какую бездну лжи и притворства он породил. Нигде это так резко не бьет в глаза, как у нас, евреев. Вопреки ходячему мнению, будто у нас денег куры не клюют, мы – за исключением очень миниатюрной группы – люди необеспеченные и, главное, совершенно не умеющие жить. Этот незаменимый талант, доведенный до виртуозности средним классом в Германии, Англии, Франции и лишь отчасти свойственный русским, нам, евреям, совершенно не известен. Происходит ли это от нашей вековой бродячей жизни, от нашей неуверенности в завтрашнем дне, – факт тот, что с большими средствами мы живем смешно, а с ограниченными – жалко и мучительно. Вероятнее всего, это зависит от самой обстановки нашего существования, исключающей возможность правильной распланировки общественных слоев – явление само по себе прекрасное, но у нас, к сожалению, оно как бы специально служит для подтверждения истины, что палка имеет два конца. Перемена ролей, действующих лиц и картин происходит сплошь и рядом с такой неожиданной быстротой, что мы постоянно, точно на бивуаках, нам просто некогда усвоить солидные привычки, присущие людям, у которых жизнь, может, конечно, измениться в подробностях, но главным образом все же идет по намеченной дороге. И вместе с тем, как это ни странно в обществе, которое уже просто в силу своего положения entre deux chaises[326]326
Entre deux chaises – между двух стульев.
[Закрыть] должно бы относиться осторожно, мягко и снисходительно к своим членам, – редко можно где встретить такую бесцеремонность обращения богатых с бедными, образованных с простыми, такое, подчас до наивности доходящее чванство, как у евреев. Комичнее всего то, что каждый в отдельности, строго порицая эти недостатки в других, совершенно не примечает их в себе. Вообще, было бы очень желательно, чтобы заносчивость, отсутствие такта и благовоспитанности встречались в нашем beau mond'e[327]327
Beau mond'e – высшее общество.
[Закрыть] пореже. Женщины, впрочем, страдают этими недостатками в меньшей степени. Но зато страшно однообразны: в них нет непосредственного изящества, высшее проявление которого есть настоящая простота. Когда я гляжу на еврейскую барышню, выезжающую на первый бал, я испытываю какую-то особенную скорбь. Меня не удивляет ее благоразумный вид, не восхищают ее умные, часто слишком умные, речи. Хотелось бы видеть на этом молодом лице больше живости, беспечности, беззаветного увлечения, наивной грации, наивного восторга перед раскрывающейся жизнью… Но и то сказать, откуда взять эту жизнерадостность! Едва только ребенок переступит порог родного дома, как он с первых же шагов наталкивается на враждебные лица. Его встречают в школе не как ученика и товарища, а как антагониста и узурпатора. В том возрасте, когда потеря игрушки считается большим горем, еврейской девочке, например, уже приходится считаться с обидной снисходительностью или явным презрением подруг, предубеждением учителей, высокомерием школьного начальства. А рядом с этой, так сказать, внешней борьбой идет развитие невидимой, бесшумной и тем более тяжелой домашней драмы, от которой свободна лишь редкая семья. Жалобы, вздохи, легальные погромы, разлетающееся, подобно карточному домику, “солидное” положение, толки о выгодной партии, буржуазное самодовольство и холопская низость… минутная роскошь – бриллианты, тропические цветы, дорогие кружева, – и сейчас же следом вся проза “администрации”, “конкурса”, “аукционной продажи!., разочарование в любви, разочарование в дружбе – и надо всем, как грозный призрак, парит с каждым годом увеличивающийся умственный пролетариат.
Вот декорация еврейской жизни, сюжет с бесконечными вариациями (…)
Несколько слов о И.С. Тургеневе
Ввиду того, что так много писалось и говорилось о покойном Иване Сергеевиче Тургеневе, что живы его друзья, современники и сотрудники, близко его знавшие, я, конечно, не имею притязания сообщить что-либо новое о великом писателе, а желаю только поделиться с читателями – даже не личными впечатлениями, которые я вынесла из моего знакомства с Тургеневым, – а лишь тем, что мне удалось запомнить из моих разговоров с ним.
Зиму 1880 года я провела в Париже и в это время имела случай часто видеться с Тургеневым. Сначала я его немного дичилась. Мне казалось невозможностью, неужели я вижу его самого Ивана Сергеевича – которого в России я встречала лишь в общественных местах на эстраде, в собрании или театре, окруженным недоступным ореолом, – так близко, рядом с собой, разговаривающим так просто, добродушно и мягко. Мало-помалу, я, однако, привыкла к нему и часто проводила целые часы, заслушиваясь его рассказов, говорила сама, давая ему подробные отчеты о своих занятиях, знакомствах, развлечениях. По его просьбе, иногда даже читала ему вслух, он в шутку называл меня своей “московкой” за мой великорусский говор, резко выделявшийся среди южного, западного, поморского и всяких других акцентов большинства русской колонии.
Главной темой наших бесед была литература. Очень снисходительный к начинающим и молодым писателям, И.С., тем не менее, признавал у нас мало талантов, находил, что молодежь слишком мало обращает внимание на форму и недостаточно проникается основной идеей своих произведений.
– Такие обороты, говорил он, как – я вас люблю, подскочила она, – или: – вы правы… взялся он за шляпу – вы не найдете ни у кого из наших классиков! – так не писал ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лев Толстой, ни Гончаров (о себе он скромно умолчал).
Самым выдающимся за последнее десятилетие талантом он считал В. Гаршина, и сильно порицал некоторых молодых писателей за рабское подражание приемам и языку Щедрина.
– Подражать Салтыкову, – говорил он, – всегда опасно – он слишком оригинален, и то, что у него выходит естественно, у подражателя является карикатурой.
Я как-то полюбопытствовала узнать, как он сам принимается за разработку своих произведений.
– А это довольно курьезная история, – сказал он, улыбаясь своей милой, чуть-чуть лукавой усмешкой. – Представьте, я недавно уничтожил (о чем весьма сожалею) альбом, включавший в себя формулярные списки моих героев. Когда я писал “Отцов и детей”, я очень долго возился с Базаровым. Формулярный список его родителей, – кто они были, какого характера, где жили – меня не особенно затруднил. Но зато сам Базаров положительно преследовал меня. В гостях, в театре, в концерте, за обедом, на прогулке – я всегда был мысленно занят вопросом: что бы на это сказал, или что бы об этом подумал Базаров, и находил ответ, вносил его в свой альбом. Таким образом, я старался узнавать его мнение о женщинах, об искусстве, о политике… наконец, о том или другом кушанье. И что же по прошествии, положим, года, я мог заставить Базарова говорить о чем угодно в продолжение четырех часов. Если б кто-нибудь, например, спросил, как он относится к музыке, у меня тотчас был готов ответ. Скажу больше, тот доктор, который подал мне первую мысль написать Базарова, был черноволосый, а у меня Базаров белокурый, потому что все присущие ему черты я в жизни больше встречал у блондинов.
Я подивилась его терпению и добросовестности.
– Это, вероятно, происходит от того, что у меня нет воображения, – сказал он, – писатель, одаренный воображением, может обойтись без такой кропотливой работы.
Он много и охотно говорил об известных писателях его эпохи, отзываясь о них, большей частью, чрезвычайно тепло, – особенно о Белинском. “Вот это был святой человек”, – обыкновенно говаривал он, оканчивая о нем какой-нибудь рассказ. Выше всех как художника Тургенев ставил Льва Толстого, и в силе художественного таланта не признавал ему равного в Европе. Раз только, мне пришлось видеть Ивана Сергеевича сильно взволнованным и услышать из его уст резкий приговор.
Речь шла об одном очень известном русском поэте, теперь уже умершем. Помнится, я сказала, что в стихах названного поэта звучит такая неподдельная скорбь, такая боль за людское страданье, что нельзя придавать значения ходячим толкам о его бессердечии. Иван Сергеевич, несмотря на мучившую его в тот день подагру, даже привскочил со своего кресла.
– У него сердце! – воскликнул он. – У него! Да, полноте, разве может быть у хищного ястреба сердце. Он умен – да! А что до сердца, так он бы сам всякому под нос засмеялся, кто бы ему это сказал.
Вообще же добродушие Ивана Сергеевича доходило иногда до комизма. Помню, при мне одна дама лет 45 рассказывала ему, как она волновалась, читая на каком-то литературном вечере.
– Что значит молодость, – промолвил он, качая головой, вот вы говорите – у вас от волнения даже круги перед глазами мелькали. Когда я был молод, со мной то же самое бывало, приедешь, например, на бал, так и кажется, что все на тебя глядят, а в сущности никто даже не замечает, тут ли ты. Читать в обществе я совершенно не мог, а теперь вот буду хорошо читать, где хотите и при ком угодно. Поживите с наше, и вы перестанете волноваться, а то – еще в вас молодое самолюбие говорит.
Я закусила губы, чтобы не рассмеяться, и только, когда дама ушла, дала волю душившему меня смеху.
– Чего вы? – удивился Тургенев.
– Да как же, Иван Сергеевич, вы верно думали о ком-нибудь другом, ведь эта дама немногим моложе вас.
– Ах вы, насмешница! – сказал он. – По-вашему, кому не двадцать лет, так тот уже и старик.
Говоря об отношении к нему некоторой части русского общества, он как-то показал мне целый пакет анонимных писем по поводу его обращения к русским почитателям Густава Флобера пожертвовать что-нибудь на памятник этому писателю. Письма, в самом деле, были очень грубы, даже наглы. Так, в одном из них о Тургеневе говорилось, как о господине, танцующем на задних лапках перед французами, простаивающем целые часы в передней V. Hugo, который на него “плевать не хочет” и т. п.
– Да, мы, русские, вообще не можем похвалиться большой терпимостью, – заметил Тургенев. – Помню, – продолжал он, – мы один раз сильно заспорили по этому поводу с покойным Ю.Ф. Самариным. Он говорил, что терпимее нас народа нет, а я доказывал обратное. Видя, что нам друг друга не убедить, я и говорю ему, постой, представь себе такой случай: меня, положим, требуют в суд свидетелем по какому-нибудь делу. Первый вопрос:
– Вы какого вероисповедания? Я, положим, отвечаю: никакого, что ж? Ведь меня за это сейчас в кутузку.
Юрий Федорыч ударил кулаком по столу и сердито произнес: И поделом! Я тогда очень смеялся неожиданному окончанию нашего спора.
С глубокой скорбью следил И.С. за событиями, происходившими на родине, предвидя самые печальные их последствия. Раз он даже высказался так: “Если бы самому умному и независимому человеку предложили вопрос, что нам теперь делать, он, по чести, должен бы ответить – не знаю”.
Припадки подагры повторялись у Тургенева все чаще, сильно влияя на его душевное настроение. Он выражал, впрочем, надежду, что поездка в Россию его оживит и поправит. Но поездка эта все откладывалась – сначала по его болезни, потом из-за свадьбы младшей дочери мадам Виардо.
Наконец, 17 апреля (нового стиля) я получила от него записку, в которой он уведомлял меня, что он уезжает в ближайшую субботу. Зная мое намерение возвратиться в Россию, И.С. просил меня повидаться с ним в Москве. В августе я получила от него письмо из Спасского, в котором он извещал меня, что такого-то числа будет проездом в Москве, что чувствует себя лучше и напоминал о моем обещании повидаться с ним. Я жила тогда недалеко от Москвы, на даче и в назначенный день отправилась в город. И.С. остановился на Пречистенском бульваре, в квартире своего приятеля, начальника удельной конторы Маслова. Я отдала швейцару свою карточку.
Тургенев встретил меня в дверях, весело улыбаясь и широко расставив свои большие руки.
– Как это хорошо! А я уж думал, что вы так и не дадите на себя взглянуть, – сказал он приветливо и, не выпуская моих рук, повел меня через огромное зало в гостиную, уставленную зеленой вычурной мебелью.
Тургенев, загоревший и потолстевший, со свежим румянцем на щеках и длинной гривой нестриженных волос – показался мне с виду совсем здоровым. На нем был широкий сюртук, это заставило меня улыбнуться: в последнее время в Париже я его видела всегда в вязаной английской куртке.
– Что вы так лукаво на меня глядите? – спросил он. – Да вы таким франтом стали, Иван Сергеич, и как потолстели.
– Неужели потолстел? – сказал он тревожно. – Нет, это только так кажется, потому что я, Бог знает, сколько времени не стригся, – ведь для подагриков очень вредно толстеть.
Тургенев был в духе, много рассказывал, ходя по комнате и оживленно жестикулируя, но во всем его оживлении явно звучала грустная нотка.
– Что же, понравилось вам в деревне, вам так хотелось туда, – сказала я.
– Как вам сказать, – ответил он с расстановкой, – я там испытывал очень странное чувство – чувство веселого отвращения.
Я поглядела на него в недоумении.
– Не понимаете? Конечно, вы слишком молоды, это чувство стариковское. Дело в том, что не та теперь деревня стала, что прежде… это – не мужики, а те же Колупаевы да Разуваевы. В подтверждении своих слов, Тургенев рассказал, что не успел он приехать в Спасское, как уж к нему явился старик один с жалобой, что года два тому назад мир ему предложил: отдай-де нам свою землю, ты сам уж работать не можешь, делай что по силам, а мир тебя будет кормить, пока не помрешь. Старик согласился. Пока силы ему не изменили, он колол дрова, исправлял разные домашние работы, но, вот он стал слабеть, и мир, взявший его землю, без дальних церемоний отказался ему давать хлеб. – Я позвал самых важных мужиков, – заключил Тургенев, – и стал их усовещать. А они мне: “Что ж с ним делать, батюшка, работать он не работает, а помирать не помирает”. Я опять стал их уговаривать. Молчат. Что ж, говорю, и вам не стыдно будет, если я, бывший ваш барин, возьму его к себе и стану кормить. Как они загогочут: “Стыдно! Да хошь всех бери, батюшка, коли охота”.
Кончилось тем, что, кроме этого старика, Тургеневу привели на пансион еще двух баб.
– И все-таки в деревне весело, – сказал И.С. – пахнет коноплей, грибами, я сам ездил собирать грибы – знаю, что на кухне их и так пропасть – и все-таки радуюсь, когда удается самому найти какой-нибудь подберезовик. Что мне! Еще каких-нибудь четыре-пять лет, и я буду один в химию.
– Какое ужасное выраженье, Иван Сергеевич.
Он задумчиво улыбнулся.
– А знаете, Иван Сергеевич, – начала я, – я думала, что вы раньше уедете от нас, чтобы поспеть на литературный конгресс в Лондон.
Он громко засмеялся и замахал руками:
– Закаялся я ездить на эти конгрессы.
– Отчего же?
– Да вот, поехали мы – я да еще двое русских писателей – несколько лет тому назад на такой конгресс[328]328
Я забыла названный Тургеневым город (прим. автора).
[Закрыть]. Стали к нам там приставать, чтобы у нас в России хоть что-нибудь платили авторам за право перевода их сочинений. Товарищи мои начали колебаться. Я и говорю им – что вы, ведь это значит пустить по миру половину нашей молодежи.
Понятно, мы не согласились. На меня и вскинулся за это один немец, – Шварц, кажется, – отлично говорил по-французски.
Кричит:
– Vous etes de voleurs de la pence, des brraconniers de Tintelligence[329]329
Вы – похитители мыслей, грабители интеллекта, а я только молчу да кланяюсь на все эти любезности.
[Закрыть], а я только молчу да кланяюсь на все эти любезности. Вот с тех пор и порешил – не ездить ни на какие конгрессы.
Мне пора было ехать, я взглянула на Тургенева и у меня невольно навернулись слезы при мысли, что я, вероятно, в последний раз вижу эту дорогую голову, слышу этот мягкий ласковый голос.
Он, должно быть, понял меня.
– Что делать, дитя мое? – сказал он тихо, гладя мои руки, – это неизбежно, жизнь человеческая – непрерывное прощанье: прощаешься с надеждами, мечтаниями, идеалами, прощаешься с дорогими людьми, прощаешься с даже самыми постоянными нашими спутниками – с врагами и завистью. Храни вас Бог!.. Это, действительно, было мое последнее свидание с Тургеневым.
Глава из неизданных записок
Над литературной и личной судьбой Тургенева всегда тяготело какое-то недоразумение, что-то недоговоренное… Великий писатель, будивший самые благородные мысли, один из образованнейших людей своего времени, обаятельный собеседник, доступный, приветливый, независимый, он не пользовался той популярностью, на которую, казалось, имел все права. Было два-три момента, когда духовный подъем и праздничное настроение русского общества как будто сломили непонятное предубеждение против автора “Записок охотника”. В 1879 г. московский университет восторженно приветствовал нашего художника-гуманиста; в пушкинские дни он хотя и не был предметом истерических оваций, как Достоевский, но все взоры с любовью обращались в ту сторону, где была его прекрасная белоснежная голова. По возвращении в Париж он рассказывал, как он был умилен и взволнован проявлениями к нему общей симпатии. Особенно растрогал его следующий случай. Ему пришлось читать (кажется, в благородном собрании) стихотворения Пушкина. Он вышел на эстраду. Его встретили дружные, продолжительные аплодисменты. Воспользовавшись первой паузой, он начал: “Последняя туча рассеянной бури” – и с ужасом убедился, что забыл следующий стих. “Я еще раз пробормотал: Последняя туча рассеянной бури – рассказывал Иван Сергеевич, – и опять остановился… хотел уже повиниться в стариковском беспамятстве… Но тут публика, как один человек, мне подсказала: одна ты несешься по ясной лазури… – я благополучно кончил – и мне же хлопали”…
Но отошли пушкинские дни… Опять повеяло холодом… и в отношении общества к Тургеневу опять наступило равнодушие, за которым он всегда чувствовал глухое, затаенное раздражение. Правда, смерть Тургенева вызвала такой взрыв скорби, такую единодушную печаль, какой редко приходится быть сви-детел ем. Его похороны представляли поистине величественное зрелище. Так страна оплакивает только лучших своих детей. Но… не успели еще стихнуть боль и горечь невосполнимой утраты, как сначала во французской прессе, а затем и в русской, стали появляться довольно своеобразные “Воспоминания”. Русский автор французских воспоминаний изобразил Тургенева человеком малодушным, неискренним, который в глаза расточал комплименты, а за глаза всех высмеивал – не исключая и корифеев французской литературы, имевших наивность считать себя его приятелями. Эти разоблачения “интимного Тургенева” произвели в парижском литературном мире сенсацию, и ближайшим их последствием явились заключительные строки в книге Alphonse Dande “30 ans de Paris”. Автор, недоумевая, зачем Тургеневу было притворяться, кривить душой – с грустью восклицает: “И этого человека я считал своим другом! Он был в моем доме желанным гостем, ласкал моих детей… О Ирония!” Русские воспоминания (гг. Виницкой и Головачевой-Панаевой, например) тоже не страдают излишней pietcit[330]330
Пиетет.
[Закрыть] к памяти великого писателя. Тургенев в них рисуется мелким фатом, завистником, сплетником, трусливым, тщеславным и лживым. Особенно характерны в этом смысле мемуары Г-жи Панаевой-Головачевой. Во всех ее рассказах о Тургеневе ему неизменно отводится самая жалкая, самая неприглядная роль. Как хорошо после этих развязных характеристик отдохнуть на безыскусственных, правдивых страницах г-жи Житовой! Само собой разумеется, что одинокие хулители не имеют серьезного значения. Тургенева почитали и горячо любили лучшие люди и у нас, и на Западе. Он более, чем кто-либо, жил mit den bescen seiner Zeif…[331]331
Жил посетителем своего времени.
[Закрыть] И, тем не менее, справедлива французская поговорка: calomniez, calomniez – il en re’e tonjours quelque cliose…[332]332
Клевещите, клевещите, всегда можно что-либо отыскать.
[Закрыть] Это ничто, словно ядовитая поросль, вплелось в лавровый венок писателя, которому любой культурный народ отвел бы одно из первенствующих мест в своем Пантеоне. 1880 и 1881 гг. я провела в Париже и в течение этого времени – особенно весной и зимой – часто видала Ивана Сергеевича. Он помог мне разобраться в запутанной сети курсов по истории, литературе и философии, которые влекли меня в аудитории College de France и Сорбонны. Мне хотелось слушать все и всех, но Иван Сергеевич настойчиво советовал не разбрасываться, а выработать определенную программу, и сам указал мне на некоторых, по его мнению, наиболее для меня полезных профессоров. При встречах, даже мимолетных, он всегда осведомлялся о моих занятиях, а иной раз, в шутку, производил довольно придирчивый экзамен. Несмотря на необыкновенно доброе, милое и ласковое обращение со мной Тургенева, я в его присутствии испытывала такой благоговейный страх, что в первое время нашего знакомства, как только я входила в его кабинет, все предметы начинали мелькать перед моими глазами, я буквально не знала, куда сесть, что сказать…
Иван Сергеевич, конечно, замечал мое волнение и, чтобы дать мне оправиться, говорил, покачивая головой: – Опять задохнулась! Ведь я вас просил не взбегать на лестницу… и куда торопиться…
Я понемногу успокаивалась, “отходила”; а когда Иван Сергеевич, бывало, разговорится, для меня исчезало время и пространство: слушать его можно было без конца. Он говорил очень хорошо и очень просто. Несмотря на долголетнее пребывание в Париже, речь его не напоминала блестящую causerie[333]333
Беседа.
[Закрыть]французов. В ней была иная прелесть. Он всегда владел предметом беседы и с изысканным мастерством, не лишенным лукавства, умел располагать к откровенности и даже излияниям робких и замкнутых людей. Чего бы он ни касался в разговоре – философии, религии, искусства, политики, любви, музыки, злобы дня, личной размолвки – во всем сказывался животворящий дух его таланта, мягкость и грусть русского человека с оттенком насмешки, сомнения, уныния и надежды. Он охотно обращался к прошлому, – я много слышала от него о Достоевском, Толстом, Гончарове, Лескове, а больше всего о Белинском, о котором он всегда вспоминал с трогательной нежностью, называя его святым. В последующие годы мне приходилось встречать и слышать немало замечательных людей и на родине и за границей, но такого чарующего впечатления, как Тургенев, на меня уже никто не производил. Иногда я заставала у Ивана Сергеевича довольно разнообразное общество, большей частью русское. Его постоянно посещали находящиеся проездом в Париже соотечественники, молодые ученые, дамы, начинающие артисты, а главное – “колония”. Так называли в мое время (да кажется, и теперь) учащуюся в Париже русскую молодежь. Члены этой колонии не имели ничего общего со счастливым обладателями прекрасных отелей в Раге Monceau и rue de Grenelle St-Germain, – которых репортеры Figaro и Gil Bias удостаивают причислять к “Tout Paris”[334]334
Весь Париж.
[Закрыть]. Слова “учащаяся молодежь” употреблялись больше для краткости и по привычке, ибо в состав “колонии” входили самые разнообразные элементы. Тут были и молодые, и зрелые, и старики, и младенцы, легальные и нелегальные, а больше всего сомнительные, то есть такие, которые, попав в категорию нелегальных, застыли в этом значении и приобрели его как бы в потомственное почетное гражданство.
При всем внешнем и внутреннем разнообразии своего состава, у “колонистов” была одна общая роковая черта, это – ужасающая, почти фантастическая, бедность. Сбежавшиеся по своей и чужой воле со всех концов нашего обширного отечества, многие из них на первых порах чувствовали себя в этом огромном чужом Париже совершенно потерянными. Незнакомство с языком еще больше усиливало уныние. Помню, как один молодой человек, впоследствии прекрасно овладевший языком, рассказывал, что в начале своего пребывания в Париже, он, голодный, зашел в лавку и спросил: “Pour deux sous de Rarballle” (на две копейки луку). Лавочница расхохоталась, а он чуть не заплакал… Чтобы как-нибудь существовать, особенно семейным, приходилось пускать в ход самую невероятную изобретательность. Универсальный ресурс нашей молодежи – беготня по урокам – в Париже не имел никакого raison d'etre[335]335
Смысл существования, причина.
[Закрыть]учить “русским предметам!” было некого: в “колонии” обучение детей силой вещей было бесплатное, а в кругах, примыкавших хотя бы отдаленно к посольству, – на соотечественников, ютившихся в темных мансардах латинского квартала, – смотрели как на париев. Когда группа людей, вследствие неблагоприятных условий, бывает выброшена из течения общей жизни – всегда ведет к искусственному сплачиванию этой группы. Вынужденная вращаться в сфере одних и тех же интересов, под гнетом не терпящей отсрочки нужды, она, по наружности, принимает вид однотонной кружковой массы, а в действительности мельчает и озлобляется. Наиболее слабые, часто более впечатлительные натуры, и вовсе погибают. Нельзя к одному стволу насильственно привить ветки целого леса; может быть сбоку и вытянется какой-нибудь невиданный побег, но ветки завянут, да и ствол развалится в прах… Хроническое недоедание, страх за завтрашний день повышали нервозность и подтачивали силы этих вольных и невольных переселенцев. Инстинкт самосохранения заставлял прибегать к всевозможным ухищрениям – лишь бы уцелеть. Трудно вообразить, сколько изумительных там нарождалось проектов, какие там ежедневно, чуть ли не ежечасно, открывались дарования и таланты. Больше всего, конечно, доставалось литературе. И все алчущие и жаждущие устремлялись – официально за нелицеприятным мнением: есть ли мол талант, стоит ли продолжать, – а в сущности за одобрением и поддержкой неизменно в одно место: в rue de Douai, 50, где жил Иван Сергеевич Тургенев. Отношение “колонии” к Тургеневу и Тургенева к колонии очень любопытно и со временем, вероятно, найдет беспристрастного историка. К Тургеневу мог явиться всякий. Он ни у кого не спрашивал рекомендательных писем, ни от кого не требовал дипломов на право существования, и если бы его не охраняла строгая дисциплина дома Viardot, у него вряд ли были бы определенные часы для собственных занятий. Сколько талантов, начинающих и непризнанных, стучались в его гостеприимную дверь! А сколько находчивости, какую дипломатическую тонкость он проявлял, чтобы доставить, в ожидании будущих лавров, хоть какой-нибудь заработок новому рабу того ненасытного божества, которое зовется “свободное искусство”. К Тургеневу обращалось так много народа, притом народа нервного, обездоленного и издерганного, с болезненной чувствительностью и непомерным самолюбием, что при всем желании он не мог удовлетворить всех. Он так чаровал своей обходительностью, что при малейшей критике или заминке в осуществлении обещаний – заминке, происходившей не по вине Тургенева – к нему начинали относиться холодно, даже враждебно, а втихомолку, случалось, и поругивали. Часто приходилось слышать: Тургенев прочитал мою повесть – и в восторге! Он дал мне самое лестное письмо в редакцию… (называлось имя журнала). Или: Тургеневу так понравилась моя картина, что он ее оставил у себя, чтобы показать… (называлось имя знаменитости в художественном мире). Протекал известный промежуток времени. Повесть возвращалась к автору с лаконичным вердиктом “не подходит”. Картина, по той же причине, не попадала на выставку… Тогда на Ивана Сергеевича выливался весь яд обманутых надежд. Он один оказывался во всем виноватым. И письмо-то он дал в редакцию не настоящее, а только, чтобы отвязаться, и картину никому не показывал, потому что у него и знакомых среди влиятельных художников нет и т. д. О “неискренности” Тургенева немало писалось, а еще больше говорилось под сурдинку. Как могло сложиться такое мнение? Очень просто. Тургенев, по мягкости своего характера, не умел отказывать. Ему стоило невероятных усилий огорчать другого, и когда это бывало неизбежно, он это делал в такой осторожной и нежной форме, что у заинтересованного человека могло получиться такое впечатление, что Тургенев – в сущности, очень доволен. Дело в том, что когда на суд Тургенева представляли вещь совсем бездарную, он, по его собственным признаниям, всегда начинал с попытки сказать автору свое настоящее впечатление. Но сплошь да рядом автор, пораженный своей неудачей, принимался доказывать, что Тургенев недостаточно вник вглубь произведения, в его психологию, и не верил, что здесь (т. е. в рукописи) “ничего, ничего нет”. Или же просто, без риторики, заявлял, что это для него “жизненный вопрос”. Испуганный Иван Сергеевич “размякал” (его слово), соглашался, что, действительно, что-то есть, и снабжал настойчивого дебютанта письмом в какую-нибудь редакцию. Само собой разумеется, вещь возвращали Тургеневу, для передачи по принадлежности. Иван Сергеевич смущенно разводил руками, говорил виноватым голосом: это моя Судьба!.. Мои рекомендации, как фальшивый пачпорт (он любил так произносить это слово) всегда имеют обратный эффект.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































