Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
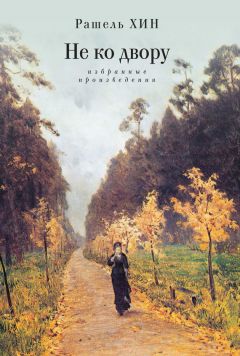
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
Репетиции продолжались более месяца. Каждый раз, когда приходилось ехать в город, Сарой овладевало какое-то беспокойное чувство боязни и вместе с тем ее тянуло туда помимо воли. Мало помалу она начала, однако, успокаиваться, попыталась разобраться даже в своем прошлом, отнестись к нему, так сказать, критически, но процесс вышел слишком мучительный: старые раны глухо заныли, словно из них засочилась свежая кровь, а перед глазами, как живые, замелькали бледные призраки. – “Нет, не надо, не надо”, – шептала она беспомощно в ответ на свои мысли, – “буду жить просто, без надрываний”… а где-то там, глубоко-глубоко внутри как бы шевельнулась замершая надежда, – “как знать, может быть еще не все кончено”… – В Саре незаметно для нее самой сказалась какая-то неясная перемена. Она была по-прежнему сдержанна, но уже не натянуто-холодна и безучастна. Во всей ее фигуре появилась мягкость и приветливость, придавшая новую прелесть ее чертам, по всему существу точно разлилась какая-то особенная грация. Эта перемена отразилась невольно и на отношениях к ней окружающих. Они стали смелее с ней, точно она сделалась к ним ближе. Серафима Алексеевна, не стесняясь, посвящала ее во все свои тайны, опасения и горести. Костя перестал “забывать” об уроках и, когда она его хвалила, прижимался к ней своей точеной головкой, решился даже, после долгого колебания. Поднести ей картонный кораблик своего изделия. И Ора Николаевна стала с ней откровеннее; они много говорили во время двадцативерстного переезда из деревни в город и обратно и в этой мелочной, вздорной, себялюбивой барышне Сара с удивлением увидала еще присутствие человека. Так, в пожелтевшем старом портрете, из-за слоя сора и пыли, иногда вдруг выглянут живые черты и жалобно устремят на вас полинявший немой взор…
Саре стало как-то легче, точно она начала выздоравливать после долгой и тяжелой болезни. В ней появилось больше уверенности, проснулась любознательность. Она стала присматриваться к незнакомому обществу. В доме полковницы Караваевой к ней привыкли и высказывались при ней, как при своем человеке. Коломин встречал ее появление радостной улыбкой. Она почти освоилась с ним; сама она, впрочем, говорила мало, но слушала с интересом и участием. Отрывисто, беспорядочно, полунасмешливо, полусерьезно рассказывал он ей о себе, под шумок любительских завываний: – учился в Пажеском корпусе… служил в гвардии… страстно влюбился в заезжую танцовщицу, даже жениться хотел… но другой, такой же рыцарь, как и он успел раньше преподнести бриллиантовое колье и был предпочтен. Потом опять влюбился, но уже в великосветскую красавицу, жену сановной особы. Особа на аристократическом балу пренебрежительно обошлась с ним (кажется, обозвала его мальчишкой), за что тут же получила полновесную пощечину. Была предложена дуэль, несостоявшаяся благодаря бдительному и отечески попечительному оку начальства… взамен ему было предложено развлечься путешествием… Целые годы шатался по Европе, осматривая картинные галереи, дворцы, храмы; в Швейцарии карабкался в горы; в Германии слушал лекции и пил воды, кутил напропалую в Париже, в Италии объедался макаронами, в Испании давал серенады под окнами разных красавиц, предложил даже руку и сердце одной черноглазой мадридской булочнице, и когда та, паче чаяния, согласилась, испугался и бежал в Лондон, где зевал в парламенте, в клубах, на скачках… изучал попеременно все языки и ни одного толком не знает… делался то артистом, то художником, то литератором… и, проснувшись в одно прекрасное утро, увидал в зеркале седеющие волосы – и устыдился…
– И принялись за какое-нибудь дело, – быстро спросила Сара, слушавшая его затаив дыхание.
– Отправился добровольцем в Герцоговину, Сара Павловна, – тихо, словно стыдясь, промолвил Коломин.
– Ну и что же?
– Ничего. Пьянство, дебош, грубость, наглость, сброд неудачников, непризнанных талантов, и все это дралось, безобразничало, бахвалилось во имя идеи… Какой бишь идеи – право не знаю, вспоминать противно… Я рад был, когда в одной схватке меня ранили, успокоил совесть и поспешил убраться.
– Вы были ранены?
Голос Сары дрожал при этом вопросе, и она невольно наклонилась к нему.
– О, не вообразите меня героем, Сара Павловна, самая пустая царапина, совсем неинтересная.
– Ну а потом?
– Потом… потом вернулся домой на родину и нашел себя упраздненным. Попробовал служить и не смог… бессмысленно, бесцельно показалось, а может я сам так обленился, что ни на что путное не гожусь… не берусь судить. Словом, я вышел в отставку, уехал в деревню, et – me voila.
– Что же вы теперь делаете?
– Ничего… слоняюсь.
– И вам не стыдно?
Он ничего не ответил. Сара поникла головой и отвернулась.
– Вот вы опять нахмурились, Сара Павловна, а я так радовался, глядя на вас; вы последнее время такая светлая… неужели же вас так удручает моя непригодность? Ей-Богу, напрасно! Не все ли равно в сущности, что одним праздношатающимся на Руси больше. Ну хотите я “возьму в руки пистолет, прострелю им грудь свою”?
– К чему это ломанье, Борис Арсеньич. И отчего это, куда не взглянешь – везде праздношатающиеся… богатые, здоровые, образованные утешаются красивым словом – я, мол, лишний, упраздненный… а в действительности это все та же блаженная обломовщина, наследие доброго старого времени…
Она умолкла, точно сожалея, зачем столько высказала.
– Знаете что, Сара Павловна, – порывисто заговорил Коломин, – попытайтесь из меня что-нибудь сделать, я беспрекословно отдамся в ваши руки… попробуйте.
Он говорил, по-видимому, шутя, но глаза его глядели серьезно, с ожиданием и надеждой.
– Я и из себя-то не сумела ничего сделать, – проговорила она с печальной усмешкой.
– Зачем же такое отчаяние? Я – другое дело, моя песня спета, но вы? Перед вами все еще впереди, вы молоды, прекрасны, образованы, вы можете быть бесконечным источником радости для другого…
– Нет. нет, нет… Борис Арсеньич, я у вас прошу, как милости – никогда не говорите обо мне… мне больно. – В глазах у ней стояли крупные слезы.
– Хорошо, не буду, – сказал он, – только это болезнь… вы выздоровеете.
XXIIГенеральная репетиция и спектакль должны были идти в доме Коломина, как наиболее удобном для вмещения большой публики. Дом был старинный поместительный, построенный еще в блаженное время крепостного права, со всеми затеями прихотливого барства веселой Екатерининской эпохи. Была тут и огромная зала с хорами, и русская столовая с претензией на национальный стиль, пестревшая массивными серебряными ковшами и жбанами, разнообразной мозаикой, шитыми узорчатыми полотенцами, затканными парчовыми занавесками. Дубовые столы, скамьи, всевозможных форм резные стулья с непомерно высокими спинками загораживали все проходы. В угол угрюмо уперлась колоссальная печь, вся исписанная историческими сюжетами, лепившимися друг к другу, не стесняясь хронологией, в трогательном лирическом беспорядке. Рядом с Мамаевым побоищем, например, Екатерина Великая, очаровательно декольтированная, в высокой прическе, танцевала полонез с изогнувшимся в крендель Станиславом Августом Понятовским, а сейчас за ним Петр Первый так гневно размахивал дубинкой на скорчившегося от страха вельможу в напудренном парике, что конец дубинки непочтительно задел за полу кафтана бедного потомка Пястов… Были тут целые анфилады комнат во вкусе всяких Людовиков, с мраморными богинями, гобеленовыми коврами, брюхатыми комодами, бронзовыми часами и низенькими козетками, манившими к интимной беседе; глубокие ниши, казалось, еще хранившими следы поцелуев, которые под снисходительные взоры глядевших со стен маркиз и элегантных пастушек – обменивались украдкой российские Клеонты и Доримены. Были тут и бесконечные длинные коридоры, темные лестницы и девичьи, где те же российские Клеонты осчастливливали своей милостью крепостных Дунек и Глашек, и немало стонов и слез какой-нибудь краснощекой Параши слышали эти немые стены, когда услужливый дворецкий волок ее в сумерки к барину… Все это порядком поистрепалось, облиняло и износилось, представляя как бы надгробный памятник минувшего величия. Борис Арсеньич почти не заглядывал на парадную половину и жил в нескольких комнатах в конце дома, убранных со всеми удобствами современного комфорта. Он, впрочем, собирался уже несколько лет реставрировать свои хоромы, но все откладывалось до более удобного случая и если бы не лакей, напоминавший, что “барин изволили говорить, что на Святках в доме будет театр и что надо бы почистить комнаты” – он бы, вероятно, и это отложил до более удобного случая.
Борис Арсеньич пригласил полковницу Караваеву быть у него хозяйкой вечера, на что та с удовольствием согласилась, чувствуя себя польщенной таким предпочтением. Любители собрались к Коломину очень рано, чтобы еще раз прорепетировать на скорую руку пьесу. Дамы волновались, говоря, что все перезабыли, кавалеры их утешали, уверяя, что нужно только посмелее начать, а там уже все само пойдет, но сами, видимо, трусили и даже бесстрашный “артист в душе”, поручик Конопля, то и дело наведывался в буфет. Борис Арсеньич, возбужденный и весь красный, выходил из себя, умоляя актрис быть поестественнее и не пищать, уверяя, что это совсем некрасиво. Особенно доставалось от него докторше, игравшей в водевиле.
– Зачем вы говорите “ах, мне дурно!” таким тоном, точно собираетесь протанцевать польку! – почти кричал он на нее.
– Да, право же, я не знаю, отчего это так сегодня выходит, – испуганно оправдывалась докторша, – дома у меня так хорошо “дурно” выходило.
Публика стала съезжаться. Все билеты были разобраны. Бедная развлечениями провинция жадно хваталась за случай повеселиться. Первые места занимались, как водится, beau monde’oM[48]48
Элитная публика.
[Закрыть]. Приехала двоюродная тетушка Бориса Арсеньевича, графиня Чернозубова, разлагающаяся важная фрейлина, глухая, богатая и скупая до того, что, не доверяя экономке, собственноручно заваривала чай на два дня. Она двинулась к своему месту, медленно передвигая ноги, едва кивнув головой подбежавшей к ней полковнице, и роняя на ходу свой носовой платок, перчатку, табакерку, которые тут же на лету подхватывала шедшая по ее пятам компаньонка – незначительное коричневое существо. Председатель суда с женой и пятью совершенно одинаково одетыми и одинаково некрасивыми дочерьми – пробрался к своим креслам, с апломбом кидая гордые взгляды на копошащуюся в задних местах мелкую сошку. Прокурор, молодой человек, с удивительно свежим цветом лица, влетел в залу, лихо подкручивая усы, точно говоря: и мы тут не последняя птица. Инспектор врачебной управы, толстый, до отдышки, как только уселся – засопел на всю залу, чем привел в крайнее раздражение свою сухощавую супругу, даму с острым носом и ехидными глазками, которыми она тут же принялась осматривать, как кто одет, и вся позеленела от зависти, увидав в ушах жены модного доктора брильянтовые сережки. Явился, наконец, и начальник губернии, представительный статский генерал, под руку с только что выпущенной из Смольного дочерью – стройной, хорошенькой блондинкой. Сознавая, что он и без шума сила, его превосходительство держал себя скромно, милостиво раскланиваясь направо и налево. Борис Арсеньевич суетился, всех усаживал, сыпал во все стороны комплименты и с беспокойством озирался на дверь, словно ожидая кого-то.
Когда в дверях показалась Серафима Алексеевна, в сером шелковом платье и черной наколке, и рядом с ней свежее улыбающееся личико Оленьки, в целом облаке газа, лент и цветов, – Борис Арсеньич обмер.
– А Сара Павловна? – спросил он таким голосом, что Серафима Алексеевна поглядела на него с недоумением и поспешила сказать, что Сара Павловна прошла с Орочкой прямо в уборную. Он бросился за кулисы и в коридоре наткнулся на Сару. На ней было черное шелковое платье, охватывавшее мягкими складками ее изящную, высокую фигуру; черное кружево мягко оттеняло нежную шею, в темных волосах белела темная роза.
Борис Арсеньевич крепко пожал ей руку.
– Как вы меня напугали! – сказал он
– Чем это?
– Вижу: входят Зубковы, а вас нет; мне представилось, что вы не приехали и я чуть не съел старуху, т. е. у меня, должно быть, был такой вид, потому что она поглядела на меня, как на сумасшедшего… Но, как вы хороши! Боже, как вы хороши! Так и хочется упасть перед вами ниц. Не сердитесь, в моих словах, право, нет ничего оскорбительного… Красота – мой культ, и вы знаете.
– Я знаю, что вы подвергаете меня большим неприятностям, – сказала она и, взяв из другой комнаты картонку, быстро ушла в уборную.
С хором грянула полковая музыка, прогремела увертюра из какой-то оперы, – из какой именно, трудно было определить, благодаря необычайному усердию трубачей и барабанщиков, – взвился занавес, и началось лицедейство. Первые фразы струсивших актеров потерялись в шуме чихания и откашливания усаживающейся публики, потом они, что называется, разыгрались.
Ора Николаевна, нарумяненная, с подведенными глазами и благодетельной ватой, скрывавшей ее угловатую худобу, казалась со сцены положительно хорошенькой. Ее встретили аплодисментами, что ее ободрило, и она вела роль сносно, если не принимать в счет неимоверного закатывания глаз, отчаянных ломаний рук и минорного завывания.
Но Конопля! Ужасный поручик Конопля! Что он только из себя сделал! К щекам приклеил разноцветные бакенбарды, нос выкрасил в малиновую краску, нарисовал на лбу целую географическую карту, словом, ничего не пожалел для искусства: недаром он всех убеждал, что Бочаров – его “когонная голь”. Всего лучше он был в сцене воровства. Лунная ночь (Витинька жонглировал зеркалом, как фокусник) эффектно освещала его растрепанную фигуру, в широком пунцовом халате с длиннейшими, тащившимися по полу кистями. Он сделал два прыжка вперед, произнес громовым голосом “страшно” и отпрыгнул назад. Проскакав таким манером раза три, дабы наглядно представить происходившую в нем внутреннюю борьбу, он залихватски проговорил “была не была” и решился, наконец, смелыми шагами подойти к роковому шкафу, но… о, ужас! Одна из кистей халата зацепилась за ножку дивана, как бы желая удержать поручика Коноплю на стезе добродетели. Он рванул ее – “не поддается шельма!” с неподдельной яростью прошептал поручик и рванул изо всех сил злополучную кисть, но увы! безуспешно. Витинька, увидав критическое положение Бочарова-Конопли, с испугу выронил свечу, произвел лунное затмение и погрузил всю сцену во мрак. В публике послышался сдержанный смех, но тут поручик доказал, что он, прежде всего, человек военный – выхватил из кармана перочинный ножик, перерезал “пгоклятую” кисть и благополучно докончил сцену при громких вызовах, аплодисментах и неудержимом хохоте зрителей.
Водевиль прошел очень весело, и даже докторша так хорошо справилась со своим “дурно”, что лучше и желать было нельзя. По окончании спектакля участвовавшим дамам поднесли букеты. Ора Николаевна с радостной улыбкой бросилась в уборную к Саре и горячо благодарила ее за помощь и хлопоты. Лакеи стали поспешно разбирать стулья, чтобы очистить залу для танцев. Мелкая публика разъехалась, осталась одна аристократия, знакомая между собой и тотчас разбилась на группы. Ора Николаевна, переменившая траурный костюм последнего акта на бальное платье, отделанное сиреневыми ветками, вся еще сияющая и торжествующая вошла с Сарой в залу и села возле матери, скромно выслушивая комплименты. Особенно рассыпался полковник Раздеришин. Ора Николаевна поглядела на него и самодовольно улыбнулась: ей показалось, что он кается в измене. Начальник губернии разговаривал с Коломиным, предоставив дочь попечению графини Чернозубовой.
– Скажите, mon cher Борис Арсеньич, – кто эта дама или девушка в черном платке?
– Какая? – как бы недоумевая, спросил Коломин.
– Вон та, что сидит возле генеральши Зубковой. Да полно вам притворяться, такую красавицу вы бы и в Петербурге заметили – не то что здесь.
– Ах, эта! Это – гувернантка дочерей генеральши, ваше превосходительство. Его превосходительство оттопырил нижнюю губу.
– Дура же эта Зубкова! Вывозить такую… такое чудное создание рядом со своими уродинами.
– Что вы, ваше превосходительство, младшая очень недурна!
– Недурна! – презрительно воскликнул генерал, – Мой дорогой, – я вас не узнаю, провинция испортила вам вкус. Ведь это горничная девка, красные щеки, курносая, tout се qu’il уа de plus vulgaire, а та – настоящее chef d’oevre[49]49
Вульгарная особа, а та – украшение гостиной.
[Закрыть].
Он ловко вскинул на нос pince-nez[50]50
Пенсне.
[Закрыть].
– Какое гордое, печальное лицо! Она не русская?
– Она, ваше превосходительство, дочь французской актрисы и испанского гранда, с явной насмешкой отрезал Коломин, взбешенный бесцеремонностью, с какой генерал рассматривал Сару.
– Oh, oh! Vous-vous fachez, признайтесь, вы уже делали ей un petit brin de cour[51]51
Вы сердитесь, признайтесь, вы уже делали ей комплимент.
[Закрыть].
– Я ее очень уважаю, ваше превосходительство.
Генерал засмеялся.
– Contez cela a d’aitres, mon cher[52]52
Пускай это делают другие.
[Закрыть]. А вот что, ведь эта Зубкова совсем, говорят, нищая; я думаю за двести-триста рублей лишних можно сманить эту красавицу, – дочери моей, кстати, нужна dame de compagnie[53]53
Компаньонка.
[Закрыть]. Как вы полагаете?
– Попробуйте, – холодно ответил Коломин и отошел от него. Музыка загремела вальс; по паркету понеслись пары. Ора Николаевна мчалась в объятиях прокурора, томно склонив головку к его плечу; Оленька кружилась с Раздеришиным. Борис Арсеньич сделал тур с губернаторской дочкой и, посадив ее, подошел к Саре.
– Сара Павловна, подарите мне один тур.
– Я не танцую, Борис Арсеньич.
– В таком случае и я не танцую, – когда мои гости сидят, я не могу танцевать.
– С чего вы взяли, что я ваша гостья? – сказала она, сверкая глазами. – Я здесь только как гувернантка девиц Зубковых. Я не хочу вашего вниманья, – слышите, не хочу, – оно меня возмущает. Коломин не отвечал. Он сидел бледный, пораженный, нервно барабаня пальцем по спинке стула.
– Будь по-вашему, Сара Павловна, – сказал он наконец, натянуто улыбаясь побледневшими губами и поклонившись ей с преувеличенной вежливостью, встал, чтобы уйти. Но в эту минуту к ним подлетела Оленька, вся запыхавшаяся и схватила Сару за обе руки.
– Сара Павловна, душечка, ангельчик, мне нужно вам сказать очень, очень важную вещь. Борис Арсеньич, миленький, сведите нас в какую-нибудь отдельную комнату, – говорила она умоляющим голосом.
– О, должно быть, секрет очень важный, если даже я стал “миленьким”, – сказал, засмеявшись, Коломин, – ну, пойдемте, барышня, пойдемте.
Он отвел их к себе в кабинет и ушел. Лишь только за ним затворилась дверь, Оленька бросилась на шею Саре.
– Николай Иваныч… Николай Иваныч… сделал мне предложение, – выговорила она и залилась слезами.
– Неужели!., что же вы ему сказали?
– Сказала, чтобы он поговорил с мамой.
– Но, Оленька, он ведь, по крайней мере, лет на двадцать старше вас.
– Я его люблю, Сара Павловна, – прошептала Оленька, скрыв свою головку на плече гувернантки.
“Бедная Ора”, – подумала Сара. Она поглядела на Оленьку и не узнала ее. Орошенное слезами побледневшее личико точно осмыслялось, незначительные, расплывчатые черты, преображенные лучом счастья, как-то трогательно светились. – “Вот она настоящая любовь, любовь простого немудрствующего существа!” – промелькнуло у нее в голове, и она стала нежно целовать невесту. Та развеселилась, рассказала Саре все подробности своего романа, выражала опасения, что мама не согласится отдать ее раньше Оры, говорила о своей будущей обстановке и, наконец воскликнула:
– Ах, Сара Павловна, я непременно, непременно хочу, чтобы у Николая Иваныча был такой кабинет, как этот. Посмотрите, что за прелесть!
Кабинет был действительно хорош. Длинная комната из темного дуба с украшенными артистической резьбой стенами, резко отделявшимися от белого потолка, производило несколько мрачное впечатление. Над гигантским камином возносились до самого потолка две художественно вырезанные из дерева фигуры смеющихся сатиров. Тяжелые бронзовые часы с изображением какой-то мифологической группы отражались в узком зеркале камина. Мягкая мебель, крытая темным шагре-нем, турецкие кушетки, низенькие табуреты, столики, украшенные альбомами, в углах статуи и мраморные бюсты… Середину кабинета занимал огромный письменный стол, заваленный целой массой objets d’art[54]54
Предметы искусства.
[Закрыть]. Длинный трехэтажный шкаф с выдвижными стеклянными рамами весь был наполнен разного формата книгами.
– Смотрите, Сара Павловна, все иностранные, – говорила Оленька, – а вот и русские: Бутлеров, Сеченов, Костомаров, никогда не слыхала про таких, а вот и знакомые: Тургенев, Гончаров, Достоевский. Да что же вы не смотрите? Может он даст почитать.
Она быстро обернулась и увидела, что Сара смотрит на какой-то большой портрет, подбежала к ней.
– Батюшки, да это Борис Арсеньич – воскликнула она, – какой же он был красавец!
Портрет изображал прекрасную голову юноши, лет двадцати двух. Темные кудрявые волосы падали на благородный, гладкий лоб; большие задумчивые глаза сосредоточенно глядели вдаль; резко очерченный красивый рот был плотно сжат.
– Как хорош, правда, Сара Павловна?
– Правда, Оленька.
– А это кто, Сара Павловна? фи, какой страшный! – говорила Оленька, перескочив к другому столику.
– Это Иоанн Грозный Антокольского, – сказала Сара, внимательно рассматривая бронзовую статуэтку. Однако, пойдемте, Оленька, мы и так тут засиделись.
Они вышли.
В дверях Сара обернулась и еще раз пристально посмотрела на портрет Коломина.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































