Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
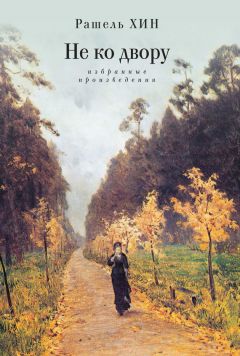
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 36 страниц)
Последние годы Н.И. Стороженко
Николай Ильич Стороженко!..
С этим именем образованное русское общество привыкло соединять представление о знаменитом московском профессоре, ученом исследователе Шекспира, глубоком знатоке литературы… Все это верно. Но ведь это только формуляр!., несколько строчек в энциклопедическом словаре. Те, кому выпало на долю счастье находиться в живом общении с Николаем Ильичом, знают, что, как ни велик его вклад в сокровищницу русской науки, значение его светлой, утешительной личности в жестокую пору нашего безвременья – зверской расправы сверху – голода снизу и трусливой растерянности в центре – было, пожалуй, еще больше. Застенчивый в толпе, уступчивый, даже бесхарактерный в липкой паутине домашнего “жития” – Николай Ильич, когда дело касалось науки, университета, студентов, или – просто человеческого горя – умел быть смелым и сильным. Он не боялся поднимать свой голос одиноко, среди общего безмолвия.
Так, в докладе, составленном комиссией, избранной Советом московского университета в 1901 г., лишь вскользь упоминалось о положении студентов-евреев. Комиссия не рассматривала вопроса по существу, а только упоминала о нем, как о второстепенной причине студенческих беспорядков.
Николаю Ильичу много – и большей частью бесплодно – приходилось хлопотать за молодых людей, перед которыми захлопывались двери учебных заведений только потому, что это были евреи. Каждый такой “случай” повергал его в глубокое уныние.
– Ну, как я “ему” (или “ей”) скажу, – говорил он, тихо вздыхая, – университет мол не для вас… Вы еврей… там дроби какой-то не хватает… Креститесь… Срам.
Николай Ильич не мог помириться с формальным отношением “Доклада” к такому больному вопросу и подал ректору в Совет отдельное мнение, к которому присоединилось еще несколько профессоров, между прочим И.М. Сеченов. Николай Ильич доказывал, что недопущение евреев в университет действует развращающим образом на студентов-христиан, приучая их пользоваться незаслуженно-привилегированным положением. Ректор заметил, что записка никакого практического значения иметь не будет.
– Будет иметь принципиальное, – спокойно возразил Николай Ильич.
– Через сто лет, – прибавил находившийся при этой беседе другой профессор.
– Тем хуже для нас, – сказал Николай Ильич.
Эрудиция ученого в соединении с огромной – вглубь и вширь – образованностью сообщала беседе с Николаем Ильичем тем больший интерес, что она была совершенно свободна от самодовольного педантства, которым так несносны патентованные специалисты.
Скромность Николая Ильича была не внешняя, напускная скромность, за которой так часто таится ненасытное тщеславие. Она вытекала из самых корней его природы. Поэтому она не только поражала, но и заражала других, – создавая вокруг него особенное, высокое настроение – “Я рожден быть секретарем, а не президентом”, – говаривал он со своей милой, чуть-чуть иронической усмешкой: “Только захочу вознестись – а в голову, как нарочно, лезет Карлейль или Тан. Ну и готово! Садись, брат Стороженко, на свое место”…
Николай Ильич совсем не принадлежал к тому типу людей, которых можно назвать “именинниками жизни”. Он не блистал красноречием, не обворожал любезностью и был совершенно чужд тонких, дипломатических талантов, которые помогают их обладателю, не задевая сытых волков, платонически сочувствовать ободранным овцам. И, однако, не было никого, кто, случайно встретившись с ним на жизненной дороге, не отметил бы этой встречи, не почувствовал бы желание остановиться, подойти поближе и пробыть подольше возле этого, на первый взгляд несколько сурового человека, с сократовским черепом и внимательными, озаренными внутренним, тихим светом глазами. В чем же заключалась тайна обаяния и влияния Николая Ильича на людей самых разнообразных классов и видов? Его ведь любили умные и глупые, богатые и бедные (бедные больше), знатные и незаметные, прославленные знаменитости и никому не известные труженики. Мне кажется, что всех влекла к нему небывалая душевная гармония его личности, та пленительная прямота и простота, с которой он подходил к человеку, словно каждый мог его чему-нибудь научить. Он был то, что Шиллер называет eine Schone Seele[342]342
Прекрасная душа.
[Закрыть], а Флобер – une grande nature[343]343
Большой (сильный) характер.
[Закрыть]. Отличительная черта таких натур – неустанный интерес ко всему сущему и какая-то наивная беспечность, с которой они расточают свои душевные и умственные богатства. Ободрить начинающего, поднять дух неудачника, приютить, обогреть, рассмешить остроумной шуткой – на это Николай Ильич был мастер. Обыкновенно собственная печаль заслоняет от нас чужие печали, а Николай Ильич умел радоваться чужой радости и тогда, когда его собственное сердце изнывало от тоски и боли.
На пути дружеских воспоминаний о выдающемся человеке всегда лежит неуклюжий камень, о который трудно не споткнуться. Вместо того, чтобы говорить об ушедшем – “друг” невольно начинает повествовать о самом себе, а это редко бывает интересно. Когда Николая Ильича упрекали за то, что он, знавший столько замечательных людей, не пишет мемуаров, он неизменно выставлял этот аргумент – “Боюсь! Опасная штука, эти мемуары. Начнешь о знаменитом человеке и вдруг: – я мол сам тоже душка. Оглянуться не успеешь, как уж налгал или нахвастал. Вот неудачников моих пристроить – очень бы хотелось”, – прибавляет он, вздыхая и покачивая головой. Заветной мечтой Николая Ильича было написать историю русских талантливых неудачников: Прыжова, своих товарищей Рассадина и Гладкаго. В особенности же его увлекала трагическая судьба одного малороссийского народного ходока. Это был крепостной крестьянин, самоучка, который после всевозможных мытарств, в поисках “за правдой”, отправился в Петербург, дошел до Николая Павловича, очутился в Петропавловском каземате и там пропал. Получив доступ в архивы III-го Отделения, Николай Ильич совершенно случайно набрел на пожелтевшую рукопись – автобиографию злосчастного “искателя правды”, прочитал ее, умилился и стал переписывать, чтобы сохранить этот драгоценный материал. Но болезнь развеяла все планы. Поездки в Петербург становились невозможны, и мечта о “пристройстве” неудачников так и осталась неосуществленной.
Последние 9-10 лет жизнь Николая Ильича была тесно переплетена с жизнью моей семьи. Он любил нас с какой-то торопливой, трепетной нежностью, словно в предчувствии скорой и вечной разлуки… “про запас”, как он выражался. В Москве, пока недуг окончательно не приковал его к креслу – он приезжал к нам почти каждый день. Бывало иногда осенью, погода невозможная, ветер, ливень… Вдруг звонок! и появляется Николай Ильич. Его начинают осыпать упреками за неблагоразумие, за легкомыслие не по летам, а он, потирая руки, суровым голосом, которому так противоречили лукаво-смеющиеся глаза, отражает ворчливой скороговоркой наши упреки: “Верно, все верно. Не надо было ехать… не хотел… ни за что! А бес так и жужжит в ухо: поезжай, Стороженко, поезжай… Ведь с Ваганькова уже никуда не поедешь”… И, несмотря на шутливый тон, всем становилось грустно.
Мы знали, что болезнь его безнадежная, что он обречен… Особенно любил Николай Ильич гостить с Антигоночкой (так он звал свою дочь) у нас в деревне. Эти приезды были для него истинным праздником.
Тихий деревенский дом словно оживал и расцветал. Николай Ильич владел даром вносить с собой светлую, поэтическую атмосферу. Ему это не стоило никакого усилия, потому что поэзия была в нем самом.
Он вставал очень рано и сейчас же, никого не беспокоя, садился за работу. Работал он почти весь день. Зато вечера он посвящал нам. И какие это были незабвенные вечера! Николай Ильич рассказывал об эпохе бо-х годов, о людях, которых мы знали только по книгам, об американских и испанских поэтах, которых и по книгам знают лишь немногие, рассказывал о своей жизни в Англии, читал – и читал превосходно – стихи, которых он знал такое превеликое множество, что нельзя было не изумляться такой памяти. Совершенно счастлив он бывал, когда встречал у нас А.Ф. Кони, которого он очень любил и почитал. У этих двух студентов старого московского университета был неисчерпаемый источник общих воспоминаний. Перед нами, словно живые, проходили фигуры Ник. Ив. Крылова, Баршева, Кудрявцева, Буслаева, Бодянского. Николай Ильич производил по памяти целые лекции своих профессоров. Лекция Бодянского о жизни Иоанна Гуса, перемешанная в самых патетических местах филологическими и историческими комментариями, выходила у него так художественно, что я попросила его записать мне ее в альбом. Не могу не вспомнить любопытного рассказа Николая Ильича о кишиневском начальнике Пушкина, генерале Иванове, которого И.И. в ранней молодости видел в Киеве. На робкие вопросы о Пушкине почтенный генерал снисходительно отвечал: – “Да. Пушкин! Конечно… Он был поэт… острослов… Боюсь, брусничная вода мне б не наделала вреда… ха-ха!.. А впрочем – пустой малый”…
Люди, которых профессия состоит в том, что их слушают, редко умеют слушать других. Николай Ильич не только умел, но и любил слушать. Это чувствовалось. Самые робкие, замкнутые люди беседовали с ним легко о самых сокровенных вещах. Душа его, преисполненная жалью к человеку, скорее всего отзывалась на страданье. Недаром он был историографом поэтов “нужды и горя”. Но аскетом Н.И. не был. Остроумный, находчивый, он обладал чисто малороссийским мягким и безобидным юмором. Любовь, красота, радость, смех чаровали его и в жизни, и в искусстве.
Вероятно, и Шекспир его приковывал тем, что в его необъятном творении – величество и ничтожество, радость и несчастье: все человеческое, земное, а не бесплотное.
Любовь к Шекспиру озарила вступление Н.И. на тернистый путь науки, эта же любовь блеснула ласковым лучом на его печальный закат. Недуг, лишивший его свободы передвижения, оказался бессильным над его мыслью. Эта мысль продолжала работать и с трогательной верностью несла свои последние цветы на алтарь неизменному властителю его дум.
“Вы не знаете, как всякая работа по Шекспиру меня освежает и подвинчивает, – пишет мне Н.И. в январе 1903 г.: – Так как отношение Шекспира к своему времени и обстановке давно уже определены, то мне пришло в голову выяснить отношение Шекспира к главным умственным течениям эпохи ‘Ренессанса’ вообще – и показать, как эти течения изменились, пройдя сквозь фильтр английской жизни и собственного жизненного опыта. Как только эта мысль пришла мне в голову, я сделался ее невольником и, о чем бы я ни думал, я всегда возвращался к ней. Как видите, это ‘влеченье, род недуга’, – с которым трудно бороться. Да и зачем бороться, когда оно наполняет жизнь и помогает легче переносить тоску дней?”…
Русская действительность влила немало отравы в сердце Николая Ильича. Он не был политическим борцом ни по характеру, ни по темпераменту. Но он – был убежденный демократ, выше всего на свете ценил свободу… А между тем, на каждом шагу были расставлены рогатки, и некуда было уйти от унизительного сознания, что приходится из двух зол выбирать меньшее. “Недоразумение с моей несчастной публичной лекцией (пишет он мне в 1899 г.) наконец, разъяснилось. Попечитель требует предъявление ему рукописи лекции. По этому поводу я имел с ним продолжительное объяснение. Оказывается – все произошло от слишком эффектного заглавия моей лекции: “Апостол свободы и гуманности”. На это я возразил, что, назови я ее “Теодор Паркер”, то никто бы не пошел, потому что о Паркере никто ничего не знает. Он с этим согласился, но все-таки попросил меня прислать ему если не лекцию, то, по крайней мере, подробный конспект, прибавив с лукавой улыбкой: конечно, я уверен, что у вас ничего такого не будет, но многое, что для Америки ничего, у нас выйдет того и т. д.
Бедные лакеи! Они сами не знают, что им делать, но знают, что нужно выказать усердие и благонамеренность, и выказывают…”
Наступило незабвенное, солнечное утро 18 октября 1905 г. Москву облетела радостная весть о свободе. Я поехала поздравить Николая Ильича с началом новой русской эры. Я застала у него несколько человек гостей… Он сидел, прикрытый пледом в своем кресле, опустив голову на грудь. Выражение его лица меня поразило: такое оно было строгое, почти суровое… Но губы дрожали от волнения, а из глаз струились крупные слезы. – “Ну, что, старик, дождались мы с тобой”, – сказал М.М. Ковалевский. Слезы полились еще обильнее. Все молчали. В маленькой комнате стало тихо и торжественно.
На гипсовой колонке в углу печально белело изможденное лицо Белинского.
Со стен глядели знакомые портреты: раненый Пушкин, Шекспир, Виктор Гюго, Байрон и красивая молодая женщина с распущенными по плечам волосами.
Подали вино. Мы выпили за русскую конституцию. – “Николай Ильич, вы верите в нее?” – спросил кто-то. – “Хочу верить”, – произнес он. “А как ты думаешь, могут ее взять назад?” – сказал Ковалевский. – “Всё могут”, – ответил Николай Ильич…
Действительность поспешила оправдать слова Николая Ильича. Судьба не была к нему милостива. Он пережил – кровавые декабрьские дни. Какие думы посещали голову старого мечтателя под грохот дубасовских пушек – кто знает!.. Может быть, он вспоминал себе в утешение, что свобода везде добывалась кровью, что и там, в Париже.
Русским ученым часто ставят в упрек, что они слишком разбрасываются, что они малопродуктивны, не умеют защищать свое время и дело от посягательств праздного безделья. Но известно, что “умом России не понять, аршином общим не измерить”…
Там, где элементарные принципы культурного общежития составляют неотъемлемое благо всех – там выдающиеся люди страны отдают работе все время, а часы отдыха проводят в строго ограниченном кругу своих, избранных.
Европейский писатель, профессор, художник имеет приемные часы. К нему можно явиться, лишь предварительно с ним условившись. Он будет корректен, внимателен, даже любезен к посетителю. Но посетитель будет чувствовать, что время Maitre и есть драгоценность, и отнимать у него даром лишнюю минуту этой драгоценности есть варварство.
Европеец будет польщен официальной любезностью Maitre'a, а русский уйдет от него с обидным чувством разочарования. Нам мало корректного отношения от того, кого мы считаем учителем, хотя не величаем его этим титулом ни устно, ни письменно. Нам нужно гораздо больше. Определенно формулировать, что именно – мудрено. Это нечто неуловимое, неведомое, загадочное и всеобъемлющее, – то, что русский человек выражает словом душа. В огромной, нелепой, холодной тюрьме, которая называется Россией, в сущности все арестанты: и тот, кто сидит под замком, и тот, кто его сторожит. Если в этой несчастной тюрьме люди еще не задохлись, то лишь потому, что, по благости Провидения, в этом мраке никогда не угасали светильники этих божьих людей. К ним, к этим родникам духа живого, всегда тянулись жаждущие, измученные русские люди. У них они искали защиты, поддержки, надежды… Русские писатели, поэты, ученые – никогда не были самодовлеющими олимпийцами. Пушкин и Лермонтов, Гоголь, Белинский, Толстой, Тургенев, Достоевский, Герцен, Чернышевский, Грановский… Великие и смиренные, все они – мирские печальники и утешители. Дом русского писателя никогда не был каменной башней на вершине горы. Это был маяк. В беспросветной ночи его огонек мелькал то тут, то там, поддерживая в людях веру, что наступит утро. Таким приветным маяком светился и скромный домик Н.И. Стороженко. В жизни его родных и друзей стало темнее и холоднее с его уходом. Но их должно утешать сознание, что он умер не весь. Живы благородные, возвышенные мысли, рассыпанные драгоценным жемчугом в его произведениях. Живы ученики его, сеятели этих заветных мыслей по нивам родной земли.
Память сердца – самая верная память. Сердце, говорит Бэкон, не остров, оторванный от других земель, но материк, соединяющий земли и народы.
Памяти старого друга
[…] Я знала Кони, как знала его вся русская интеллигенция моей эпохи: знаменитый оратор, председатель петербургского суда, пострадавший за Веру Засулич, автор книги “Судебные речи”, которой все зачитывались…
Я даже видела его раза два случайно, но так мимолетно, что не помнила его лица… И вот, я еду к нему вроде как с “наказом” от его университетского товарища и друга.
Четверть века назад их голоса: одного – с трибуны прокурора, другого – из-за пульта защитника – провозгласили в безгласной России рождение гласного суда…
Когда-то “опальный” защитник Нечаева, Урусов давно отрезвился от иллюзий шестидесятых годов… Другое дело Кони… Обер-прокурор сената, оплот суда присяжных, всеми признанный авторитет…
Было от чего волноваться.
Урусов предупредил его письмом о моем приезде. Кони ответил, что будет меня ждать в такой-то день в и часов утра. Меня встретил в приемной человек небольшого роста, худой, державшийся очень прямо, с бледным, строгим лицом, уже тогда изрезанным характерными морщинами, с внимательным взглядом умных, холодных глаз. Одет он был в аккуратный коричневый сюртук, шею облегал аккуратный стоячий воротничок и тонкий черный галстук бантиком, блестящие манжеты с матовыми запонками, блестящие ботинки… Все такое чистенькое, аккуратное… “Какой чиновник”, – подумала я.
“Пойдемте ко мне в кабинет, там удобнее беседовать, – сказал Анатолий Федорович усталым, мягким, удивительно приятным, простым голосом и продолжал на ходу: – Вчера я был страшно занят, а сегодня освободил для вас – вот столько времени!” – Он широко расставил руки и улыбнулся. Лицо сразу помолодело, стало милое и доброе.
Кабинет говорил за хозяина. Книги в шкафах, книги на полках, книги на столах, портреты с длинными автографами, несколько картин, альбомы, юбилейные подношения, большой письменный стол, диван.
[…] “Вы позволите мне ходить? Мне так много приходится сидеть, что, шагая по комнате, я отдыхаю… Ну, давайте знакомиться”.
Он опять заговорил. Я слушала и думала только об одном, чтобы он не умолкал. Это была не речь, не беседа, а мастерская импровизация. Передо мной, точно в живой панораме, проходила русская жизнь, русские судьбы, русская ширь и русская теснота, наше сумбурное богатство и наша дикая нищета, наша несравненная литература и варварское невежество, изысканный аристократизм и пошлое самодовольство так называемого общества. А надо всем фарисейское лицемерие, расползающееся из петербургских “сфер” и канцелярий по рабской стране. Из разных углов вдруг забили часы. Я вздрогнула.
Анатолий Федорович засмеялся. – “Испугались? У меня несколько часов, и они бьют разом. Я слежу, чтобы они не расходились… Это моя маленькая мания…”
– “А это на вас не наводит тоску, Анатолий Федорович?”
– “Нет. Я очень люблю слушать ‘шаги времени’…”.
Так началось мое знакомство с Анатолием Федоровичем, знакомство, перешедшее в дружбу, выдержавшую все, а порой довольно тяжелые “шаги времени”…
[…] Редкое имя в России – в течение более чем полувека – пользовалось такой популярностью, было окружено ореолом такого обаяния, как имя Кони. Его знали люди всякого “толка”, даже такие, которые, казалось бы, не имели ни малейшего касательства ни к какой стороне его разнообразной деятельности. Конечно, он был знаменитый юрист, оратор, писатель, один из образованнейших людей своего времени… Но ведь это еще не дает власти над сердцами… Какой же дар привлекал к нему, по выражению Владимира Соловьева, “людей всяких вер”?.. Мне кажется, что это происходило от редкого в нем сочетания противоположных сил. Обычно, в результате такого сочетания, получаются изломанные, несчастные характеры, и лишь в исключительных случаях, когда воля подчиняет себе темперамент, оно создает гармонический образ. Преобладающая сила Кони заключалась в уме, – проницательном, аналитическом, холодном, уме не следователя, а исследователя.
Но в этом же уме жил и большой художник, большой артист – и нужна была железная рука, чтобы артист и художник не опрокидывали ума “холодных наблюдений”…
Наивно было бы предполагать, что Кони был чужд “земных страстей”. Он жил на миру, окруженный соблазнами, и “ничто человеческое ему не было чуждо”. “У каждого, – говаривал он, – есть свои собаки; чтобы они не разорвали, надо их держать на цепи”… И он умел их держать. На помощь приходила выкованная в жизненной борьбе воля, огромная работоспособность и всепоглощающее чувство ответственности и долга. А главное, ему всегда было некогда. Он не мог запретить сердцу “пылать” – и оно не раз пылало, но он не позволял ему забываться…
– “Жена… Дети… – вздыхал Анатолий Федорович, шагая по комнате и дымя сигарой. – Это так заманчиво, особенно, когда думаешь об одинокой старости… Но, с другой стороны, на какие 'концессии’ – ради семьи – идут даже очень стойкие люди! Болезни, бедность, взаимное разочарование, озлобление на неудачных детей, в которых супруги обвиняют друг друга… Сколько таких ‘пар’ из Дантова ада мне приходилось наблюдать!.. А ведь и для них была весенняя пора Фета: 'шепот, робкое дыханье, трели соловья’…”.
И все это они давно забыли под пятою будничных забот… “Нет, нет!.. Свободен только одинокий – его ошибки и грехи падают только на его голову…”
Как бы для иллюстрации такой личной независимости, мне припоминается один психологический “момент”, когда даже старые друзья Кони недоумевали, почему он не подал в отставку в ответ на “немилостивые слова”, обращенные к нему после его назначения обер-прокурором сената Александром III. Осуждение людей, которых он любил и уважал, его задевало и огорчало.
Он много раз и всегда с волнением возвращался к этому эпизоду.
– “Думают что я из честолюбия, ради карьеры… Однако! Что меня ждет на старости лет… Жалкая пенсия… Ведь перейти в адвокатуру и через год купить себе виллу на озере Лугано гораздо умнее… Но что-то мешает… Я долго обдумывал: что важнее? мелькать в поле зрения гатчинского глаза, прикасаясь к августейшей руке, или держать в своей руке всю русскую уголовную юстицию… Я решил дело в пользу своей законной жены, “г-жи юстиции”, и махнул рукой на августейшую руку… Этот каламбур пусть останется entre nous[345]345
Между нами.
[Закрыть]”, – прибавил он смеясь. Сила и талант Кони заключались несомненно в живом слове. Он прежде всего был человек трибуны, кафедры, эстрады. Ему, как воздух, нужна была аудитория, и этим, помимо всего прочего, объясняется его любовь к студентам, к молодежи, его всегдашняя готовность, несмотря на бремя обязательных занятий, читать публичные лекции, его неизреченная щедрость, с которой он отдавал свое слабое здоровье и часы отдыха голодающим, курсисткам, врачам, бедствующим литераторам… Надо изумляться универсальности этого юриста по профессии, который в самых разнообразных областях человеческого ума вращался не как дилетант, а как мастер.
Литература и театр были его родными стихиями. Ведь он был то, что французы называют enfant de la rampe, дитя рампы. Мать его – актриса Ирина Сем. Юрьева-Сандунова, совмещала, как полагалось в ее время, амплуа ingenue[346]346
Исполнительница роли подростков.
[Закрыть] и певицы. Отец – Федор Алексеевич Кони, – редактор-издатель литературно-театрального журнала “Пантеон”, был талантливый критик, поэт, автор веселых водевилей и едких куплетов, остряк, навлекший на себя гнев императора Николая Павловича. Когда разразилась Крымская война, “Пантеону” не разрешили перепечатывать из “Инвалида” телеграммы с театра военных действий. Журнал зачах. Семья Кони была разорена, и четырнадцатилетний “Толя”, вернувшись однажды из гимназии домой, нашел всю домашнюю обстановку опечатанной, так что он мог сесть только на подоконник. Чтобы продолжать свое образование после “Аннен-Шуле” во II гимназии, ему пришлось, взамен платы за учение, взять на себя обязанности репетитора в младших классах. Впоследствии на торжественных юбилеях в “Аннен-Шуле” с гордостью упоминалось, что в числе ее именитых питомцев находился Анатолий Кони. Он сам с трогательной благодарностью вспоминал свою немецкую школу, хотя вышел из ее младших классов. Затем, не кончив курса II гимназии, уже 15-летним мальчиком держал экзамен экстерном в Петербургский университет, оттуда, через год, перешел на юридический факультет Московского университета и уж никогда не порывал с ним связи…
Как, однако, ни увлекательна была наука права, пандекты[347]347
Систематизированный сборник извлечений из трудов авторитетных римских юристов, являющийся важнейшей частью римского гражданского права.
[Закрыть]не могли вытеснить из его души первые впечатления “бытия” в атмосфере литературы и театра. Волшебная власть художественных образов, воплощенных в слове, приковала его к себе на всю жизнь. Вот почему он всегда был чужой среди сановников и свой среди писателей и актеров.
Перед Пушкиным он благоговел, называл его величайшим гением России, ее оправданием перед миром. Вся пушкинская плеяда легла в основу его художественной сокровищницы. Путь от Пушкина и Гоголя к Толстому и Достоевскому есть исторический путь русской культуры.
Анатолий Федорович знал лично почти всех “отцов” нашей новой литературы. Мальчиком он видал Некрасова, в доме своих родителей еще во времена “Пантеона”. Свидеться вновь со знаменитым поэтом ему пришлось в начале 70-х годов при исключительных обстоятельствах. Петербург был взволнован самоубийством атташе турецкого посольства, проигравшего огромную сумму компании слишком счастливых игроков. Городская молва называла в числе участников этого дела Некрасова. К Кони – тогда прокурору Петербургского суда – приехал Николай Алексеевич для “частной” беседы о печальном происшествии. Он обстоятельно изложил молодому прокурору свою “систему” игры, заключавшуюся отнюдь не в крапленых картах, а в большом самообладании, отсутствии нервозности и трезвом расчете. Такая “тренировка”, по его мнению, обрекала на поражение терявшего голову и приходившего все в больший азарт противника. С тех пор и вплоть до смерти Некрасова их дружеские отношения не прерывались. Анатолий Федорович не идеализировал Некрасова, но ему нравилась своеобразная, жестковатая фигура певца порабощенного народа, создавшего “песню, подобную стону”. Он бывал у него, знал “Зину”, последнюю простодушную и бескорыстную подругу поэта, с которой он обвенчался на смертном одре и которой посвящены стихи:
Двести уж дней, двести ночей
Муки мои продолжаются,
Ночью и днем в сердце твоем
Стоны мои отзываются…
Верный писателям-“отцам”, Кони принял в свое сердце их детей и даже внуков.
Чехова он ставил необычайно высоко и страшно негодовал на петербургскую публику и Александрийский театр за провал “Чайки”… “Актеры ничего не поняли, – писал он мне, – они не сумели даже подойти к этому великолепному произведению, в котором реально отразился весь трагизм русского сумбура”… Но когда за “Чайкой”, воскресшей в Художественном театре, пришел “Дядя Ваня”, за ним “Три сестры”, и “Вишневый сад” – Анатолий Федорович был умилен.
– “Ваши московские художники – откровение, – говорил он – это рождение нового театра…”
Сбежав из Петербурга от своего, кажется, 35-летнего юбилея, он приехал в Москву и просил в гостинице не прописывать его паспорта, а друзей – скрыть его присутствие в Москве. Как раз в это время пришлось второе представление “Доктора Штокмана”. Анатолий Федорович так и загорелся. – Непременно поедемте, непременно!.. – Достать ложу было почти невозможно. Мы предлагали ему:
– “Напишите Станиславскому или Немировичу. Вас-то они наверно устроят”. – “Ни за что! Надо достать ложу. Вы все сядете впереди, а я спрячусь за вами, как за стенкой…” – Удалось купить даже две ложи – в одной поместились “старшие”, а рядом молодежь. Анатолий Федорович поместился за нами, но во время действия, когда зал погружался в темноту, мы немножко раздвигались, чтобы ему было виднее. Когда Штокман говорил свою речь перед “столпами общества”, я шепнула Анатолию Федоровичу: – “На кого похож Станиславский?” – “На Владимира Соловьева, – тоже шепотом ответил Анатолий Федорович. – Вылитый Владимир Сергеевич, когда он летом снимал свою львиную гриву…” – и мы оба вздохнули.
В антракте Анатолий Федорович не остерегся – выглянул в зал. В театре было много адвокатов. Его узнали, газеты еще утром оповестили, что он уехал из Петербурга от юбилея. Масса биноклей устремилась на нашу ложу. Анатолий Федорович нырнул за спину Николая Ильича Стороженко, да уж было поздно. В ложу к нам вошел В. И. Немирович-Данченко и, несмотря ни на какие отговорки, увел Анатолия Федоровича за кулисы. Его звали актеры – та “побочная” его семья, права которой на себя он никогда не отрицал… С большим интересом и симпатией к его оригинальной личности Кони встретил появление Горького, но гораздо холоднее отнесся к его творчеству… Его смущала дерзкая, самодовлеющая декламация горьковских бунтарей. “Какая разница с Достоевским, – вздыхал он. – Достоевский упавшему в пропасть человеку говорит: ‘взгляни на небо, ты можешь подняться’!.. А босяк Горького говорит: ‘взгляни на небо и плюнь’!..” – Но и тут сказывалось уменье А. Ф. ценить die Sache in sich… [Вещь в себе (нем.)] Когда ему возражали: “А ‘На плотах’?., а “Скуки ради?” – Он одобрительно кивал головой с улыбкой, сразу освещавшей все его лицо: “Ну, это – hors concours”[348]348
Вне конкурса.
[Закрыть], “На плотах” – драгоценная жемчужина, а “Скуки ради” с гордостью мог бы подписать Мопассан“.
Бурное вторжение декадентов сначала оттолкнуло Анатолия Федоровича, прежде всего отсутствием содержания. Он, обожавший проникновенную поэзию Тютчева, просто растерялся.
“Слезы людские, о, слезы людские // Льетесь вы ранней и поздней порой…”
И вдруг, не угодно ли:
“Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, Хочу одежды с тебя сорвать…”
– “Что это? – говорил он, – к чему это поведет? Неприкрытая эротика. Отныне наши лоботрясы совсем распояшутся и начнут почитать себя ‘сверхсвятыми’…”
Но первое ошеломление прошло. Кони вчитался в новую поэзию и отдал ей должное. Богатство творчества, неожиданность образов, мастерство и разнообразие ритма, смелость и динамика в самой фактуре стиха его поражали.
Да и мог разве Анатолий Федорович, любивший жизнь в ее безграничной пестроте, стать “запоздалой тенью”? Конечно, не мог. Каково бы ни было “изнеможение в кости”, он никогда не “брел”, а шел навстречу солнцу и движению “за новым племенем”. Андрея Белого он долго не признавал. Как классический стилист, он не мог примириться с “членовредительством”, которое автор “Северной симфонии” наносил русскому языку. Но после “Серебряного голубя” и особенно после “Петербурга” он его принял и даже находил, что для “хмарного” Петербурга и язык Белого есть самый настоящий.
– “Это уже не литература, а разъятая стихия”, – говорил Анатолий Федорович. Когда я его упрекала в измене старым кумирам, он отшучивался, перефразируя стихи Баратынского: “Что делать. Грешен… грешен”, – произносил он лукавым кающимся речитативом:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































