Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
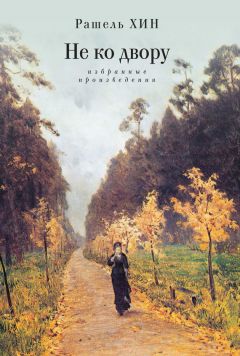
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)
Малютку схоронили. На Сару точно столбняк нашел. Она не раскрывала рта и сидела вся застывшая и окаменелая, вперив глаза в пустую кроватку ребенка. Когда Настя хотела ее вынести, она вцепилась руками в дерево и не дала. Спустя день после похорон, приехала вечером Анна Абрамовна. Пошушукавшись предварительно с хозяйками, она осторожными, робкими шагами вошла к Саре.
– Милая, дорогая, прости, я не виновата; я поздно получила телеграмму, – громко плача, проговорила Анна Абрамовна, бросаясь обнимать Сару.
Сара отвернулась и ничего не сказала.
– Сарочка, скажи что-нибудь, ради Бога. Сара поглядела на не застывшими, как у мертвеца, глазами и глухо промолвила – “поздно”, указав бледным пальцем на пустую кроватку. Анна Абрамовна еще громче заплакала.
– Пожалей меня, – говорила она, всхлипывая, – если даже я виновата перед тобой, так ведь не со злым умыслом: я человек старого воспитания, у меня другие понятия… ведь я тебе добра желала… я много горя в жизни перенесла, Сара, я тебе никогда не говорила… трех детей схоронила, дочь у меня пятнадцати лет уже была. Когда я вас к себе взяла, видит Бог, я хотела вам быть родной матерью. У тебя характер неуступчивый, я вспыльчивая… вот и вышло. Ты не виновата, ты была дитя: думала, что в жизни все должно идти, как по книжке. Я – необразованная женщина, не могла тебе объяснить… требовала, чтобы ты меня слушалась, как я своих родителей слушалась. А сколько я горьких слез пролила, как ты уехала, это только Бог один знает: ведь кроме тебя и Лидочки, у меня никого на свете нет…
Сара все сидела, не шевелясь, отвернув голову.
– Неужели твоя душа так ожесточилась, что ты не можешь со мной помириться? Ну, не ради меня, хоть ради Лидочки, – продолжала, рыдая, Анна Абрамовна и, схватив руки Сары, стала их целовать, обливая слезами. Сара высвободила свои руки, закрыла ими лицо и заплакала.
– Успокойся, дитя мое, не плачь, все еще будет хорошо.
– Нет, тетя, хорошо уже никогда не будет, дайте мне выплакаться.
Сара вдруг совершенно затихла и покорно отдалась в руки тетки.
Та решила немедленно увезти ее в “О”, но как практическая женщина, она, конечно, хотела воспользоваться своей неожиданной поездкой в Петербург, чтобы накупить разных разностей по части туалета, которых в “О”, говорила она, ни за какие деньги не достанешь. Гардероб Сары тоже требовал ремонтировки; это давало Анне Абрамовне предлог таскать ее с собой по магазинам. Желая утешить Сару, она накупила ей целую груду ненужных вещей: кружев, браслет, брошек; говорила без умолку о Лидочке, – какая она прелесть, какая красавица, хозяйка, умница; сообщала всевозможные новости и сплетни, происшедшие в отсутствие Сары в “О”.
– Представь, – рассказывала она, – Поль Розенберг, тот, который за тобой ухаживал, – женился на страшном уроде; говорили, будто миллион приданого, а на самом-то деле оказалось – одни тряпки. Старики просто на стену лезут, что их так поддели, а молодые, говорят, как кошка с собакой живут. Поля мне немножко жалко, хотя он, в сущности, фат и дрянь, но старикам – поделом, пусть не задирают носа.
Сара молчала, а Анна Абрамовна, сев на свой конек, неслась дальше.
– А помнишь, Сарочка, Нейманов?
– Помню, тетя.
– Вообрази, они окончательно разорились. Из такого-то дворца – в две комнаты перейти! Что ж, сами виноваты, жили бы себе тихо; нет, как можно, надо из себя герцогов корчить. Помнишь дочь их Женю – кто ни сватался, всем отказ, хотела, верно, за графа выйти, да забыла, что у евреев есть всего каких-то два-три барона, да и те заняты. Знаешь, за кого она вышла? За подрядчика Абрамсона – противный такой, толстый, старый, имени своего подписать не может… Что значат деньги! Я была на свадьбе. Этот плешивый дурак, Абрамсон, стоит под “хупой” и облизывается, а Женя – вся в брильянтах, а лицо как у мертвеца. Под конец не выдержала. Стал раввин речь говорить и ну расхваливать жениха – и красив-то он, и умен, и образован. Как она захохочет и хлоп в обморок…
– Бедная Женя, – сказала Сара.
– Ужасно бедная! Поехала через месяц на воды и живет себе припеваючи.
Сара откинулась в угол кареты и закрыла глаза.
– Что с тобой, тебе дурно?
– Нет, я только очень устала.
– Крепись Сара, сегодня уедем.
Все, наконец, закуплено и уложено. Извозчики стали выносить вещи. Сара медленно обвела глазами комнату; ее бледные губы задрожали. У дверей суетились хозяйки. Настя, с красным лицом и опухшими от слез глазами, со злостью впихивала в саквояж какой-то никому ненужный чайник.
– Присядемте, – сказала Анна Абрамовна.
Все сели.
– Ну, с Богом, – проговорила она и поднялась. Сара поцеловала Авдотью Петровну и крепко обняла Настю.
– Настя, я вас никогда не забуду.
– Ох, батюшки, что ж это такое! – в голос вопила Настя.
Сара уже сидела в карете, когда Настя опять бросилась к ней.
– Голубушка, напишите хоть когда словечко, – просила она плача.
Сара всю дорогу промолчала, довольная тем, что Анна Абрамовна, разговорившись с пассажирами, оставила ее в покое. На второй день к вечеру приехали к месту. Лидочка, высокая, розовая девочка с пышными золотистыми волосами и в необычайно коротком платье, с визгом бросилась на шею сестре.
– Сара, Сара, тетя милая, как я рада, что вы приехали.
В уставленной темной дубовой мебелью большой столовой трещал огонь. На столе, покрытом белоснежной скатертью, пыхтел на медной доске огромный самовар, красиво пестрели чашки и румяные булки; густые желтые сливки в серебряном сливочнике, масло и обильная закуска придавала комнате приятный, уютно-жилой вид
– Тетя, это я сама все приготовила, спросите Марфу, – тараторила Лидочка, усаживая сестру.
– Сара пей, Сара ешь – говорила беспрестанно тетка.
– Смотри, Сара, сколько я тебе пенок кладу, я ведь помню, что ты любишь пенки, – прибавила Лидочка. Но Сара не может есть. В этой удобной, комфортабельной комнате ей вспоминается ее бедная девочка, умершая чуть не в подвале. Кусок останавливается у нее в горле, и горькое рыданье вырывается из ее груди. Тетка ее утешает. Лидочка всхлипывает и все повторяет:
– Ну, пожалуйста, Сара, ну, пожалуйста…
XIIМедленно приходила в себя Сара. Анна Абрамовна приглашала к ней целую толпу докторов, пичкала ее лекарствами, и если замечала, что в минуту гнева у нее нечаянно вырвется какой-нибудь укоризненный намек на прошлое – она тотчас старалась загладить его усиленно-нежным ухаживаньем. К великому ее удовольствию бедные щечки Сары стали покрываться легкой краской, она сделалась разговорчивее и ласково улыбалась шалостям сестры, которая, казалось, только о том и думала, как бы ее развеселить. Лидочка страстно к ней привязалась.
– Ах, Сара, как я тебя люблю, – говорила она, душа ее в своих объятьях.
– За что это, моя дурочка?
– Ты такая… такая…
– Какая? – улыбаясь, спросила Сара
– Неземная, – патетически вскрикнула Лидочка.
– Не говори глупостей, Лида; не достает еще, чтобы ты сделалась сентиментальной фантазеркой. Где это ты таких слов нахваталась – “неземная!”
– Зачем же ты сердишься, Сара, я ведь не хотела тебя обидеть. Мы в гимназии теперь проходим Корнеля и Расина, и мне кажется, что ты ужас как похожа на героиню.
– Удивительно! Столько же, сколько наша Марфа на Сципиона Африканского. Ты бы вместо этих нелепостей, Лида, лучше занялась чем серьезно. Я как-то заглянула в твои тетрадки и нашла, что ты ужас как безграмотно пишешь. Хочешь, я тебе буду давать уроки, как в былое время?
– Пожалуйста, Сара.
– А не будешь лениться?
– Ну, вот, точно я маленькая! Лидочка, действительно училась очень прилежно. Сара обрадовалась этим занятиям, – они наполняли время и мешали думать. Она с виду почти оправилась, но на бледном похудевшем лице, легло выражение не то равнодушия, не то утомления. Она пыталась несколько раз узнать что-нибудь о муже; попытки ее долго оставались тщетными; наконец ее известили, что муж ее умер от чахотки. Хотя она и привыкла к мысли, что он для нее потерян, но весть о его смерти ужалила ее наболевшее сердце. Так часто поражает как бы внезапностью ожидавшаяся с часу на час смерть безнадежно больного – с физическим уничтожением людям тяжелей всего примириться. Сара не сказала никому о полученном известии, она только еще больше ушла в себя. Глядя, как она ходит взад и вперед по комнате, с резкой складкой между бровями, Анна Абрамовна часто задавала себе вопрос – уж не рехнулась ли племянница? Ей вообще было не по себе с этой молчаливой, странной женщиной, ради которой она старалась сдерживать свои порывы, которые – она чувствовала это – была ей в одно и то же время и родная, и чужая, которая невольно тяготила ее своим присутствием, хотя она бы, конечно, никому, даже самой себе, в этом не призналась. Кроме того, она дрожала, как бы Сара не заразила своими идеями Лидочку.
– О чем ты все думаешь, Сара, – спросит она ее иногда, когда та примется за свое обычное хождение по комнатам.
– Да ни о чем особенно, тетя. Думаю, как мы в сущности все глупы… из-за чего мы столько терпим, бьемся, когда развязка так проста.
– Что ты, Бог с тобою! Если бы все так рассуждали, – и жить бы никто не захотел. Ведь человеку дай только волю, он так заломается, что и не угодишь. Вот хоть ты, Сара, – только не сердись на правду – знаешь, отчего ты страдаешь?
– Отчего?
– От гордости своей, вот отчего. Вообразила, что ты не такая, как все, захотела устроить себе какую-то особенную жизнь, силой захотела взять – вот Бог и наказал: не возвышайся.
– Может быть, тетя.
– Сара!..
– Что?
– Ты… не толкуй ничего такого Лидочке… Пусть она лучше будет счастлива по обыкновенному… Сара посмотрела на нее долгим взглядом.
– Хорошо, тетя, только вы это напрасно, я сама не хочу, чтобы Лида вышла таким уродом, как я.
Прошли зима и лето, опять наступила осень. Сара, казалось, совсем выздоровела и на посторонних производила впечатление очень красивого и холодного существа. Сама она все сильнее чувствовала, что составляет в аккуратном доме тетки чуждый, нарушающий общую гармонию элемент. Она стала подумывать об отъезде. Возвратившийся в это время в Россию m-r Auber, прислал ей отечески-нежное письмо, в котором выражал глубокое сожаление по поводу того, что не смог оказать ей поддержки, когда она в ней так нуждалась. Он предлагал ей место гувернантки у вдовы-генеральши, живущей, как он писал, в одной из больших приволжских губерний. Сара обрадовалась этому предложению и, несмотря на протест Анны Абрамовны, решилась уехать.
XIII– Господа! Пора садиться! Первый звонок… Толпа волною хлынула на платформу, суетясь и толкаясь. Какой-то мастеровой сшиб с ног бабу; она уронила мешок и громко ругалась, собирая свои пожитки. Мокрый снег, смешанный с дождем, падал крупными лепешками с хмурого, точно больного, неба. У купе второго класса стояли красивый старик в меховом пальто с бобровым воротником, дама средних лет, укутанная в бархатную ротонду и хорошенькая девочка, лет пятнадцати, в синей плюшевой шубке и мохнатой белой шапке, повязанной большим платком. Это были m-г Auber и Анна Абрамовна с Лидочкой, приехавшие из “О” проводить уезжавшую в Энск Сару.
Они сбились вместе, силясь протиснуться к окну вагона, из которого она смотрела на них, наклонившись всем корпусом вперед. На ее утомленном лице блуждала слабая улыбка, большие черные глаза, опущенные длинные ресницы, устало смотрели из-под тонких, почти прямых бровей.
– Не скучай, поправляйся! – говорили отъезжающей.
– Пиши чаще!
– N’oubliez pas votre viel ami, mon enfant![35]35
Не забывайте вашего старого друга, мое дитя!
[Закрыть]
– Ax, Сарочка, зачем ты опять уезжаешь! – жалобно вскрикнула Лидочка и, схватив узенькую прозрачную руку сестры, припала к ней лицом.
Та сдвинула брови, губы ее нервно дрогнули.
– Не плачь, – сказала она рыдающей девочке, – ведь ты же мне обещала; будь умница, Лидочка, а то мне еще грустнее станет.
– Хорошо, я перестану, – согласилась Лидочка, – только ты пиши мне отдельно обо всем, обо всем. Уверяю тебя, что я все пойму…
Раздался второй звонок. Анна Абрамовна вошла в вагон.
– Сара, – заговорила она, всхлипывая, обещайся мне, что если тебе там хоть что-нибудь не понравится – ты сейчас же вернешься назад. Как дома ни плохо, а все лучше, чем у чужих.
– Хорошо, тетя, только, пожалуйста, не плачьте.
– Не могу я не плакать, чувствует мое сердце, что из этой новой затеи не выйдет добра. Ведь придет же фантазия идти в гувернантки, точно у нее дома есть нечего, – продолжала всхлипывать тетка.
Племянница молчала. Тетка вынула маленькое портмоне.
– Я положила сюда еще денег, – сказала она, – чтобы ты, по крайней мере, не нуждалась в копейке.
– Merci, тетя, только право, это лишнее, у меня и так много денег. Послышался третий звонок, тетка поспешно выскочила из вагона. Сара опять наклонилась в окно и стала прощаться.
– Adieu, monsieur Auber, тетя, не поминайте лихом… Прощайте все, будьте здоровы… Лида, я рассержусь…
Там и сям раздались звонкие, торопливые поцелуи. Пронзительно взвизгнул свисток, запыхтел локомотив, и поезд медленно тронулся. Сара кланялась, не сводя глаз с провожавших; ей махали платками. Auber с непокрытой головой улыбался грустной, доброй улыбкой. Лидочка рванулась было к вагону, но благоразумная тетка энергически удержала ее за руку. Поезд пошел быстрее. Платформа убежала из виду, замелькали длинные ряды товарных вагонов, в последний раз взвизгнул и замер свисток. Сара отошла от окна, сняла шубку, шляпку, положила в угол диванчика подушку и легла, закинув руки за голову.
– “Опять в дороге”, – вздохнула она и стала рассматривать пассажиров, чтобы ни о чем не думать. Но воспоминания, как нарочно, лезли ей в голову длинной мучительной вереницей. – “Бродячая я, видно, птица”, – решила она, – “то туда, то сюда… так верно и умру где-нибудь в дороге… в ожидании лучшего”. А пассажиры между тем успели оглядеться и разговорились. Две купчихи, – одна в платочке, другая в шиньоне, – по-видимому, родственницы, поставили на диван плетеную корзинку и, вытащив оттуда целую гору пирожков, хлеба, ветчины и яблок, стали кушать.
– Что же вы Лизавета Ивановна дочитывали фельетончик? – спрашивала купчиха в платочке, отрывая зубами огромный кусок ветчины.
– Дочитала, Марья Павловна, еще вчерась, даже всенощную пропустила.
– Чем же кончилось?
– Ах, уж и не говорите, Марья Петровна! Так чувствительно… читаю, а у самой слезы так и бегут. Ведь граф то больше и не виделся с княжной.
– Неужто не повенчались?! – воскликнула, насколько это допускал набитый рот, Марья Петровна.
– Где уж там венчаться! Ведь у княжны то в доме пожар случился: она и сгорела. Узнал это граф, взял да и застрелился.
– Ах!.. Рядом с Сарой какая-то дама, в старомодной собольей шапке с бархатными наушниками, обложенная целой кучей шалей, пледов и платков, всевозможных цветов и размеров, горячо убеждала солидного господина в очках, что у нас все несчастья происходят от чрезмерной свободы.
– Помилуйте, – говорила она, – на что это похоже, какие-нибудь мальчишки заявляют неудовольствие профессору. А отчего это, позвольте спросить?! Оттого, что мы утратили всякое чувство сословного достоинства. Ведь теперь всякий сапожник, да что я говорю – сапожник, – всякий жид норовит своего сына в гимназию сунуть. Можете себе представить – какие примеры такой мальчик видел у себя дома, и вдруг его сажают рядом с ребенком de bonne maison[36]36
Из хорошего дома.
[Закрыть]. Натурально, им должна овладеть зависть: он не имеет ни таких манер, ни вообще той distinction[37]37
Степень отличия.
[Закрыть], которая дается только происхождением. Вот он и начинает мечтать, что поумнее всех, возводить в боги сиволапого мужика, о котором понятия не имеет, и в итоге получается нигилист.
– Но позвольте, сударыня, – возразил господин, – если предоставить исключительное пользование образованием привилегированным сословиям, мы рискуем затормозить прогресс.
– Нет, зачем же, – перебила барыня, вынимая изо рта папиросу, – я и сама не против прогресса, у меня в имении школа, я выписала учителя из Петербурга – не какого-нибудь пономаря, а совершенно приличного. Какой он у меня хор устроил! Выучил мальчишек петь мотивы из Моцарта, но вместе с тем внушает им, чтобы они знали свое место и не забывались. Уверяю вас, все зависит от направления. У меня у самой два сына в университете, тем не менее, они до сих пор, слава Богу, не похожи на семинаристов…
Сара зевнула.
– “Все одно и то же”, – подумала она.
У ней разболелась голова от смешанного гула незнакомых голосов и однообразного подпрыгивания стукающего вагона. Она повернулась на бок и закрыла глаза. Воспоминания беспорядочно вставали и сменялись в ее утомленном мозгу, словно пестрые картины в панораме. Детство… юность… Auber со своей всё примиряющей философией… Адольф Леонтьевич, толкнувший ее неведомо куда и сам сгинувший, потому что назад ему стыдно было идти, а вперед – уменья не хватило… Анна Абрамовна с своими птичьими идеалами и строгим приговором: не возвышайся, живи по обыкновенному… даже Настя, простодушная, милая Настя, и та: “плетью, матушка, обуха не перешибешь”, “особливо нашей сестре жутко приходится”… “Господи, да что же это за хаос такой?! В чем, наконец, мой грех, моя вина… Положим, я не сила, но неужто же одним великанам и жить… и разве я требовала чего-нибудь особенного… Меня ненавидели, я захотела узнать, за что… Нельзя же преследовать две тысячи лет человека за миф. Ну, я – червяк, ничтожество… но ведь это и для червяка бессмыслица… и к чему привели мои порывы? Не успела даже порядком дать себе отчет, чего мне нужно… И баста… не удалось, значит виновата…неумелым нет места за общим столом… не нужно, по крайней мере, ничьих сожалений; уж если умирать – то в одиночку”… Она вздохнула, досадуя, что не может заснуть, и села. В вагоне было почти темно, фонари, задернутые синими занавесками, едва пропускали слабый дрожащий свет. Пассажиры, изогнувшись в дугу, мирно похрапывали на разные лады, издавая по временам тяжелое кряхтенье. Сара прислонилась лбом к холодному стеклу и стала глядеть во мрак. По темному небу тянулись кое-где молочными струйками облака. Поезд быстро скользил по рельсам. Леса сплошной черной тенью мчались мимо в какой-то бешеной круговой пляске. Локомотив извергал целые снопы огненных искр, разметая их сверкающим столбом далеко по воздуху. Одинокие избушки сторожей уныло мелькали то зеленым, то красным фонарем в общей тьме, да жалобно, точно надрывающий душу похоронный вопль крестьянской бабы, взвизгивал свисток, да кондуктора выкрикивали охриплыми голосами названия станций… Сара уже ни о чем больше не думала и все глядела в окно. Наконец, усталые глаза ее стали смыкаться, она опустила голову на подушку и заснула крепким, тяжелым сном…
XIVГенеральша Серафима Алексеевна Зубкова – маленькая, худая старушка, с зачесанными на виски седыми букольками и беззубым ртом, вечно одетая в черное, обшитое плерезами[38]38
Плерезы – траурные нашивки на платье, обычно по рукавам.
[Закрыть], платье, казалось – да и на самом деле была существом весьма незначительным. Привыкшая всю жизнь подчиняться воле мужа – покойный генерал взял ее из купеческого дома и по всякому поводу упрекал плебейским происхождением – Серафима Алексеевна после его смерти совсем растерялась, точно испугавшись, что некого ей будет больше слушаться. Опасения ее скоро рассеялись. Старшая ее дочь, Ора Николаевна – ее собственно звали Ирина, но она находила это имя недостаточно благозвучным и переделала его, – скоро прибрала к рукам мать и весь дом. Это была барышня, перешедшая за роковой тридцатилетний возраст, длинная, высохшая с бледными глазами и какими-то вылинявшими белокурыми волосами. Прическу она носила высокую, взбитую, с поэтическим бледно-голубым бантом на боку. Она вообще любила темные цвета и глазам своим в обществе обыкновенно придавала томное выражение. Часто, впрочем, по свойственной женской натуре непоследовательности, она вдруг изменяла своему предпочтению к меланхолическому и мечтательному, начиная капризничать и наивничать, как институтка. Несмотря на свою поэтическую внешность, Ора Николаевна была, что называется, девица с душком, а по неучтивым отзывам горничных – даже прямо “ехидна” и “змея подколодная”. При жизни отца, она принуждена была сдерживать свои властолюбивые наклонности – покойный генерал был человек крутой и твердо держался принципа, что “яйца курицу не учат”. При отце, впрочем, легче было справляться с собой – и жилось веселее, и надежд было больше. Со смертью генерала обстоятельства изменились: денег он оставил мало, а на пенсию можно было жить очень скромно; от балов и выездов приходилось отказаться или, по крайней мере, ограничить их до ничтожества. Мать, изложив старшей дочери эти резоны, робко предложила переселиться для сокращения расходов в деревню, находившуюся в 20 верстах от Энска и доставшуюся ей после какой-то двоюродной тетки…
– Закопать свою молодость в глуши, – отвечала на эти резоны дочь.
– Да как же иначе, Орочка, ты посуди, если останемся в городе, придется нынешнюю зиму начать вывозить Оленьку, а с двумя вами мне не справиться.
– Вывозить Ольгу! Ха-ха-ха… это мило! Вывозить пятнадцатилетнюю девчонку, которой еще за книжкой надо сидеть. Такие вещи могут прийти в голову только вам, maman.
Maman хотела было заметить, что Оленьке не пятнадцать, а восемнадцать лет, но она благоразумно промолчала и только вкрадчиво проговорила:
– Нельзя знать, мой друг, может быть, как раз в деревне тебе представится хорошая партия.
– Уж не за старосту ли вашего вы намерены меня просватать, – колко отозвалась дочь.
– Ах, Ора, всегда ты так перевернешь все по-своему. Ведь сама знаешь, что при наших средствах нельзя так жить. Нужно Костю в гимназию готовить.
– Отдайте его в уездное училище.
Серафима Алексеевна возмутилась.
– В уездное училище! Моего единственного внука! Сына покойного Андрюши!.. Кажется, тебе не два года было, когда брат умирал, помнишь, чай, как он поручал нам своего ребенка.
– Ну, пошло! – прервала Ора Николаевна и нетерпеливо передернула плечами.
Генеральша вздохнула и замолчала.
– Так как же, Ора, – начала она опять, – ведь так нельзя… Если ты не хочешь, чтобы Оля выезжала – так надо ей учителя музыки взять.
– Еще бы, конечно! Для любимицы найдутся деньги и для учителей, и на выезды, а когда мне нужна шляпка – начинается с утра до вечера нытье: и долги-то и нищета, и чего только не перечтут. Знаю, что вы бы рады меня хоть за дворника сбыть, только бы вашей Оленьке побольше досталось.
– Грех тебе, Ора, так нападать на сестру.
Подобные разговоры повторялись между матерью и дочерью очень часто. После одной из таких бесед, слишком надоевших уж Оре Николаевне, она отчеканила:
– В деревню я не поеду, так и знайте, – и, хлопнув дверью, ушла к себе в комнату.
Комната ее, если можно так выразиться, дышала невинностью. Серенькие, с голубыми и розовыми птичками, обои, на окнах цветы и занавески тоже с птичками. Кровать, покрытая розовым одеялом, в белом чехле, туалет, тоже розовый, с белой кисеей и бесчисленным количеством всяких альбомчиков, коробочек, подушечек для булавок, скляночек с духами, щеточек, гребеночек; тут же под стеклянным колпачком пучек засушенных цветов, перевязанный голубой ленточкой – какой-нибудь сердечный сувенир; на столе симметрично, как на витрине магазина, расположены письменные принадлежности; вдоль стены чинно расставлены стулья и ситцевые табуреты; на висячей шифоньерке красуются Лермонтов, целый год “Русского Вестника”, Евангелие… у образа в углу розовая лампадка.
Ора Николаевна осталась, должно быть, очень недовольна разговором с матерью. Она бросилась на кровать, не откинув даже одеяла, чего она, по своей аккуратности, никогда бы не сделала в нормальном состоянии, и стала задумчиво грызть ногти. Потом она встала, расправила и свернула одеяло, достала из комода книгу и бумажный сверток и опять улеглась. В свертке были конфетки-тянучки, до которых Ора Николаевна была большая охотница, а книга была – “Нана”, Эмиля Золя, до которого Ора Николаевна тоже была охотница. Она совершенно погрузилась в чтение и, медленно посасывая конфетку за конфеткой, забыла, казалось, весь мир, как вдруг раздавшийся внезапно звонок заставил ее вздрогнуть. Она оперлась на локоть и, вытянув вперед голову, стала прислушиваться. Послышалось звяканье шпор и незнакомый мужской голос.
– Кто бы это мог быть, – проговорила Ора Николаевна и села на кровати.
Через мгновенье к ней влетел кубарем Костя, черноволосый, краснощекий мальчик, тот самый которого она предлагала отдать в уездное училище, и, запыхавшись, доложил:
– Тетя Ора, чужой полковник приехал, бабушка приказала вам выйти, – и кубарем же вылетел назад.
Еще через мгновенье к Оре Николаевне вбежала младшая сестра, свеженькая девушка с пухлявым розовым личиком, вздернутым носиком и круглыми испуганными глазками.
– Ора, полковник какой-то из Москвы приехал; мама велела мне одеться.
– Так что ж, одевайся, я ведь тебе не мешаю.
– Да видишь, Ора, мой корсет совсем развалился, я стала его надевать, да второпях и сломала обе планшетки. Дай мне, пожалуйста, надеть твой старый.
– Чтоб ты и мой сломала? Благодарю покорно.
– Ей-Богу не сломаю. Ну, Ора, пожалуйста, дай, прошу тебя.
– Не приставай, – мой корсет на тебя не влезет.
– Право, влезет, – он мне только в груди узок, а в талии даже широк.
– Что?! У тебя, может быть, тоньше моей талия! Скажите, вот новость! Ну, так при такой стройной фигуре можно обойтись и без корсета.
– Ора, дай.
– Отстань, Ольга, не дам.
– Не дашь?
– Не дам.
– Жадная, противная уродина, только и знает, что обжираться тянучками, читать всякие гадости, да делать глазки всем мужчинам.
– Вон, дрянь!
– Сама дрянь. – И сказавши эту последнюю любезность, храбрая Оленька пустилась бежать.
Несмотря на эту маленькую перебранку, обе барышни как ни в чем не бывало вошли в гостиную, в которой Серафима Алексеевна, сидя как на иголках, занимала гостя в ожидании дочерей. Увидав их, она с облегчением вздохнула.
– Полковник Раздеришин, дочери мои Ора и Ольга, – отрекомендовала она.
– Имел удовольствием быть сослуживцем и закадычным приятелем покойного вашего брата, – отрекомендовал себя полковник, звякнув шпорами.
Ора Николаевна грациозно склонила головку и пролепетала:
– Очень приятно.
– Очень приятно, – повторила за ней как эхо, Оленька.
– Вы уже давно в наших краях? – начала разговор Ора Николаевна, с какой-то особенной грацией опирая голову на изогнутую руку.
– Нет-с, недавно. Только вчера приехал. У меня тут недалеко именьице после жены осталось, так вот хочу его привести в порядок.
– Неужели вы намерены поселиться в деревне? – изумилась Ора Николаевна.
– Да, на одну зиму, для сына; он был у меня очень болен, и я хочу его выдержать годик в деревне.
– Но кто же его будет здесь учить?
– Я надеюсь сам с ним управиться. Он ведь у меня еще не очень ученая особа.
Серафима Алексеевна громко вздохнула.
– И я, – сказала она, – хотела бы в деревню перебраться…
– Что ж вы! – подхватил полковник, – и прекрасно, вместе поехали бы. Ведь ваши Дубки недалеко от моей Осиновки.
– Я-то бы душой рада отсюда, да вот Орочка не хочет. Орочка бросила на мать молниеносный взор, который, будь он одарен силой электричества, наверно бы уложил на месте старуху.
– Maman! Как вам, право, не совестно сочинять на меня, – воскликнула она тоненьким голоском, полного очаровательного негодования, – когда же я говорила, что не хочу? Я только сказала, что там трудно достать доктора, а вы так часто хвораете, да вот Ольге придется музыку запустить. А что до меня, вы знаете, что мне все равно, где ни жить. – добавила она несколько горьким тоном.
Серафима Алексеевна широко выпучила глаза; ей, по-видимому, пришло в голову, что, может, она в самом деле не так поняла Орочку. Оленька вся вспыхнула и с ее сложенных сердечком красных губок, казалось вот-вот слетит: – Ах, лгунья!
Полковник крутил усы и улыбался.
– Чего ж лучше! Значит, все согласны; Серафима Алексеевна обещает не хворать (Серафима Алексеевна от радости чуть было не сказала, что она сроду больна не была, да удержалась и только утвердительно закивала головой). Ну а с Ольгой Николаевной действительно затруднительно.
– Я, что ж… я ничего… я и сама могу играть, – краснея и запинаясь, выговорила Оленька.
Серафима Алексеевна совершенно растаяла.
– Зачем же, Оленька, я не хочу тебя лишать музыки; с переездом в деревню расходы сократятся, я выпишу для тебя из Москвы гувернантку. Она и Костю будет учить.
Ора Николаевна кротко улыбалась.
– Вот и чудесно, – сказал полковник, – я свою Осиновку живо устрою, и вы не мешкайте. Эх, какими славными соседями мы с вами заживем! А гувернантку, если позволите, я вам достану через швейцарца, который Саше моему уроки давал, – он знает весь свет.
– Ах, как хорошо, – восторгалась Серафима Алексеевна, – да что мы тут в гостиной сидим? Уж если деревенские соседи, стало быть, без церемонии, пожалуйте в столовую чай пить.
Перешли в столовую. Разговор вел полковник. Он рассказывал о Москве, Петербурге, театрах; сообщил несколько пикантных анекдотов про общих знакомых… Говоря, он исключительно обращался к Оре Николаевне. Такое внимание было ей, видимо, приятно; на щеках ее горели сквозь пудру два яркие пятна, а устремленные на полковника, глаза глядели, казалось, не на полковника, а на бесконечную даль.
– Вы, вероятно, много читаете? – осведомился у нее полковник.
– О, да! Книги, цветы и музыка составляют всю мою жизнь, – ответила она томно.
– А людям, Ора Николаевна, разве вы совсем не отводите местечка в вашей жизни, – спросил с коварной усмешкой полковник.
– Люди… – медленно произнесла Ора Николаевна, – люди меня не понимают. И она презрительно небрежно махнула рукой.
– А вы, Ольга Николаевна, тоже людьми недовольны? – обратился Раздеришин к младшей сестре.
– Добрых люблю, а злых терпеть не могу, – выговорила Оленька.
Полковник засмеялся.
– Как это хорошо, сказал он.
– Ребенок! – снисходительно заметила Ора Николаевна. После чая Раздеришин уехал, пообещав в тот же вечер написать швейцарцу Auber’y о гувернантке. Зубковы остались очень довольны гостем, и даже Ора Николаевна, сделав матери и сестре краткое внушение относительно того, что они не умет держаться в обществе, – была весь вечер очень любезна со всеми.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































