Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
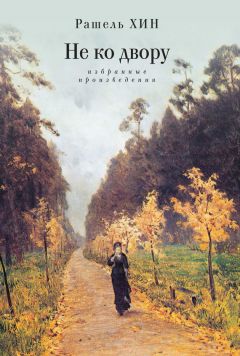
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц)
Услыша такой приговор, Сара бросилась на кроватку и плакала до тех пор, пока не уснула.
IIПрошло около четырех лет. Сара все еще была у m-me Roger. Многое изменилось для нее в это время. Мать умерла от чахотки, через два месяца после ее смерти скончался от удара отец, оставив дела крайне запутанными. Продали дом, лошадей, мебель. Лидочку взяла к себе сестра покойного Павла Абрамовича, Анна Абрамовна Позен, приехавшая из “О”. Она думала увезти и Сару, но потом решила оставить ее еще на год в пансионе для приготовления к экзамену на учительницу. Из здорового, веселого ребенка Сара обратилась в бледную, худенькую высокую, не по летам задумчивую девушку. Смерть родителей сильно повлияла на нее. Она, бывшая душой пансионских проказ, вдруг от всех уединилась, стала прилежно учиться, много заниматься музыкой. Но занятия не могли утешить ее горя, и когда ей становилось особенно тяжело, она забивалась в темный уголок и принималась плакать. Потом в ней произошел какой-то странный перелом. Одна из пансионерок дала ей Евангелие и Четьи-Минеи. Она жадно принялась за чтение и скоро увлеклась им. В ее воображении постоянно носились образы мучеников и мучениц, умиравших за веру среди пыток и костров, и она вздыхала, что не имела счастья родиться в первые времена христианства. M-me Roger смотрела на увлечение Сары как на “grace”[6]6
Блажь, слабость.
[Закрыть], несмотря на то, что в душе относилась к религии довольно хладнокровно, подчас была даже не прочь повольнодумствовать, и хотя в приемной, на столе, у ней красовались “Genie du christianisme” Шатобриана и “Oraisons funebres” Flecher в роскошных бархатных переплетах, она в глубине души предпочитала им Бальзаковскую “Cousine Bethe”. Сара твердо решила принять христианство и, чтобы испытать силу своей веры, налагала на себя добровольные епитимьи. Когда наступала ночь, все кругом засыпало и в длинном дортуаре раздавалось лишь мерное дыхание спящих девочек, Сара осторожно откидывала одеяло и в одной рубашке, босая, опускалась голыми коленями на холодный пол и начинала отмеривать по четкам земные поклоны. О чем она молилась – она и сама не знала, как не понимала печали, наполнявшей ее детскую душу. Из благоговейно приподнятых к образу больших чистых глаз градом катились слезы по влажным, нежным щечкам; пересохшие губы шептали: “Господи, просвети меня, наставь меня на путь истины”. И долго, часто целые часы, простаивала она на коленах, не чувствуя усталости, вздрагивая при малейшем шорохе. Когда завернувшись в одеяло, она снова ложилась в постель, ей казалось, что она испытывает какое-то неясное чувство блаженства и облегчения, и думала, засыпая, что это благодать Божья. Скоро она перестала довольствоваться ночными молитвами и начала поститься, отдавая потихоньку свой и без того скудный завтрак Трезору, прекрасному черному водолазу, общему любимцу пансионерок, говоривших, что Трезор – лучший член семейства m-me Roger. За неимением настоящих вериг, Сара закручивала тесемкой руки с плеча до кисти, выкалывала булавкой на груди имена мучеников. С каждым днем она все более худела. Ее лихорадочно блестевшие глаза обратили на себя внимание m-me Roger.
– Qu’as-tu, та fille? Es-tu malade[7]7
Что с тобой, моя девочка?
[Закрыть]? – ласково спрашивала она ее, зазвав к себе в комнату.
– Non, madame, je n’ai rien[8]8
Нет, госпожа, все хорошо.
[Закрыть], – отвечала Capa, думая в это время, – какая она добрая, как я была несправедлива к ней, а она еще обо мне заботится.
– Не следует так мучить себя, – продолжала m-me Roger, – Господь послал тебе тяжелое испытание, но мы должны покориться Его святой воле.
– Мамочка, дорогая, милая, – начинала рыдать Сара после причитаний наставницы.
– Calme-toi, та pauvre enfant, – утешала eem-me Roger, – vous comme tu es pale. Va vite prendre une tasse de tisane, ea te rechauffera[9]9
Успокойся, мое бедное дитя… ты очень бледна. Выпей-ка быстро чашку чая, и ты согреешься.
[Закрыть]…
Ho “tisane”[10]10
Чашка чая.
[Закрыть] не помогала, и Capa все слабела; к тому же она еще простудилась во время своих ночных бдений, и ее перевели в infirmerie – пансионный лазарет. Девочки приходили ее навещать, но она безучастно относилась к их вниманию и только жаловалась, что m-me Roger отняла у нее все книги. Раз вечером пришел к ней учитель французского языка m-r Auber. Это был старик-швейцарец, лет шестидесяти, высокий, худой и сгорбленный, с белою, как лунь, головой и ясными глазами. Он пользовался в пансионе большой популярностью за свой замечательно кроткий и справедливый нрав, за умение устраивать всевозможные игры, которыми увлекался не менее своих учениц. Он превосходно читал Мольера, часто под праздники являлся в классную, и, спросив учениц – “voulons nous rire ou mediter”[11]11
Вы хотите смеяться или думать.
[Закрыть], принимался, смотря по ответу, или за “Bourgeois gentilhomme”, или за “Misantrope”. Особенною его любовью пользовались маленькие, только что поступившие в пансион девочки. Усадив их в кружок, он по целым часам рассказывал им сказки и, глядя на разгоравшиеся детские глазенки, казалось, вместе с своей аудиторией всецело уносился в чудесный поэтический мир Гофмана и Гримма (зная в совершенстве немецкий и английский языки, он решительно отвергал французскую литературу). В пансионе училась и дочка его, девочка лет тринадцати, которую он безумно любил. Девочка была золотушная и скоро умерла. M-r Auber горько плакал на ее похоронах. Печально бродил он по классам, и когда девочки окружили его, особенно старательно отвечая уроки, он, поглядев на них своими ясными, полными слез глазами и покачав головой, прошептал, как готовый расплакаться ребенок: “c’est bien, ines enfants”[12]12
Хорошо, мои дети.
[Закрыть]. Но его любящая натура не могла существовать без постоянной заботы о ком-нибудь: он скоро усыновил какого-то юнкера и на все доводы m-me Roger о безрассудстве подобного поступка только лукаво подмигивал и улыбался. Сара и удивилась, и обрадовалась, когда к ней вошел m-r Auber. В infirmerie[13]13
В лазарете.
[Закрыть]кроме ее никого не было. Сиделка дала ей лекарство, опустила на лампу зеленый колпак и ушла. Сара лежала в средней кроватке, как раз против тлеющего камина, и ей как-то безотчетно жутко становилось от ряда пустых коек, освещенных зеленоватым светом лампы.
– Eh bien, mon petit chat, comment allons nous[14]14
Ну, моя крошка, как мы поживаем?
[Закрыть]? – спросил старик, усаживаясь в лоснящееся коричневое кресло и, вытащив из кармана сюртука два огромных апельсина, положил на кровать больной.
– Merci infiniment, m-r, et surtout merci d’etre venu[15]15
Огромное спасибо, месье, и особенное спасибо, что пришли,
[Закрыть], – сказала Capa, чуть не плача.
M-r Auber сделал вид, что не замечает ее волнения.
– А ведь я пришел к вам, Сара, с коварною целью отбить практику у доктора Trofimoff. Ко мне ночью прилетела маленькая птичка и сказала мне, что у вас болит: vous savez[16]16
Вы знаете.
[Закрыть], та самая птичка, которая мне сообщает, отчего вы уроков не выучиваете.
– Что же она вам сказала, m-r Auber?
– Oh, elle m’a dit bien des choscs et d’abord que vous etes une malade imaginaire[17]17
О, она мне сказала массу всего, и, прежде всего, что вы не больная, а притворяетесь.
[Закрыть].
– Я?! M-r Auber, это несправедливо, ваша птичка – противная лгунья, и если б она мне попалась, я бы ее задушила.
– Voila des sentiments tres pen chretiens[18]18
У вас чувства вполне христианские.
[Закрыть], – сказал улыбаясь старик, – и все-таки я уверен, что птичка сказала правду. Ну, скажите откровенно, что у вас болит?
– Все.
– Все – значит – ничего, или еще хуже, это значит, что вы поддались чувству слабости, и ничего не делаете, чтобы побороть его.
– Болезни посылает нам Бог, чтобы испытать нас. Люди должны безропотно переносить страдания.
– Кто это вам сказал?
– Господь посылает людям страдания, чтобы они могли сподобиться вечного блаженства, – продолжала она, не отвечая на вопрос.
– Неправда, Бог создал людей для труда, для борьбы со злом; люди, для оправдания своего божественного начала, должны стремиться к торжеству идеала добра, а орудиями к этой великой цели служит наука, свободная человеческая мысль, мужественное, честное сердце, уважение чужих убеждений, – сказал m-r Auber. – Если бы все склоняли, как вы, голову перед горестными испытаниями и ограничивались только тем, что покорно укладывались в постель, – люди бы ушли недалеко.
– Я вовсе не намерена всегда лежать, m-r Auber. Со всем, что вы говорите, я тоже согласна, только мне кажется, что вы не назвали главного орудия спасения – религию. Вы разве неверующий?
– Dieu rn’en preserve, chere enfant[19]19
Упаси Бог, дитя мое.
[Закрыть]! Я гляжу на чудеса природы, любуясь закатом солнца, а там, на моей далекой прекрасной родине, просиживая целые часы на берегу нашего чудного озера, я научился преклоняться перед Творцом вселенной… Но тому, что в общежитии считают религией, т. е. той массе обрядов, внешних приемов и названий, которые все, конечно, имеют свое историческое основание, – я придаю мало значения.
– Нужно веровать, а не рассуждать.
– Нет, дитя мое, это ложно; Господь дал человеку разум именно для того, чтобы он не принимал все на веру.
Сара оперлась головкой на руку и несколько минут пристально глядела на m-r Auber’a.
Не думала я, что вы такой… – сказала она в замешательстве.
– Какой? – спросил старик.
– Не знаю, как вам сказать: я считала вас настоящим христианином и думала, что вы так кротко перенесли кончину маленькой Marie, что верите, что она стала ангелом и что вы после смерти с ней свидитесь. Я вот никак не могу забыть maman. Я решилась принять христианство, но меня мучит мысль, что она умерла еврейкой.
– Отчего же это вас мучит?
– Оттого, что она не будет в раю.
– Гм… Скажите, Сара, кто вам втолковал эту идею о принятии христианства?
– Никто, M-r Auber, я сама.
– Этого быть не может. Постойте, года два тому назад здесь была короткое время одна ученица, Серафимова; une tete exaltee[20]20
Экзальтированная особа.
[Закрыть]… Она, кажется, имела на вас влияние.
Сара покраснела.
– Она мне только дала Евангелие и проповеди и сказала, что евреи прокляты Богом, но что от этого проклятия можно избавиться крещением.
– Вы с ней с тех пор не видались?
– Нет, но я знаю, что она поступила в монастырь.
– Ну, не совсем в монастырь, – я ее недавно слышал в опере. Она пела, и даже недурно, хотя по отзывам знатоков, из нее ничего особенного не выйдет, – спокойно сказал старик.
– Неужели это правда? – воскликнула Сара.
– Как же! Можете сами убедиться. Выздоравливайте скорее, и я упрошу m-me Roger взять вас в театр. Но отчего это вас так удивляет? Я не нахожу в этом ничего дурного.
– Это нехорошо, я этого от нее не ожидала, – проговорила Сара. – Впрочем, это не касается христианства, – оно выше еврейства.
– А вы, Сара, хорошо знакомы с иудейством?
– Нет, m-r Auber, я знаю только, что евреев все презирают, знаю также, что они Христа распяли.
– Qa c’est encore un problem a resoudre[21]21
Это проблема, которую еще нужно разрешить.
[Закрыть], – усмехнулся старик.
– А вот ренегатство, по-моему, очень некрасивая вещь. Вы говорите, что евреев все презирают. Кто же это все, – христиане?
– Конечно.
– А ведь по христианскому учению следует даже врагов любить. Как же это?
Сара молчала.
– Ведь христианство – это религия мира и любви, правда?
– Да, да…
А вы вот уже проходили среднюю и новую историю.
Вспомните-ка, сколько бесчеловечного варварства было совершено во имя этих пресловутых мира и любви.
– Но ведь в первые времена христианства язычники мучили христиан, а они выносили все пытки и муку, оставаясь верными учению Спасителя, – возразила Сара.
– Это, положим, так. Но зато, когда христиане приобрели силу, они в свою очередь принялись убивать и жечь не только тех, кто исповедовал другое учение, но даже и своих единоверцев, осмелившихся не соглашаться с тем или другим отцом церкви. Костры инквизиции, по-моему, ужаснее костров Нерона: эти прямо зажигались во имя силы, а не принципа общечеловеческой любви.
– Это в самом деле было ужасно, – прошептала Сара. – Так, по-вашему, еврейство лучше? – продолжала она.
– Этого вопроса, мой друг, я не берусь решать, потому что его, по совести, никто решить не может. Но я того мнения, что если мы родились в какой-нибудь религии, то изменить ей мы можем лишь в том случае, когда, по основательному изучению ее, мы придем к заключению, что она не может нас удовлетворять. Вы, Сара, принадлежите к великому народу. Ни одно племя не может похвалиться такою грандиозною и вместе трагическою историей, как иудейское, которое дало человечеству столько великих людей, независимых, гениальных мыслителей, пламенных патриотов, несравненных поэтов. Послушайтесь, милое дитя, выкиньте из вашей молодой головы всякие религиозные крайности, познакомьтесь с историей вашего народа, читайте не Четьи-Минеи, а великие общечеловеческие произведения, и, прежде всего, будьте человеком.
Девушка слушала его бледная, сосредоточенная, и, когда он встал, чтобы уйти, она схватила его за руку своей дрожащей рукой и спросила:
– M-r Auber, вы придете завтра?
– Приду и принесу вам кое-что.
На следующий день он действительно пришел, принес старую потрепанную книгу и стал читать. Книга была “Натан Мудрый”. Сара ни разу его не прерывала. Когда он кончил, она, вся заплаканная проговорила с улыбкой:
– “Wohl uns, den was mich euch zum Christen macht, macht euch mir zum Juden”[22]22
“В чем я кажусь вам Христианином, в том самом вы мне Евреем кажетесь!” (перевод В.С. Лихачева).
[Закрыть] – и горячо поцеловав руку учителя, промолвила:
– M-r Auber, вы правы, – я постараюсь быть такой, как вы говорите.
– C’est bien, mon enfant[23]23
Хорошо, дитя мое.
[Закрыть], – ответил m-r Auber, – будь же умница и выздоравливай скорее.
Прошел еще год. Сара превратилась в цветущую изящную красавицу. Она сдала экзамен при университете, получила диплом учительницы и вся, казалось, кипела молодой жаждой начать скорее жить. Хотя тетка ей не особенно нравилась своими резкими манерами, ничем не смущаемым апломбом, крикливым голосом, – тем не менее, она обрадовалась ее приезду, так как с ним осуществлялась, наконец, ее мечта – покинуть пансион. К тому же ей очень хотелось видеть сестру. Она строила воздушные замки о том, как она будет ее учить, как будет стараться заменить ей мать, и просила m-r Auber’a указать ей всевозможные учебники.
Старик ей советовал не увлекаться воображением, а лучше приготовиться к неудачам.
– Да я ведь никаких особых планов не строю, m-r Auber, – отвечала Сара. – Мои желания так скромны: буду ушиться сама, ушить сестру, какие же тут могут быть неудачи? Разве вот тетка… Сказать откровенно, не нравится она мне что-то. И все-таки я ужасно рада, что уезжаю отсюда. Господи, до чего надоел мне пансион! Пять лет безвыездно, да это хуже всякого института. Иной раз так хотелось раздвинуть эти стены и посмотреть, что там делается в широком, вольном мире. Я часто задумывалась в последнее время о таком воспитании, как наше, и мне кажется, что оно никуда не годится. Ну, скажите, пожалуйста, что мы знаем о жизни! Я еще, благодаря вам, что-нибудь хоть читала и то ведь книга – одно, а живая жизнь – другое. Да вот вам пример: недели две тому назад, как раз возле нашего сада открылась мелочная лавка. Мы стали потихоньку бегать к решетке, посмотреть, как покупают. M-me Roger узнала о наших путешествиях и строго настрого запретила их. Но страх быть пойманной и наказанной ни на кого не подействовал, и мы бегаем туда по-прежнему. А что же мы там видим особенного?.. Входит какой-то человек: дайте мне, говорит, огурцов на три копейки, да таких, которые не плюются. Мы хохочем. Кухарка соль рассыпала, – мы опять хохочем. Настоящие божьи коровки.
– Воспитание в закрытом заведении, конечно, оставляет многого желать и не может сравниться с воспитанием в родной семье, – замечал старик на жалобы молодой девушки, – но, к несчастью, хорошую разумную семью можно встретить очень редко, а таких, которые способны загубить в молодой душе все благородные задачи – не оберешься. Берегитесь предъявлять жизни слишком большие требования, дитя мое, иначе вас ждет много разочарований.
Сара уехала с Анной Абрамовной в “О”. Ей с первых же дней не понравилось в новом доме; не то, чтобы тетка была к ней строга, напротив, она ничего не пожалела, чтобы доставить племяннице удовольствие. Приготовила ей прехорошенькую комнату, надарила целую кучу разных ценных безделок и нарядов, но Сару как-то безотчетно леденил холодный блеск ее светлых глаз, ее сухой, не допускающий возражения тон, ее высказывающаяся на каждом шагу мелочность. Сестру свою Лидочку, которую Сара оставила избалованной шалуньей, она нашла спокойной, степенной девочкой, очень мило и чисто одетой. Тетка, по-видимому, любила ее, часто ласкала и даже баловала. Но чуть только она была не в духе, или просто стоило кому-нибудь рассердить ее, как она обрушивала на Лидочку целый поток брани, упрекала ее в неблагодарности, в лени непослушания, придиралась к ее работе, заставляла двадцать раз перепарывать какой-нибудь рубец. Лидочка довольно терпеливо переносила эти вспышки, стараясь угодить тетке, но когда все старания ее ни к чему не приводили, она запрятывалась в дальнюю комнату и начинала тихо плакать, утирая глаза кулачком. Эти тихие слезы мгновенно смиряли сварливую Анну Абрамовну. Не желая, однако, ронять свой авторитет открытым объяснением, она начинала заговаривать с девочкой издалека, предлагала ей идти гулять, дарила ей игрушку. Лидочка охотно сдавалась на дипломатические подходы тетки и через час забывала все свои горести. Тем не менее, она чувствовала несправедливость подобных нападок; не имея сил защищаться, она их молчаливо сносила, но зато, несмотря на баловство тетки, никогда к ней сама не ласкалась, и было заметно, что она ее сильно побаивается.
Совсем другое дело было с Сарой. Она не замедлила стать в открытую оппозицию к Анне Абрамовне. Предлог к неудовольствию представился вскоре после приезда. Увидев, что Сара особенно старательно запечатывает какой-то конверт, Анна Абрамовна подошла к ней и спросила своим отрывистым голосом:
– Кому ты пишешь?
– Я пишу m-r Auber’y, тетя, – вы его знаете.
– Покажи письмо.
– Не могу, тетя.
– Не можешь показать, что ты пишешь этому старому болвану?
– Он не болван, а очень хороший человек.
– Ты не можешь судить, кто хороший человек, кто нет: молода слишком. Так ты не дашь мне письма?
– Нет.
– Отчего?
– Оттого, что я не люблю, чтобы мои письма читались не теми, кому они адресованы.
Анна Абрамовна вся вспыхнула от этого ответа.
– Как вам это нравится? – обратилась она к воображаемым слушателям: – она не любит… важная особа, ей не нравится! Да кто ты такая, а? – накинулась она прямо на Сару, – червяк, девчонка, которую я взяла из жалости. Ты, может быть, думаешь, что отец оставил вам миллионы! Дай Бог мне столько тысяч, сколько долгов он оставил…
– Тетя!..
– Если бы не я, вы бы обе на улице валялись, – кричала Анна Абрамовна, ничего не слушая.
– Тетя, ты упрекаешь нас своими благодеяниями, это неблагородно, – в свою очередь крикнула Сара.
– Что? Благодеяние? Кто говорит о благодеяниях? Я исполняю свой долг! – еще громче закричала Анна Абрамовна, совершенно забывая, что сейчас только говорила о жалости. – Вы дети моего брата, я отвечаю за вас перед Богом и перед людьми, я должна следить за вашей нравственностью… А ты – дура, ты должна слушаться старших, а не рассуждать, не говорить дерзости. Ты думаешь, тебе семнадцать лет, так ты уже большой человек! Меня еще в эти годы секли… – и, выхватив у ошеломленной девушки письмо, Анна Абрамовна быстро вышла из комнаты.
– Это гадко! – с отчаянием взвизгнула Сара.
Рыдания сдавили ей горло; она сердито хлопнула дверью и убежала.
Несколько дней обе стороны дулись. Сара не выходила из своей комнаты. Анна Абрамовна не найдя в письме ничего особенного, – Сара писала только, что никак не может освоиться с новым положением, что тетка добра, что она вспыльчива, что сестру она нашла запуганной и т. д., – сожалела, что слишком погорячилась. Видя, что племянница не торопится приносить повинную, она отправила к ней парламентером Лидочку. Когда Лидочка вошла к сестре, то нашла ее лежащею на постели с красными щеками и красными опухшими глазами.
– Сара, – робко начала девочка, – попроси у тети прощения.
– И за что?
– Да ведь она на тебя сердится.
– Я сама на нее сержусь.
– Ах, Сара…
– Ну что ах, чего ты ко мне пристала? Тебе, верно, дали конфетку, чтобы ты меня усовестила… Личико девочки вспыхнуло, она с упреком взглянула на сестру и закусила губки, чтобы не расплакаться. Саре сейчас же стало стыдно. Она вскочила с кровати, притянула к себе Лидочку и стала ее целовать.
– Прости меня, милочка, не сердись, я так расстроена, что сама не знаю, что говорю. Ах, Лидочка, бедные мы с тобой.
Лидочка разрыдалась.
– Не плачь, моя дорогая, – чего ты? Я ведь пошутила, ну, полно; вот увидишь, как мы славно заживем. Хочешь, я тебя буду ушить? Ты у меня вырастишь умницей, хочешь?
– Хочу, только помирись, пожалуйста, с теткой, а то она тебе не позволит меня учить.
– Хорошо, Лидочка, я посмотрю, только, ради Бога, не реви.
Чтобы ввести племянницу в общество, Анна Абрамовна дала бал. Собрались так называемые сливки. Сара была очень эффектна в своем воздушном белом платье. Роскошные черные косы, перевитые пучками ландышей, падали ниже колен, оттягивая назад ее красивую маленькую головку. В больших глазах и то вспыхивавшем, то пропадавшем румянце горело детское любопытство и какой-то смутный страх. Ей казалось, что на нее все глядят, что все знают, что она недавно вышла из пансиона и не умеет себя держать, – и она совсем растерялась от этой мысли: не смела улыбнуться, не смела прислониться к спинке стула. Особенно мешали ей руки: она положительно не знала, куда их девать, ухватилась, наконец, за висевший у ее пояса веер, стала его вертеть и вертела, пока не сломала. Тут она совсем обмерла. Веер был теткин и очень дорогой. Она позабыла в одну минуту и гостей, и бал и только думала о том, как ей выйти из беды. Это маленькое несчастье обошлось, впрочем, без всяких прискорбных последствий. Анна Абрамовна очень довольная удавшимся балом, почти не обратила внимания на злополучный веер и только заметила, что в другой раз надо быть осторожнее. Последующие дебюты Сары были благополучнее. Она перестала бояться и с увлечением отдавалась всем представлявшимся удовольствиям – танцевала целые ночи напролет, каталась верхом, слушала комплименты, участвовала в благотворительных концертах и спектаклях и скоро заняла в “О” место первой красавицы. Тетка с гордостью ее вывозила, сияла при виде восторженного поклонения, встречавшего повсюду племянницу, и таяла от наслаждения, подмечая злобно устремленные на нее взгляды маменек перезревших дочек. Одевала она Сару скромно (скромность эта стоила, впрочем, очень дорого), но, увы, Сара все же не осуществляла ее тайных надежд: она только веселилась, а о настоящей победе в смысле выгодной партии, по-видимому, даже не помышляла.
Мало помалу, Саре стали надоедать эти постоянные выезды. Первый чад прошел. Наступила скука, а вместе с ней наступили размышления. Ей вдруг опротивела эта постоянная выставка. Она вдруг точно прозрела и увидала, сколько лжи, обмана и лицемерия, злобы и зависти, грубости и алчности скрывалось под масками добродушия, доверчивости, любви к ближнему…
Вот, например, m-me X. Она, кажется, слышать не может равнодушно о голодных, сирых и убогих. Она известная благотворительница, председательница нескольких филантропических обществ и приютов. Как она тонка, перетянута, прозрачна, какие у нее чудесные кружева – совсем неземное существо. С ее бледных губ, точно вздох, слетают слова – “мой приют”, “в заседании нашего общества”, “кройка”, “мастерские”, “ремесленные классы”, “Ах, какую дивную статью я прочла в “Revue pedagogique”, или “какую чудную речь о женском вопросе сказал Каро!” “Я, ведь, посещала его лекции в “College de France”.
Саре очень нравилась эта дама, пока она не увидала как-то утром у тетки оборванную женщину, жестоко ее бранившую. Всего больше удивило Сару то, что тетка ее, всегда встречавшая м-м X с нежными лобзаниями, теперь заодно с гостьей честила ее на чем свет стоит. Оказалось, что оборванная женщина ни больше, ни меньше, как родная тетка аристократической м-м X, которая тщательно скрывала это компрометирующее родство перед светом, отделываясь от слишком назойливой тетушки филантропическими подачками в виде поношенных платьев, старых шлепок и т. д.
– Верите ли, – рассказывала тетушка, – у меня зимой Саша с Анютой в скарлатине лежали, так она за все время дала мне пять рублей и обтрепанную юбку…
А вот господин У., красноречивый адвокат с вечной улыбкой на румяных устах. В голодные дни студенчества он был обручен с прелестной девушкой, надорвавшей всю грудь над шитьем, уроками и переводами, чтобы как-нибудь помочь возлюбленному окончить курс. Возлюбленный курс окончил, окреп, потолстел, обзавелся практикой и… женился на барышне с богатым приданным. И все его одобрили. Анна Абрамовна, посвящая Сару в “0”-скую общественную хронику, заметила по поводу этого случая: “вольно же ей, дуре (т. е. обманутой невесте) было верить”.
А как мил жирненький подрядчик Z. с своими масляными глазками, с зачесанными a la Capoul лоснящимися волосами и целой грудой брелоков на толстом брюхе; коротенькие красные пальцы его унизаны перстнями; на пухлом носе глубокомысленно торчит золотое пенсне. Он глуп, пошл и необразован; но это не беда. К нему льнут хорошенькие женщины, почтенные мамаши за ним ухаживают, наперерыв стараясь обратить внимание на своих юных цветущих дочерей, – на, мол, батюшка, выбирай. И все это обезьянничанье, это вечное стремление казаться русским, французом, англичанином и только из великодушия считаться евреем… Как это все вдруг опротивело Саре. Она с отчаянием задавала себе вопросы: – неужели нет ничего лучшего, неужели это все, и так оно должно быть?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































