Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
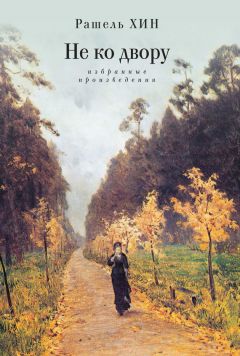
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
– Да, – промолвил он – наконец, весь ужас положения именно в этой деморализации, в этом цинизме… Людей нет. Мелкота… ни ума, ни образования, ни таланта – одни вожделения, и те мизерные. 30 лет назад лапотник прокладывал через дремучий бор железную дорогу и обращался в барина. В этом был творческий полет мысли. А теперь! Вчера – ученый муж, сегодня – редактор продажной газеты, завтра – пламенный защитник католицизма, послезавтра – биржевой заяц и, наконец, – международный шпион.
Он встал, прошелся по комнате, потом опять сел и запустил руки в свои седые волосы.
– Знаешь, я боюсь с ума сойти. Я не могу жить без веры в красоту человеческого духа, а кругом все рушится, все рушится…
– Ну, Борис Моисеич, если уж вы труса празднуете, то что же нам, пессимистам, остается делать?
Он помигал глазами.
– Укатали, брат, сивку крутые горки, – промолвил он, и вдруг умиленным голосом прибавил: – а помнишь Бибочку? Как она была хороша! Если ты когда-нибудь ее встретишь, скажи ей, что она была единственная женщина, которую я любил. Я благодарен ей за это чувство, и никогда на нее не сердился. Это тебе мое завещание, – сказал он шутливо.
– Разве вы собираетесь умирать?
– Может быть, – ответил он, загадочно усмехаясь.
– Борис Моисеич, – начал я строго, – вы больны, вам надо лечиться. И прежде всего вон из этого гнезда! Поезжайте за границу.
– Ладно, ладно, друг. Обо всем этом мы еще потолкуем. А теперь – на покой. Я устал, да и тебе надо отдохнуть.
Он отвел меня в мой номер, и мы расстались.
Утомленный с дороги, я крепко заснул. Не знаю, сколько времени я спал, но вдруг почувствовал, что упал в бездну. Я с усилием раскрыл глаза. Кругом было темно и тихо. Я лежал по-прежнему на кровати и скоро опять заснул. Я поднялся едва рассвело, оделся и пошел к Зону. Дверь его была заперта. Это меня почему-то удивило. Я постучался. Ответа не последовало. Должно быть, еще спит, подумал я и, не желая его будить, пошел бродить по городу…
Около бульвара, в конце площади появилась женщина в платке и безобразной рыжей накладке, которая закрывала ей половину лба и ушей, и стала раскладывать на лоток бублики. Я купил у нее несколько штук и побрел назад в гостиницу. Меня не покидало смутное чувство беспокойства.
Комната Бориса Моисеича была по-прежнему заперта, и на мое громкое приглашение проснуться – он не отозвался. Я был уже настолько встревожен, что позвал коридорного. Тот ударил кулаком в дверь и крикнул:
– Сударь! Отопритесь!
Ответа не последовало.
Пришел хозяин, незаметно выползли из своих номеров другие жильцы… Явился полицейский чин. Дверь взломали. В кресле, совершенно одетый и закинув назад седую голову, Борис Моисеич спал непробудным сном. Одна рука лежала на груди, другая была опущена вниз… На ковре у ног блестел небольшой револьвер. На правом виске чернела маленькая ранка, крови почти не было.
Открытая записка и большой запечатанный конверт на мое имя лежал на столе. В записке стояли казенные слова: “в смерти моей прошу никого не винить” и распоряжение относительно вещей и денег.
Мне он писал следующее:
Милый друг мой,
Прежде всего, прости, что я так бесцеремонно взваливаю на тебя возню с мертвым телом, но мне было бы слишком тяжело исчезнуть, не повидавши тебя, с которым связано столько воспоминаний моей жизни. Мне хотелось в твоем лице проститься со всем тем, что я любил. Почему я ухожу? Отвечу на это по чистой совести: я боюсь впасть в отчаяние.
Ты знаешь, что у меня не было личной жизни в общепринятом смысле, т. е. жены и детей, этого приюта, куда укрывается человек в непогоду. Было время, когда я об этом жалел, но теперь не жалею. Я был бы еще несчастнее, если бы в страхе за собственные деревья, принудил себя не видеть, что за ними падает лес. Я верил и верю, что свет прогонит мрак, но я не герой, не философ, не артист, словом, – не избранник, который может уйти от толпы в свой особенный мир. Я средний человек, аноним, а главное, я стар и болен. Пытки могут вырвать у меня стон, хулу, отречение от того, что я считаю правдой, и я решил спасти себя от этого позора. Наши общие друзья считают меня фанатиком еврейства. Это заблуждение. Я смотрю на евреев, как бессознательных борцов за свободу духа – и никто, быть может, так пламенно, как я не мечтает о том дне, когда исчезнет самое слово – еврей. Это будет, когда человек скажет человеку: “брат мой, молись, как душа твоя жаждет”. И в этот благословенный день измученный Агасфер положит свой тяжелый посох. Прошу тебя и всех, кого я любил, – не карайте меня за то, что я выбываю из строя. Вы молоды, сильны, для вас будет сиять солнце ХХ-го века… Будьте же бодры! Идите вперед. А что теперь жутко, – так что же с этим делать! Вспомните наш бедный северный сад в осеннюю слякоть. Дождь затопил дорожки, холодный ветер побил цветы, по желтым листьям ручьем бегут слезы, лилии поникли головками и розы побледнели в предсмертной тоске… Кажется все, все погибло. И вдруг из-под кучи размытого песку и черной земли, на которой, словно кровь, алеют лепестки мака, выглянет каким-то чудом уцелевшая маленькая, свежая маргаритка и шепнет: “не грусти – весна придет, весна придет”… А меня не жалейте: пусть мертвецы хоронят мертвых…
Устроились
Очерки из жизни незаметных людей
Привычка свыше нам дана,
Замена счастию она.
Пушкин
…Обед приходил к концу. Игнатий Львович Дымкин, упитанный, рослый блондин с лысиной, круглым бритым лицом и слегка выпученными глазами, угощал своего университетского товарища и закадычного друга, доктора Воробейчика, который из далекой провинции приехал в Москву на Пироговский съезд. Приятели не виделись лет двенадцать и теперь, несмотря на обоюдное желание, никак не могли взять настоящий “тон”.
Хозяин был радушен, ласков, даже слишком ласков, точно извинялся: – я, мол, хоть и столичная знаменитость, но посмотри, как мил и прост. Гость чувствовал “генеральское благоволение” и ежился. Особенно смущала его хозяйка, очень нарядная дама в модном платье с рукавами в виде раздутых парусов. На вид ей было лет сорок пять. Маленькая, косоглазая, толстая, с широким, плоским лицом, черными и курчавыми, как у негра, волосами – она, казалось, вот-вот задохнется от туго стиснутого корсета. Говорила м-м Дымкина тоненьким голоском в нос и поминутно бросала на мужа кокетливые, нежные взоры. С гостем она была автоматически любезна: скучно ли в провинции, много ли он нашел в Москве перемен, и очень удивилась, узнав, что он никогда не был за границей.
– А мы с Джоном каждый год ездим, – сообщила она. – Прошлое лето он работал в Лондоне, а позапрошлое – в Вене. Я всегда с ним. Он без меня тоскует, и я не решаюсь отпускать его одного. Помните, милостивый государь, как вы вздумали укатить в Париж самостоятельно (она лукаво подмигнула мужу)… И поплатился за свою храбрость, захворал… А вы, доктор, такой же хороший семьянин, как мой Джон?
– Об этом нужно спросить мою жену, – отозвался Воробейник, и его сумрачное худое лицо с тонкими острыми чертами осветилось едкой усмешкой. Он пытливо взглянул на приятеля и с удивлением заметил, что у него был какой-то пристыженный вид. “Эге, голубчик, трусишь” – не без злорадства подумал Воробейник.
Подали шампанское. Хозяин постучал ножом о свой бокал и встал.
– Этот съезд, – начал он, торжественно простирая левую руку к огромному дубовому буфету, – этот съезд в память гениального учителя… вокруг его имени… великое дело. Здесь не место говорить о научных трудах, которые… которыми так блестят заседания съезда, но, господа (Игнатий Львович задумчиво посмотрел на потолок), – есть и другая сторона вопроса, сторона интимная, но не менее важная! Друзья, которых беспощадная действительность толкнула на разные тропинки усеянного терниями жизненного пути, друзья, которые не видались десятки лет, опять сошлись, опять увидались, вспомнили свою alma mater. Тут Игнатий Львович остановился. Видно было, что он хочет сказать еще что-то, но наплыв чувств мешает ему продолжать. Он тяжело вздохнул, чокнулся с приятелем, любезно поклонился жене и с достоинством осушил свой бокал.
Воробейчик тоже встал.
– Я, брат, не мастер говорить, – произнес он суховатым тенором, – а потому, позволь попросту: здоровье твоей жене… твое. Спасибо за гостеприимство.
После обеда мужчины перешли в кабинет пить кофе. Игнатий Львович нарочно провел Воробейчика через гостиную, которую тот еще не видал. Чего только не было в этой гостиной! Веера, картины, майолики, лампы под зонтиками, статуэтки, фарфоровые уродцы, китайские вазы, японские ширмочки, подушки на полу, подушки на диванах, низенькие кресла, медвежьи шкуры, столики, этажерки, альбомы… Вся эта благодать была расставлена по моде, то есть так, что шагу нельзя было ступить, не зацепив за что-нибудь.
– Это базар жены, – небрежно проронил Игнатий Львович, довольный произведенным впечатлением. – Пойдем ко мне, там уютнее, – и он ввел гостя в большую комнату, всю заставленную книжными полками, тяжелой, обитой темным сафьяном, мебелью, электрическими машинами, рефлекторами. Средину кабинета занимал огромный письменный стол с внушительной бронзовой чернильницей, микроскопом и целой кипой бумаг. Со стен смотрели портреты европейских знаменитостей с более или менее подлинными автографами. Гипсовый бюст Пирогова белел с высоты библиотечного шкапа, а в углу, как раз насупротив того кресла, на котором Игнатий Львович принимал пациентов (Игнатий Львович был гинеколог), красовался на мольберте поясной портрет Сканцони, с протянутыми вперед руками, как бы благословляющими доктора Дымкина на служение страждущему человечеству. Воробейчик был уничтожен этим великолепием. Он закашлялся, заморгал глазами, и на душе у него заныло – не то, чтобы от зависти, а от какого-то неопределенного печального чувства.
– Н-да, – пробормотал он, – это уж того… стиль… – и, немного оправившись, прибавил: – Ну, а “инквизиция” у тебя где? Ведь мы в захолустьи венскими стульями обходимся, а у тебя, небось, целые сооружения.
– Как же, – с усмешкой сказал Дымкин, – самые патентованные, из Лондона привез, – и, отдернув бархатную портьеру, показал рукой на узкую, длинную комнату, где стояло кресло на винтах, с подножками и подушками, трюмо и белоснежный мраморный умывальник.
– Удобно! – похвалил Воробейчик. – Я всегда говорил, что ты парень с головой. Эти ковры, портьеры, бронзы да журналы на разных языках… ох, как это действует на больных! У тебя как – такса? – спросил он и в чуть заметной вибрации его голоса прозвучала ирония, – та ирония, которою неудачник утоляет горечь сердца, в которой слышится и сознание собственного превосходства, и легкое презрение к баловню “слепой фортуны”.
Дымкин обиделся.
– Как ты мог думать! – возразил он. – Такса!.. И потом, душа моя, это штука обоюдоострая. Объявился тут у нас, было, один молодчик из “ранних” и вздумал вывесить в приемной записку: “консультация от 10 до 15 рублей”. А какая-то не в меру остроумная больная и припиши карандашом: “это pri-fixe[216]216
Устойчивая цена.
[Закрыть], или можно торговаться”? И наделала, братец мой, эта фраза такого шуму, точно ее выпалил Бисмарк, а не шальная бабенка. Совсем извели человека. Другой не от 10 до 15, а прямо сто целковых за “погляденье” хапает, да еще юродствует: стой перед ним на манер идола… И ничего – стоят!.. Во всем нужно счастье… А что до меня, то я никогда и не взгляну – положила что-нибудь больная или нет.
– Одно слово – бессребреник, – расхохотался Воробейчик, хлопнув приятеля по плечу: – за простоту твою и посылает тебе Господь.
– Все такой же, – добродушно заметил Игнатий Львович: – вечно острит и язвит, словно все перед ним виноваты. Ты даже и по внешности не особенно изменился, – продолжал он, обводя долгим взглядом небольшую фигуру товарища, его взъерошенную голову, его красивое смуглое лицо с пронзительными изжелта-карими глазками и резкой линией рта. – Только, вот, бороду ты отпустил напрасно.
– Пациенткам нравится, – сказал Воробейчик, поглаживая жиденькую рыжеватую бородку. – За недостатком других прерогатив…
– Полно тебе дурачиться, – прервал Игнатий Львович. – Лучше расскажи о себе. Ведь ты как в воду канул. Двенадцать лет ни слуху, ни духу. Усаживайся-ка на диван, бери свое кофе и начинай. Тебе что: папиросу или сигару?
– Давай папиросу. Спасибо. Только (Воробейчик отхлебнул несколько глотков из чашки) ты уж меня извини, мне решительно не о чем повествовать. Науки я не двигаю, капиталов не наживаю и с голоду не плачу. Другое дело – ты. Тебе есть чем похвалиться. Ergo[217]217
Следовательно.
[Закрыть], я вешаю свои уши на гвоздь внимания. В дверь постучались, и вслед за этим в кабинет вошла хозяйка, шурша светлым шелковым платьем, вся в оборках, кружевах и бриллиантах. На ее широком, плоском лице и жирной апоплексической шее, обвитой двойной ниткой жемчуга, лежал толстый слой пудры. В курчавых, высоко подобранных на макушке и тщательно растрепанных на лбу, волосах, колыхалось красное страусовое перо, приколотое золотыми шпильками.
– Джон, – зашепелявила она, – я распорядилась, чтобы вам подали холодный ужин. Ты только позвони. Пожалуйста, доктор, вы только напомните ему, он так рассеян! Поверите, когда он увлечется, он совсем забывает, что человеку нужно пить и есть. Ах, что бы с ним было, если б не я!.. – воскликнула мадам Дымкина, улыбаясь и обнажая редкие желтые зубы. – А я уезжаю, – продолжала она: – сегодня у моих родственников вечер по случаю помолвки дочери. Блестящая партия, невеста богата, красавица, воспитывалась за границей… Жених – юрист, но теперь ведь это не имеет значения, и она, конечно, никогда бы за него не пошла, если б он не был единственным сыном богатых родителей. Тетя будет недовольна, что Джон не приехал, но я постараюсь это загладить. Парадный бал еще впереди.
– Ты, пожалуйста, не стесняйся, Игнатий, – начал Воробейчик и поднялся.
– Вздор, сиди, – возразил хозяин: – я бы и так не поехал. У этих милых родственников тоска смертная.
Жена нахмурилась.
– Это, однако, не мешает тебе с ними играть в винт до утра, – заметила она колко.
– Поневоле будешь играть, когда там не с кем по-человечески слова сказать.
– Очень тебе благодарна, что ты так рекомендуешь мою семью. Не понимаю, почему ты сегодня такой сердитый. До свидания, доктор. Джон, я уезжаю, хочешь помириться? – произнесла она тоном водевильной ingenue[218]218
Театральное амплуа наивной простодушной девушки.
[Закрыть] и поднесла ручки к устам супруга. Тот поцеловал, и она, нежно улыбаясь, вышла из комнаты, распространяя за собой приторный запах Peau d’Espagne (испанской кожи).
Некоторое время приятели сидели молча. У хозяина был сконфуженный вид; его холеное, цветущее лицо как-то сразу вытянулось и потускнело. Воробейчик попыхивал папиросой и немилосердно теребил свою тощую бородку. Вдруг произошло нечто неожиданное. Игнатий Львович вскочил с дивана и, подойдя вплотную к Воробейчику, положил ему на плечи свои сильные руки. Тот с изумлением поднял на него взоры.
– Слушай, – заговорил Дымкин: – я тебе тут расписывал свою удачу, свое довольство, свое умение… Ну, так знай! Все это хвастовство, ломанье, ложь!.. Эти ковры, мягкие диваны, шелки и бархаты, которым ты позавидовал – не отрицай: позавидовал – я заметил! – это куплено такой ценой, что если бы не человеческая трусость и подлость, я бы сегодня же плюнул на весь этот “стиль” и пошел камни разбивать на улице. И теперь вру!.. Не пошел бы…Вид ел ты эту толстую бабищу, которая называет меня “Джон” (он с яростью передразнил голос жены)? Она купила меня себе в законные мужья, повезла за границу, сделала из меня “ученого” и сразу поставила на ноги, что в нынешнее развратное время считается ведь верхом благополучия. Я ей кругом обязан и даже жаловаться не могу: она бережет меня и лелеет, как свою вещь, и хотя я давно с избытком вернул ей все, что она затратила на мою персону – она считает меня своим неоплатным должником. Стоит только, чтобы ей показалось, что я не в достаточном восторге от своего ярма, как она преспокойно – кричать и вообще “расстраиваться” она не любит – напоминает мне, что без нее, при всех моих способностях, я был бы ничтожным лекаришкой. Она на десять лет старше меня и требует, – при такой-то физиономии, – чтобы я был не только влюбленным, но и ревнивым мужем. Эгоистка страшная. Например, я умолял ее взять на воспитание ребенка – хоть бы одно чистое создание было в доме (в прошлом году здесь умерла несчастная женщина, моя пациентка, и оставила сиротку – хорошенькую, как ангел, лет трех). Ни за что! “Разве тебе мало меня? – говорит: – я для тебя жена и ребенок”… Каково?!.. – Ты меня давно знаешь, я мягкий человек и со мной можно ладить. Но иногда, поверишь ли, я просто… желаю ей смерти… Сам себя упрекаю, стыжу и мечтаю, как мальчишка, мечтаю об освобождении… Нет, голубчик, хоть я и не знаю в какой дыре ты прозябаешь, но в сравнении со мной – ты во всяком случае счастливец.
Воробейчик улыбнулся и, заложив руки за спину, принялся шагать взад и вперед по комнате. – Вот оно что! – произнес он с расстановкой. – Правда, видно, что “в самой сочной груше скрыт червяк”. И разыграли мы с тобой, друг единственный, Щедринских мальчиков! – Ну, скажи откровенно, за сколько ты “свою душу продал”?
– За пятьдесят тысяч… И деньги-то плевые! – с горечью воскликнул Дымкин. – Это не то, что какая-нибудь московская купчиха, которая за свой каприз миллионы платит.
– Та-ак, – протянул Воробейчик. – Ну, а я свою даром отдал… и не по благородству, а просто надули… – И это бы не беда, – прибавил он: – а беда в том, что мы, евреи, ужасно бестолковый, легкомысленный народ, и только дураки могут верить в наш ум и нашу практичность. – Вот хоть меня взять!.. Но лучше я тебе расскажу по порядку. Если б ты в самом деле был “сокол”, как мне показалось, – я бы не стал перед тобой изливаться. Но теперь, когда я знаю, что ты такой же общипанный гусь как я, отчего же не поделиться с другом сердца…
Надо тебе сказать, – медленно начал Воробейчик, не переставая ходить по комнате, – что после университета я мыкался лет пять с места на место. За отсутствием других блестящих качеств, я несомненно обладаю одним – никогда не был дураком и на собственный счет не обманывался. Это вовсе не значит, чтобы я был какого-нибудь уж особенно низменного мнения о своей особе. Зачем же! Такое смирение ведь паче гордости. Но я отлично знал, что я хоть и не дурной лекарь, и смекалкой меня Бог не обидел. Но то – что называется: человек серый. К тому же рост, фигура, “маска” (он провел рукой по лицу)… все это имеет значение не только на театральной, но и на житейской сцене, словом, о карьере вольнопрактикующего столичного врача и помышлять мне нечего. Это я решил сразу. А пропадать с голоду в “центре” только потому, что постом там поет Мазини… для этого нужно быть исключительным меломаном… Конечно, если бы в моем дипломе рядом с именем Семен не стояло в скобках: “Симхе” – разговор был бы иной. Были бы мы и прозекторами, и бактериологами, и порядочными клиницистами – не боги ведь горшки обжигают… – Ну да что об этом толковать– дело известное… Впрочем, законопатить себя сразу где-нибудь в Шавлях у меня все же не хватило духу, и несколько месяцев я проваландался в меланхолических надеждах: авось мол… вдруг… чудо. В это время умер мой отец. Имущество после него мне досталось только движимое: мать, сестра и брат. Самое еврейское наследство. Долго тут рассуждать не приходилось. Устремился я в грады и веси, попросту стал пытать счастье в Мозыре, Слуцке, Пинске, в чаянии, что меня поддержат единоверцы – и совершенно напрасно. Промаялся я этаким манером годика четыре, пока судьба не бросила меня в Загнанск. И тут мне повезло… то есть, работая с утра до ночи, я могу жить, посылать матери и даже недавно выдал замуж сестру. (Брат уехал в Америку). Долго описывать Загнанск не стоит. Город такой же, как и все уездные города. Водится там и общественный сад, и каменная тюрьма, и речка Гнилушка, с которой, конечно, открывается самый живописный вид, и знаменитый монастырь, и прогимназия, и банк, из которого кассир утащил шестьсот рублей, и даже корреспондент. Население состоит из поляков, нищих евреев и русских чиновников. “Цвет общества” представляют офицеры квартирующих там полков. Но, вообще говоря, все элементы живут врозь. Поляки высокомерно держатся в стороне от “кацапов”, и все вместе презирают евреев, только поляки – ласково, а русские грубо. Я попал туда во время холерной эпидемии. Тут уж не до кастовых перегородок. Ничто ведь так не сливает воедино панскую кровь с “холопской”, как страх и безденежье. Недаром говорится: кеды беда, то до жида. Очутился я, понимаешь сразу везде и у всех, а когда гроза прошла, я был уж у всего города и на пятьдесят верст кругом у помещиков – своим человеком. Русские находили, что я нисколько “не похож”; полякам было приятно, что я все-таки “жид”, а евреям импонировало, что я говорю по-русски как “полковник”. Так я и застрял в оном Загнанске. Квартиру я нанял у часовщика-еврея, три комнаты за десять рублей в месяц. Часовщик – его звали Вольф – был вдовец и жил вдвоем с дочерью, Диной, которая вела его несложное хозяйство. Когда я у них поселился, Дине было лет восемнадцать. Дикарка она была ужасная, однако прехорошенькая. Настоящая роза Сарона… высокая, стройная как пальма, с янтарной кожей и профилем камеи; над низким лбом целый лес иссиня-черных волос, бархатные брови, тонкий с чуть-чуть заметной горбинкой нос, полузакрытые пушистыми ресницами черные глаза, длинные, влажные и покорные, пунцовые губки… Одним словом, картина. Глядишь, бывало, как она ходит по комнате, стряпает, раздувает самовар, причем ее розовые ноздри трепещут, как у породистой арабской лошадки, смотришь на ее проворные, смуглые, нервные руки, мелькающие по грубому холсту рубашки, и думаешь: “как это ты, красавица, вместо берегов Иордана попала в Загнанск, на берега речки Гнилушки”?..
– Да ты поэт, Воробейчик! – воскликнул Игнатий Львович, – вот не ожидал!
Воробейчик усиленно затянулся папиросой. – Дорого, брат, я за эту поэзию заплатил, – промолвил он. – слушай дальше. Это только присказка, сказка будет впереди. Ну-с, чтобы долго тебя не томить, скажу, что Дина скоро перестала меня дичиться, и мы с ней подружились. Она выучилась звать меня по имени отчеству: Семен Михайлович, а не “пан-доктор”, как звала вначале. К тому же я лечил ее отца от различных недугов, и это нас еще больше сближало. Вольф был славный, тихий старик, глубоко убежденный, что все скорби Израиля есть только выражение самой нежной любви Всевышнего к своему избранному народу, что тот, кто потопил фараона, может поразить своей карающей десницей даже исправника, и твердо верил, что мессия придет… рано или поздно. В ожидании этого блаженного дня, он, однако, очень интересовался политикой, и, когда по вечерам читал газеты, с улыбкой говорил: “ну, пан доктор, расскажите нам тоже, что слышно на свете” (сам он хоть и разбирал русскую печать, но с трудом). И вот, представь, привязался я к этому старику и его милой девочке, как к родным. Едешь, бывало, верст за двадцать с практики и знаешь, что уж меня ждут, что Дина выбежала с фонарем на крыльцо, торопливо спросить: “проголодались, устали, озябли”? и сама снимет с меня пальто, принесет обед, заварит чай… Ни малейшего намека на ухаживанье или на роман не было в наших отношениях. Мне это, право, в голову не приходило, а она была слишком первобытна, да и смотрела на меня как на высшее, недосягаемое существо. В свободное время я учил ее грамоте. Читать и писать она выучилась изумительно быстро, и нужно было видеть, с каким восторгом, с каким благоговением эта взрослая девушка твердила грамматику, переписывала басни. Эта идиллия продолжалась около двух лет. Я чувствовал себя превосходно, много работал, в квартире у меня царил образцовый порядок… Я понемногу устраивался, купил по случаю кое-какую мебель, выписал несколько медицинских журналов, стал подумывать о докторском экзамене, завел фрак… Белье мое всегда вычинено, носки заштопаны, носовой платок на месте. Я знал, что об этом заботятся милые и проворные руки Дины, и находил это вполне естественным. Когда я выезжал в “свет”, то есть в дворянский клуб, или на бал в офицерское собрание, или на именинный пирог к пациенту-помещику, она же с приветливой улыбкой щебетала: “Посмотрите какая сорочка! я сама гладила, ни у какого магната не может быть лучше. Ну, веселитесь хорошенько”. – Я смеялся и на другой день рассказывал ей, что и как там было, с кем я танцевал, о чем разговаривал… – Не обходилось у меня, конечно, без нескольких легких интрижек с уездными дамами, которые, к слову сказать, ох, какие мастерицы концы прятать. Но этими победами я перед Диной не хвастался. От этой простой, необразованной девушки веяло такой целомудренной чистотой, что не только вольное слово, но даже и вольная мысль в ее присутствии показалась бы мне несообразностью.
– Говоря попросту, ты втюрился как болван в эту золушку, – прервал Игнатий Львович.
– То-то и есть, что нет. Можешь себе представить, что я не видел в ней женщину… то есть, такую, в которую можно влюбиться, на которой можно женится. А почему?.. Потому что не умела коверкать французские слова (как будто я сам в этом что-то смыслю!), не знала, что такое физика и педагогика (и на кой черт все это нужно?), не слыхала, что на свете есть симфонии и сонаты, хотя сама была воплощенная симфония. Словом, в ней не было ничего похожего на ту смесь обезьяны и попугая, которой имя: еврейская образованная барышня.
– Ну, милый друг, это ты уж того… через край… – запротестовал Дымкин: – есть прелестные…
– Конечно есть, знаю без тебя… да не про нашего брата они, настоящие-то прелестные. А провинциальные девицы, среднемещанского круга, пребывавшие в гимназии, с перетянутыми талиями, взбитыми на лбу гривками, в шляпах, длинных перчатках и пенсне… Это отрава, бич, чума!..
– Насолила тебе, должно быть, здорово подобная девица, – заметил Дымкин.
– Еще бы не насолила, когда я сам, по собственной воле, женился на таком уроде
– Н-ну! как же это ты?! – воскликнул Игнатий Львович, у которого точно отлегло от сердца с той минуты, как он узнал, что и приятелю не посчастливилось.
– А так!.. – Воробейчик глубоко вздохнул. – От судьбы не уйдешь. Надо тебе сказать, – начал он после небольшого молчания, – что и в Загнанске блаженствует несколько “почтенных” еврейских семейств. Но я избегал там бывать, ибо тоска непреодолимая. Тон в этом аристократическом кругу всегда задавала одна из моих пациенток, м-м Цыпкина, вдова подрядчика, уже немолодая. Женщина она не глупая, читает русские и немецкие книжки, бывала за границей, т. е. ездила раза два в Карлсбад и, вообще, держит себя “дамой”. Вот эта-то госпожа и вздумала принять во мне участие. Однажды она мне говорит: – А вы, доктор, все у Вольфа квартируете? – Я даже удивился. – Конечно, говорю, а где же?.. Она скривила губы и спрашивает: – А что вам больше нравится – квартира или хозяева? Я засмеялся. – И то, и другое. Комнаты, говорю, у меня уютные, а хозяева – прекрасные, добрые люди, обращаются со мной как с родным. М-м Цыпкина пожала плечами.
– Может быть они и в самом деле мечтают породниться с вами! Что вы – плохой жених для дочери часовщика? Кого же еще надо? Губернатора?..
– Уверяю вас, что ни о чем подобном не думают.
– Ну, это позвольте вам не поверить. Я больше вас жила на свете и лучше знаю людей: этот Вольф – хитрая штука. Кстати, доктор, мне рассказывали, будто вы эту девушку выучили читать по-русски, и она теперь по целым дням читает романы. Правда это?
– Неправда, – возразил я: – не романы, а всеобщую историю и путешествия, и не по целым дням, а в свободное от хозяйства время.
– Но зачем вы ее учили?
– Затем, что это милое, чрезвычайно способное и доброе существо. Заниматься с такой ученицей – удовольствие. М-м
Цыпкина покачала своей длинной головой. – Гм… а вы не подумали, что это для нее несчастье? Я поглядел на нее с недоумением.
– Конечно… прежде она бы вышла замуж за длиннополого фактора и была бы довольна, а теперь она на такого и глядеть не захочет.
В этом была доля правды. Я вспомнил как решительно Дина отвергала всех женихов – и почувствовал смущение. М-м Цыпкина заметила это и повела на меня правильную атаку.
– Видите, доктор, я хочу вам добра. Вы – редкий молодой человек, вы должны жениться на девушке, которая вас достойна. У меня для вас есть невеста: красавица, замечательно образованная, музыкантша, скромная, из хорошей семьи. Ну и приданое приличное – десять тысяч – масло ведь каши никогда не портит. А? что вы на это скажете?
Я ответил, что до сих пор даже и не думал о женитьбе.
– Напрасно. Ведь не всегда вы будете молоды… Теперь с вами разные дамы кокетничают – о! я знаю вы интересный, интересный (это я-то!). Но пройдет, – говорит, – несколько лет, явятся морщины, болезни… кто тогда за вами будет ухаживать, а? В моей голове промелькнуло кроткое личико Дины, ее большие покорные глаза, нежная улыбка, но я сейчас же прогнал от себя этот образ, как нечто совершенно невозможное, почти неприличное, а сам говорю этой старой бестии: – Может быть вы и правы, но…для этого надо выждать случай.
– Зачем, доктор, когда человек ищет, то случай бежит ему на встречу.
Через несколько дней м-м Цыпкина за мной прислала. Я застал у нее гостя, с которым он меня тотчас же познакомила. Господин Кац был маленький юркий человечек с круто выдающимся вперед подбородком, на котором уморительно торчала вверх крохотная эспаньолка. Он был до того подвижен, что положительно мелькал перед глазами. Услыхав мою фамилию, он сейчас же засыпал меня вопросами – не прихожусь ли я сродни целой сотни людей. О которых я не имел ни малейшего понятия. Это, впрочем, его нисколько не огорчило и он с легкостью резинового мячика перескочил на другой, третий, десятый предмет. Это был не человек, а воплощение perpetuum mobile[219]219
Вечный двигатель.
[Закрыть]. О себе он говорил с упоением, страстью, пафосом, рассказывал о своем финансовом гении, о том как он уже десятилетним мальчиком, вместо того, чтобы сидеть в хедере, стал торговать спитым чаем, описывал свои путешествия и, между прочим, сообщил, что он только что из Туниса. – Как это вы туда попали? – изумился я. Он посмотрел на меня с некоторой обидой и высокомерно ответил: – Я туда попадаю каждый год. У меня дела в Тунисе, Алжире, Египте, Марокко…
– Чем же вы занимаетесь?
– Чем? – древностями, – ответил он отрывисто. Мне показалось, что он торгует старым платьем и, не понимая, к чему за этим ездить в Алжир, я переспросил его: какими древностями?
– Какими? Старый бронз, картины, оружие, фарфор, утварь, кружево, ткань, манускрипты, гравюры, вообще всякий “обжедар”[220]220
Object d’art {франц.) – предмет искусства.
[Закрыть], – проговорил он без запинки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































