Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
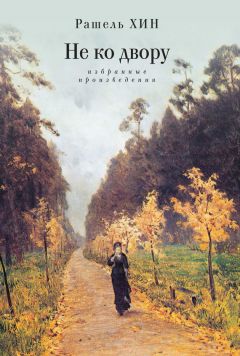
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
Давиду вдруг стало невыразимо стыдно перед этим умирающим мальчиком. Он вдруг вспомнил, как в течение многих лет принимал как нечто должное его беспредельную любовь, его простодушное обожание. Он вспомнил, что, в сущности, никогда не интересовался Макаркой, никогда пальцем не пошевельнул для облегчения его тяжёлой доли и любил в нём лишь терпеливого благодарного слушателя, восторженного поклонника своей особы.
Всё это разом промелькнуло перед ним.
– Макарушка! – воскликнул он, и в голосе у него послышались искренние слёзы. – Макарушка, да ты во сто раз лучше меня и целого легиона таких молодцов, как я.
– Ну, зачем, зачем ты это говоришь? – застенчиво пролепетал Макарка. – Ты – и я! – Он опять засмеялся, но сейчас же опять принял серьёзный вид. – Ах, не в этом дело! Я хочу просить тебя… Помнишь, Давид, сколько раз ты говорил о еврейском народе, о том, как он несчастен, как давят его невежество, грубость… Ты говорил, что образованная еврейская молодёжь должна работать для всех несчастных. О, милый! – зашептал он дрожащими губами, и крупные слёзы покатились одна за другой из его прекрасных чёрных глаз, – милый, ведь мои маленькие сёстры и братья – тоже еврейский народ; не оставь их, помоги им сделаться людьми, если ты когда-нибудь меня хоть немного любил.
Голос Макарки оборвался. Он сильно закашлялся. Давид подал ему воды и успокоительных капель.
– Ещё одна просьба, – промолвил он: – приезжай вместе с сёстрами на мои похороны. Они славные девочки, и я их очень любил, особенно Линочку. Мне кажется, что я почувствую, как вы на прощание бросите горсть земли в мою могилу. И не жалейте меня: мне вовсе не страшно умирать…
Нервы Давида не выдержали.
– Праведник ты, Макарушка, мученик! – говорил он, всхлипывая и припадая к Макаркиной руке.
* * *
Макарка умер тихо, точно заснул. В доме немедленно поднялся тот шум и гам, который неизбежно сопровождает еврейские похороны. В комнате как-то удивительно скоро появились чужие люди, стали бегать, разговаривать, распоряжаться, развязно подходили к постели, где лежал, вытянувшись во весь свой небольшой рост, бедный Макарка, размахивали руками, соображали…
Безмолвный бледный мальчик точно перешёл в их собственность. Не успели оглянуться, как он уж лежал на полу, под чёрным сукном, и в изголовье его уж печально колыхалось желтоватое пламя свечи, вставленной в высокий серебряный подсвечник. Мать и отец громко плакали. Дети, прижавшись друг к другу, забились в дальний уголок и глядели оттуда, как спугнутые птички. Тот, кто лежал под чёрным сукном, внушал им какой-то таинственный ужас. Они знали, что это Макарка; но это был уж не их брат, с которым они возились, играли, дрались, который их так нежно ласкал во время своей болезни, а что-то другое, неподвижное, величавое, безучастное и… страшное.
Приехал Давид с отцом и сёстрами. Завидев их, Хана зарыдала ещё громче, как бы взывая к этим свидетелям своего горя. Старик Блюм серьёзно и сосредоточенно остановился у порога. К нему подошёл Абрам Маркович, отвёл его в другой конец комнаты и усадил в кресло. У Давида дрожали губы, он старался совладать с собою, но не смог и порывисто расплакался. Немая фигура его скромного товарища казалась ему жертвой такой вопиющей, такой неумолимой бессмыслицы. Его сестра, высокая тоненькая девочка, в изящном чёрном платьице, видимо, не знала, что делать. И жутко ей было, и плакать хотелось. Она вынула из круглого картона огромный венок из иммортелей и белых роз и робко положила его к ногам покойника. Ей очень хотелось поглядеть на него, но она не смела. С одного бока сукно подвернулось и обнажило высохшую маленькую потемневшую руку. Девочка поглядела на неё и вспомнила, как Макарка из пятачков, которые выдавались ему на завтрак, накопил три рубля и купил ей серебряный напёрсток к именинам. Её кроткое личико затуманилось, ей вдруг стало всех ужасно жалко.
На дворе послышался стук въезжающих дрог. Лесенка вся затрещала под напором тяжёлых ног. Дверь распахнулась настежь, и два человека втащили длинный чёрный ящик – общий гроб, в котором возят на кладбище всех евреев. При виде зловещего ящика все притихли. А чужие люди делали своё дело; они подхватили Макарку за голову и за ноги, положили в ящик и прихлопнули крышкой… Всё это было так просто, так обыкновенно и так ужасно горько… Давид приподнял гроб с одного конца, с другого и по бокам стояли “священные братья”.
– Не так держите! – сердито крикнул один из них на Давида: – подымайте выше! – Наконец, гроб поставили на дроги, и печальная процессия тронулась. В наёмной карете ехала Хана с какой-то пожилой женщиной, в собственной – Блюм с дочкой. Давид и Абрам Маркович шли пешком. Было начало августа. День стоял ясный, солнечный. Путь лежал по оживлённым торговым улицам. Одни прохожие останавливались с любопытством, другие крестились и проходили мимо.
– Жида хоронят, – громко заметил какой-то разносчик.
Миновали заставу; грохоту стало меньше; показалась поросшая травой немощёная дорога…
– Нет мне счастья, – вдруг произнёс Абрам Маркович, до сих пор угрюмо молчавший.
Давид посмотрел на него.
– Нет мне счастья! – повторил: – такой сын – и умер.
– О какой он был славный мальчик! – воскликнул Давид.
– Славный! – проговорил он обиженно. – Это был гений! Его разговоры, его поведение… Душу, понимаете, душу он у меня вырвал своими разговорами.
Абрам Маркович утёр клетчатым платком слезы.
– У вас остались ещё дети, – сказал Давид, желая его утешить. Абрам Маркович махнул рукой.
– Э! – проговорил он, – какое сравнение!..
Дроги свернули на мостик, за которым виднелись белые кладбищенские ворота. Процессию встретил сторож – дюжий рыжий мужик, и помог отнести тело в домик, специально назначенный для омовения и последнего туалета усопших.
Давид с сестрой пошли бродить по могилам. На некоторых высились мраморные мавзолеи с горделивыми надписями, что тут, мол, погребен первой гильдии купец, блиставший всевозможными гражданскими доблестями, а здесь почиет надворный советник, доктор медицины… Это была кладбищенская аристократия. Она занимала центр кладбища. А там, по окраинам, тесно прижимаясь друг к другу, тесно налегая друг на друга, ютилось целое поле холмиков, осенённых серыми каменными плитами и деревянными дощечками. О, эти деревянные дощечки! Сколько пролитых слёз, сколько замученных сердец укрылось под ними, сколько скорбных повестей могли бы они поведать миру!.. Тут же неподалеку вырыли могилу и Макарке. Наскоро прочитав молитвы, опустили туда его тело, совершенно скрытое под широким белым саваном. Присутствующие бросили на него по кому земли. Всех утомила тяжёлая процедура похорон, каждый спешил поскорее уехать. Только мать, резко нагнувшись над зияющей могильной пастью, смотрела, как она пожирала её детище, и тихо стонала. Над могилой уже поднялся бугорок. Все разъехались; даже нищие, получив щедрую милостыню, разбрелись восвояси, а она всё не трогалась с места.
Абрам Маркович взял её за руку.
– Перестань, Хана, – сказал он, это грех, ты ему не даёшь покою.
И он почти насильно увёл её.
И остался Макарка один…
Старая расщепленная ракита склонила к нему позолоченную заходящим солнцем ветку, и птицы, слетевшись на красивый венок из иммортелей и роз, удивлённо защебетали над ним свою вечную песню.
Последняя страница
(Отрывок)
Графиня Прасковья Львовна Бежецкая была в каком-то особенно раздраженном настроении. Ей казалось, что все против нее сговорились – и Надежда Алексеевна, ее demoiselle de compagnie[250]250
Компаньонка.
[Закрыть], и старая горничная Ольга Ивановна, и лакей Пьер, и кучер, и кухарка, и все знакомые… Все сговорились делать ей неприятности… Даже священник русской церкви… се cretin de pope…[251]251
Поп-идиот.
[Закрыть] В воскресенье, вздумал в своем sermon[252]252
Проповеди.
[Закрыть] говорить о знатных, которых так обуяла гордыня (quel style![253]253
Что за стиль!
[Закрыть]) – что они даже в храме Божьем постоять не могут… Ну, конечно, это он намекал на нее, за то, что она сидит во время службы… Все это поняли, глядели в ее сторону, гримасничали… Лили Коссович фыркнула… Une vrae perruche![254]254
Настоящий попугай.
[Закрыть] И воображает, что у нее есть голос! Ничего у нее нет, кроме молодости и толстых красных щек.
Графиня вздохнула, прошлась по длинному, узкому будуару, который она называла своей “мастерской” и остановилась у окна. Старые каштаны Champs Elyses[255]255
Елисейские Поля.
[Закрыть] мирно грели свою только что пробившуюся зелень на коротком утреннем солнце. По широкой аллее мелькали стройные силуэты амазонок, скакали спортсмены, важные и сухопарые, как английские жокеи; по боковым дорожкам сновали пешеходы, бегали camelots[256]256
Разносчики.
[Закрыть], выкрикивая названия газет, цветочницы с корзинками через плечо предлагали пучки голубеньких фиалок… Графиня не то с укоризной, не то с завистью поглядела на уличную сутолоку и отошла в дальний угол комнаты, где в раме черного дерева, с перламутровой инкрустацией, красовалось вычурное трюмо. Зеркало отразило толстую, маленькую фигурку, с желтым одутловатым лицом. Кружевная наколка изящно оттеняла седые тщательно нагофренные волосы. Брови и ресницы были черны, как уголь… “Les yeux sont tout jennes”[257]257
Глаза совсем молодые.
[Закрыть], прошептала она, широко раскрывая свои еще в самом деле прелестные темные глаза, но эти лиловые мешки… ces horribles poches[258]258
Эти ужасные кармашки.
[Закрыть]. “Эта американская массажистка – дура”. А со стены на графиню смотрел портрет грациозной молодой женщины, в полном блеске торжествующей красоты. Легкая ткань, точно облаком окутала покатые нежные плечи. В золотистой рамке светлых кудрей свежее личико, с горделивой улыбкой на румяных губах, глядело вперед беспечно и самоуверенно… “C'est pourtant moi”[259]259
Это, однако, я.
[Закрыть] – промолвила графиня живописной красавице, равнодушно взиравшей на ее морщины.
В дверь тихо постучались, и тотчас же вошла девушка, лет двадцати пяти, среднего роста, худая, черноволосая и черноглазая – в скромном сером костюме. Это была компаньонка графини Надежда Алексеевна. Окинув беглым взглядом старуху, она как бы слегка смутилась. Поза перед зеркалом и перед портретом была ей хорошо знакома и с точностью самого усовершенствованного барометра показывала: “нервы”.
– Где вы пропадали целое утро, – начала графиня, не отвечая на поклон девушки.
– По вашим поручениям ездила, графиня. Вы сами…
– Это можно было успеть в полчаса… Загоняли лошадей… теперь мне выехать нельзя.
– Я не брала лошадей…
– В наемной карете, – перебила графиня, – это невозможно! Ведь это не в Москве и не в Петербурге, где извозчик за “на чай” останавливается в двадцати местах. Вы нанимали “а l'heure”[260]260
Почасовая оплата.
[Закрыть] или a la course?[261]261
3 Быстрая езда, гонки.
[Закрыть]
– Я ездила в омнибусе, – отчеканила Надежда Алексеевна.
Графиня покраснела и закусила нижнюю губу.
– Где же вы были? – начала она опять после небольшой паузы.
– В Лувре – купила все, что вы приказали, потом у Rordat и Labri.
Лицо графини прояснилось.
– Они будут вечером?
– Обещали.
– C'est gentil Ну… a Rordat?[262]262
Очень мило, ну а Рордат?
[Закрыть] Говорили вы с ним о моей картине? Как он ее находит?
– Он сказал, что трудно судить картину, когда она еще не окончена, – запинаясь, промолвила Надежда Алексеевна, – но он считает ее, во всяком случае, интересной.
Графиня засмеялась и захлопала в ладоши, как ребенок, которому показали игрушку.
– Да? Да? Значит я буду в Салоне!.. Ведь Rordat это может… Он знаком со всеми… Вы ему говорили, Nadine? – и она заискивающе посмотрела в глаза компаньонки.
– Он ничего не обещал положительно, графиня… но намекал, что ему неудобно настаивать… И потом, он говорит, что хотя картина ваша очень… интересна, но… новая школа французских художников придерживается другой манеры.
– Да ведь это падение искусства, эта их новая школа, – пылко воскликнула графиня. – C'est la decadence de l'art…[263]263
Это упадок искусства.
[Закрыть] Как же вы ему это не объяснили!.. А я… я следую по стопам старых мастеров… Вглядитесь, вникните в эту фигуру…
Она схватила за руку Надежду Алексеевну и почти толкнула ее к мольберту, на котором помещалась большая картина. Надежда Алексеевна тихонько вздохнула и покорилась своей участи.
– Смотрите, Nadine, ведь вы должны это понимать, вы были со мной во всех галереях Италии – вглядитесь в мою Шарлотту… Разве она не напоминает женщин Guido Reni! А этот пейзаж, который виден сквозь решетку окна. C'est du Perugin tout pur… Полотно графини походило на огромную палитру, случайно залитую самыми фантастическими красками; из этого пестрого моря выступал длинный женский манекен, окруженный маленькими куколками.
– Ведь нынче пишут, как маляры, – продолжала графиня. – Никакого вдохновения, никакой поэзии… Голое, бесстыдное тело… А почему?.. Знатоков нет! Но с этим нужно бороться! И маленькая горсть… les vrais inities…[264]264
Настоящие инсайдеры.
[Закрыть] должны держать знамя… Однако, перестанем. Я слишком волнуюсь и вечером буду не в голосе. Я разучила прелестную серенаду Гуно… Она у меня очень удачно выходит… Вы не слыхали?
– Нет, графиня, но мне Ольга Ивановна говорила, что вы пели. Надежда Алексеевна с тоской взглянула на старинные английские часы: до второго завтрака оставалось еще сорок минут.
– Когда я была молода, – говорила, между тем, графиня, не прерывая работы, – меня отвлекали от искусства светские и семейные обязанности. Но и тогда все мне твердили: у вас талант. В Риме князь Альдоберони, un connaisseur celui-la[265]265
Знаток искусства.
[Закрыть] – прямо мне сказал: – “Графиня, вы совмещаете в дивном аккорде madame Lebrun et la Malibran[266]266
Мадам Лебрун и Ла Малибран.
[Закрыть], не зарывайте своих талантов в землю”. И, несмотря на все препятствия, я училась, читала, стремилась… А это было нелегко! В обществе меня прозвали “красной”. Женщины мне завидовали. Еще бы! Сам Лист у меня играл два раза…
Увлеченная воспоминаниями, она немного помолчала, переменила кисти, посмотрела на свою картину сбоку и с меланхолическим вздохом промолвила:
– Ах, если бы не русская дикость – у меня был бы самый блестящий салон нашего времени. Я всегда считала себя выше предрассудков и подозрений – всегда искала необыкновенное, Le rare[267]267
Редкое.
[Закрыть] – и была жестоко наказана. Когда все заговорили о Лассале, я решила, что он будет у меня, et un beau jour je l'ai servi…[268]268
В один прекрасный день я приму его.
[Закрыть]Я не встречала человека более обаятельного. Красавец, любезный, умница – он очаровывал решительно всех. А какой такт! Ни слова о чернорабочих… и вот добрые друзья дали знать еп haut lieu[269]269
Место, центр.
[Закрыть], что у нас собираются карбонарии[270]270
Тайное политическое общество революционного оттенка.
[Закрыть]. Графу пришлось оставить свой пост и он, конечно, во всем обвинил меня.
Графиня опять помолчала и задумчиво прибавила:
– Другие находят утешение хоть в детях. Mais ils sont tellement terre-a-terre, mes enfants[271]271
Но они так далеки от возвышенного,
[Закрыть]. Боря – добрый малый, но выше конюшни – для него ничего нет на свете. А дочери – des bonnes popottes…[272]272
з Самые заурядные.
[Закрыть] Каждый год детей рожают, – пояснила графиня по-русски. – Вот как прошла моя молодость… Но теперь, теперь я, по крайней мере, хочу жить для себя… Я чувствую свою силу… le feu sacre…[273]273
Священный огонь.
[Закрыть] Наконец, я вовсе не так стара… Nadine, что же вы молчите? Я говорю, говорю, а вы точно не слышите…
– Напротив, графиня, я вас слушаю с большим вниманием, – поспешила возразить Надежда Алексеевна и, чтобы дать другое направление мыслям ее сиятельства, прибавила: – я и забыла вам сказать, что встретила m-me Косович. Она вам кланяется.
– Мерси, – сухо ответила графиня, – и куда она все бегает?
– Не знаю, графиня. Она была одна. Идет такая нарядная, свежая…
– Все это в долг, та chere[274]274
Моя дорогая.
[Закрыть], и наряды, и свежесть. Косович старше меня. Когда меня стали вывозить – она уже сделала два сезона. Муж ее был очень богат, она его разорила – lui et bien d'autres[275]275
Его и других.
[Закрыть]. О, она хитрая и только прикидывается институткой, потому что это идет к ее птичьему лицу. Мужчинам ведь нравятся такие genre bebete[276]276
Бабенки.
[Закрыть]…
Часы медленно загудели. В дверях появилась высокая, статная женщина, в темном шерстяном платье, длинном черном фартуке и белом кисейном чепчике на гладких седых волосах.
– Ваше сиятельство, вода готова, – доложила она.
– Хорошо, Ольга Ивановна, я сейчас.
Графиня встала, аккуратно сложила кисти и вышла вслед за Ольгой Ивановной.
Оставшись одна, Надежда Алексеевна потянулась, зевнула и, пересев на табуретку графини, стала рассматривать ее картину. Презрительная усмешка искривила ее губы. Она вспомнила, как сегодня утром упрашивала Rordat, в виду старости и положения графини, потешить ее и как-нибудь провести “Шарлотту” на выставку, говорила, что неудача может гибельно повлиять на ее здоровье… А модный художник на все эти доводы только пожимал плечами и, поглаживая свои длинные усы, повторял: – impossible, mademoiselle, c'est pas un tableau. Votre dame est une vieille folle[277]277
Невозможно, мадемуазель, это не картина. Ваша дама – старая дура.
[Закрыть]. И он весело смеялся, выставляя два ряда ослепительных зубов. Графиня вернулась. На ней был свежий кружевной воротничок и манжеты. Черномазый, бритый лакей провозгласил: M-me la comtesse est servie[278]278
Обед сервирован.
[Закрыть] и, почтительно изогнувшись, распахнул перед Надеждой Алексеевной и графиней тяжелые портьеры… Столовая, большая мрачная комната, заставленная массивной мебелью, с деревянными медальонами, оленьими головами и nature morte[279]279
Натюрморт.
[Закрыть] по стенам, казалась еще угрюмее от гигантского камина, в котором под грудой пепла чуть тлели угли. Стол был накрыт на два прибора. Белоснежная скатерть резко оттеняла старинное серебро, тонкие фарфоровые тарелки и прозрачный хрусталь рюмок и стаканов. Черномазый Пьер бесшумно подвинул графине кресло, похожее на готический трон и, сняв крышку с блюда, подал ей две подогретые котлеты, украшенные тощими макаронами. За котлетами следовал салат – смесь chicoree и romaine; десерт состоял из “бедных рыцарей”, т. е. хлеба, поджаренного в масле, и шпината, в котором трусливо пряталось разрезанное пополам крутое яйцо. Графиня ела медленно и молча; Надежда Алексеевна быстро, словно украдкой, и тоже безмолвно. Когда последний “рыцарь” был уничтожен, Пьер налил графине вина, которого в бутылке оказалось так мало, что его едва хватило на полрюмки.
Графиня повела бровями и недовольно заметила: “il у еп avait plus que са hier”[280]280
Он еще хуже, чем вчера.
[Закрыть].
– C'est pourtant pas moi, qui I'ai bu[281]281
Это, однако, не я, кто пил.
[Закрыть], – с достоинством возразил лакей, – ключи у Olga-Vann, пусть графиня осведомится у нее…
– Я вчера сама сделала на бутылке пометку – вина было вдвое больше, – сказала графиня, взглянув в сторону Ольги Ивановны. Та сидела за маленьким столом в углу и приготовлялась разлить в крошечные чашки только что вскипевший на спирту кофе.
– Полноте, ваше сиятельство, – грубоватым голосом, растягивая слова на московский манер, отозвалась Ольга Ивановна. – Кому оно нужно, ваше вино!.. И напрасно вы сами себя беспокоите, отмечаете… У нас, слава Богу, воров нет…
Графиня не возражала, но ее обвислые щеки потемнели, она нетерпеливо просунула в кольцо салфетку, уронила на пол нож, вздрогнула и процедила сквозь зубы: невыносимый беспорядок! Бритое лицо Пьера осклабилось плутоватой улыбкой: он служил у графини лет десять, понимал по-русски и был очень доволен, что Olga-Vann отделала “la vieille chipie”[282]282
Старую ворчунью.
[Закрыть].
Надежда Алексеевна, опустив глаза, по-видимому, живо заинтересовалась узором на скатерти.
Допив кофе, графиня, в сопровождении Ольги Ивановны, удалилась в свою спальню отдыхать. Надежда Алексеевна тоже ушла к себе и бросилась ничком на ситцевую жесткую кушетку. Нервы ее были подняты. Она закрыла глаза. Существование ей показалось вдруг особенно горьким. Быть на посылках у полоумной старухи… Уйдешь от нее – надо искать другую старуху или возиться с чужими, капризными, жестокими детьми… А жизнь уходит, уходит, и ничем, никогда, ни за что ее не вернешь – ни одного мгновения…
Надежда Алексеевна крепче прижалась к маленькой сафьянной подушке и судорожно расплакалась…
– Барышня!.. Надежда Алексеевна!., о чем это вы? – с тревогой спрашивала Ольга Ивановна. – Перестаньте, матушка, стыдно, – прибавила она с ласковой укоризной и, взяв в свои мягкие, теплые руки худенькие руки девушки, стала их поглаживать.
Надежда Алексеевна подняла с подушки заплаканное лицо и постаралась улыбнуться.
– Так, Ольга Ивановна, взгрустнулось что-то… Вы не обращайте внимания… пройдет. Но жалкое выражение лица противоречило благоразумным словам. Острый подбородок Надежды Алексеевны дрогнул, она закрылась платком и несколько раз отчаянно всхлипнула.
Старушка участливо тронула ее за плечо.
– Али графиня доехала?
– Нет, право, ничего… Тянет душу, как всегда.
– Уж именно тянет. На это она у нас первая мастерица. А вы бы так: в одно ухо впустили, в другое – выпустили.
Надежда Алексеевна энергически вытерла глаза.
– Теперь мне легче, – сказала она, – право, Ольга Ивановна, совсем прошло.
– Это вы потому все к сердцу принимаете, что мало кушаете, – возразила Ольга Ивановна. – Человек молодой, пищу требует настоящую, а тут натекась: сегодня вчерашние котлеты, завтра вчерашние котлеты – поневоле взвоешь… И до чего ее жадность одолела! Над всяким куском трясется.
Надежда Алексеевна кивнула головой.
– Знаете, – начала она, глубоко переводя дух, и на глаза ее опять набежали слезы, – когда я ем, я чувствую, как она следит за каждым моим глотком.
– И пущай ее следит… на здоровье! Погляжу я на вас, барышня, – молоды вы еще! До сих пор господ не понимаете.
Да мы для них хоть разорвись – им ни по чем… Так, мол, и надо. Разве они что смыслят! И говорить-то тошно… Пойдем ко мне, – я вас чайком напою, а то лежите, я сюда велю принести.
Ольга Ивановна встала и два раза нажала пуговку воздушного звонка. Явился Пьер.
– Петруша, – сказала она, – поставь мой самоварчик, да вот тебе ключ – у меня в шкафу свежая булка лежит, ну, и вареньица захвати, и колбаски, и сухариков, да тащи все сюда. Только не шуми, чтоб графиню не разбудить. Понял?
Пьер ухмыльнулся.
– Я все может понимать.
Он скоро вернулся с большим подносом, ловко поставил его на стол, исчез и вновь появился с небольшим медным самоваром.
– Bon appetit, m-llie, – проговорил он и фамильярно прибавил: – ne vous pressez pas. la vielle dort, vomme une souche[283]283
Приятного аппетита… не торопитесь, старуха спит.
[Закрыть].
Ольга Ивановна заварила чаю и налила сначала Надежде Алексеевне, потом себе. Некоторое время обе молча ели и пили.
– За что же она вас шпыняла? – начала Ольга Ивановна.
– Да ведь я вам говорила, что ничего особенного. Просто я сегодня очень устала, да и проголодалась, должно быть. А главное, я боюсь, как бы не вышло скандала из-за картины. Ей хочется, чтобы она попала на выставку. Самой ей неловко просить, вот она и подсылает меня. Я бегаю, кланяюсь… Графиня понимает, что надежды мало, и волнуется, сердится на Rordat, на Labri. Но им она не смеет показать свое неудовольствие и вымещает все на мне. А чем я виновата! Я бы душой рада устроить ей это, мне ее жалко, да когда я ничего не могу…
– Вот уж это, сударыня, напрасно… Чего ее жалеть! Родные дети не жалеют да и не за что, по правде сказать, а вы!.. Добро бы она из нужды металась, а то ведь все это один форс. Ей бы старые грехи замаливать, а она все мечтает, всех поразить хочет – смотрите, мол, какая я есть… В молодости-то чудила-чудила – пора бы и честь знать, а она все своего духу унять не может.
Ольга Ивановна налила еще по чашечке себе и Надежде Алексеевне и, подув на блюдечко, принялась за свой чай уже с расстановкой.
– Ведь я-то уж ее сиятельство наизусть знаю, – начала она опять. – Все ее мысли насквозь вижу. Слава Богу, немало времени с ней кружусь. Взяли меня к господам – мне двадцати лет не было, а теперь вот шестой десяток идет, а ей и все семьдесят будет. Вот и посчитай-ка, сколько мы с ней соли вместе съели… А при графе что возни было! – воскликнула Ольга Ивановна и покачала головой. Самовар порывисто взвизгнул и вдруг задребезжал, как дрожащая струна, словно напевая – помнишь, помнишь, помнишь…
Надежда Алексеевна знала, что для Ольги Ивановны вся жизнь исчерпывалась воспоминаниями о “господах” и не мешала ей отводить душу, как не мешала графине вздыхать о былых триумфах.
– Покойник, царство ему небесное, был красавец писаный, настоящий барин, – с увлечением продолжала Ольга Ивановна, – а на жену, как на богиню какую, молился. И уж ломалась она над ним!.. Как только, бывало, затяжелеет, и пойдет дым коромыслом. Мужик, болван… Честит его на весь дом и по-французски, и по-русски. До того довела, что граф в Киев ходил к угоднику молиться, чтобы у графини детей не было. А уж на что был безбожник… И вдруг, сударыня вы моя, накрыл он ее в Биарицце с французом. И уж как она попалась – до сих пор не пойму. Сколько раз сухая из воды выходила, а тут дала маху. На грех, видно, мастера нет. Думали мы в ту пору, что убьет ее барин беспременно. Однако, нет. Только почернел весь, в неделю стариком сделался. Она уехала в Париж, гувернантку вон, чтобы лишних разговоров не было, а меня с детьми в Расею. Сам и повез. На границе встретила нас сестра графа. Уселись мы в вагон. Я смотрю, – граф стоит на платформе, как будто и не его дело. Я ему: ваше сиятельство, уж звонили! – А он мне: – Я не еду. Я собрала детей, толкнула к окошку, учу их, – дескать, проститесь с папашенькой. А он махнул рукой и говорит: – черт с вами! Я вас сдал, а теперь вы меня не знайте, и я вас не знаю.
Год целый прожили мы у тетушки. Тоже золото была! Уж кого невзлюбит, так поедом и заест. Однако, граф с графиней помирились, только он против прежнего куда к ней стал хладнокровнее. Так что она даже иногда к нему с ревностью приступала – вы, говорит, нас своими безобразиями разорите. Ну, а там барышень в институт отвезли, графчика в пажеский корпус, а сами мы, ровно окаянные, все с места на место. И где только я с ними ни перебывала! И в Вене, и в Риме, и в Константинополе, и на водах разных. А спросите, что я видела! Стыдно сказать – ничего! Прежде все с детьми – гувернантки у нас не держались, и потом все при ней, все при ней. Ну, вот и рассудите сами – стоит ли нам из-за них себя расстраивать…
Надежда Алексеевна грустно усмехнулась. Она, видимо, успокоилась, подошла к туалету, поправила сбившиеся волосы и слегка напудрила покрасневшие веки и нос. Ольга Ивановна подперла рукой щеку и несколько раз тяжело вздохнула. Она стояла перед раскрытым зеркальным шкапом, в одной нижней юбке, вся красная, без наколки, растрепанная, и трясущимися руками швыряла футляры, шкатулки, белье. Очевидно, она что-то искала и не находила. На полу валялись саше, кружевная косынка; ящики письменного стола были наполовину выдвинуты…
Увидав Ольгу Ивановну и Надежду Алексеевну, она кинулась к ним и прерывающимся голосом выговорила: – Деньги пропали… чек на пять тысяч франков – и, гневно взглянув на компаньонку, прибавила. – Ведь я при вас его получила, вы видели… Куда же он мог деваться…
– Может быть, вы его как-нибудь обронили, графиня, – пролепетала Надежда Алексеевна, – надо скорее сообщить в банк.
– Что вы тут рассказываете, – прервала графиня, – я еще не сошла с ума… Я никуда эти дни не выезжала, следовательно, не могла обронить. Я распечатала письмо при вас, вынула чек и, помните, еще сказала: “Boris est toujours en retardi”[284]284
Борис, как всегда, опаздывает.
[Закрыть]. Потом Пьер входил и Francois. Если чек не найдется, значит, его украли в доме. C'est clair, comme bon jour[285]285
Это ясно, как день.
[Закрыть]. Я никого не обвиняю, но имею право подозревать всех…
– Не может этого быть, ваше сиятельство, – строго возразила Ольга Ивановна. – Зачем понапрасну людей обижать?.. Засунули куда-нибудь понадежнее, да и забыли… Даже очень просто… Поискать надо хорошенько.
– Я везде искала, везде.
– Вижу, что искали, только больно горячо. Так ведь и проглядеть недолго. Вы извольте-ка сесть в кресло, а мы с барышней потихонечку-полегонечку еще пошарим.
Ольга Ивановна пристально поглядела на графиню, и, под влиянием этого холодного, спокойного взгляда, графиня точно присмирела. Она покорно опустилась в кресло, сжала руки и прошептала – volee, volee!..[286]286
Украдены, украдены!..
[Закрыть]
– Барышня, – произнесла Ольга Ивановна, – вы в письменном столе ищите, а я переберу шкап.
В комнате воцарилось тяжелое молчание. Надежда Алексеевна с нахмуренным лицом, бледная, с презрительно сжатыми губами, внимательно рассматривала бумагу за бумагой, встряхивала книги, хлопала по ящикам. У шкапа, шурша вещами, возилась Ольга Ивановна. Вдруг она обернулась.
– Это что ли, – сказала она, протягивая графине тонкий листок бумаги. Та жадно схватилась за него.
– Где, где ты его нашла?
– Да вот здесь, в перчатках – на самом донышке лежал, – проговорила Ольга Ивановна, указывая на длинный плюшевый баул, переполненный перчатками всевозможных цветов и размеров.
– Я не помню, – сконфуженно бормотала графиня.
– То-то, надо бы помнить, – заметила Ольга Ивановна.
– Ты что же это – учить меня хочешь, – вспылила графиня.
– Смею ли я ваше сиятельство учить! А что, конечно, обидно на старости лет да в воровках очутиться…
– Ты лжешь… Я сказала, что никого не обвиняю. У меня сил нет выносить твою грубость.
– Что ж! Коли не угодна – разочтите… Ваша воля.
– Ступай вон!
– И вон можно. Благодарим на чести, ваше сиятельство… недаром столько лет вашей милости прослужила.
Ольга Ивановна низко поклонилась, но не выдержала характера и, уходя, яростно хлопнула дверью.
– Elle est insupportable, cette brute?[287]287
Она невыносима, эта грубиянка.
[Закрыть] – всхлипывающим голосом проговорила графиня. – Я ее избаловала… облагодетельствовала… Но разве этот народ способен ценить человеческое обхождение… И вы, Nadine, я несколько раз хотела вам заметить, – напрасно обращаетесь с ней, как с равной. Фамильярность с прислугой – c'est tres mauvais genre[288]288
Это нечто глупое.
[Закрыть].
Надежда Алексеевна не отвечала и угрюмо продолжала приводить в порядок письменный стол.
Роскошная гостиная Louis XVI, которою так гордилась графиня, мягко освещена целой батареей ламп под бледношелковыми и кружевными зонтиками. В глубине комнаты, за круглым столом, уставленным фруктами, конфектами, petit four и бисквитами, сидит Надежда Алексеевна и разливает чай из “русского” серебряного самовара.
Общество, по-видимому, оживленно беседует, шутит, смеется… Но графиня – удручена. Выходит как-то так, что она, хозяйка, в стороне… Ей почтительно кланяются, с банальным участием справляются о ее здоровье и затем к ней обращаются лишь мимоходом, словно она – докучная вещь, которую нельзя спихнуть с дороги. Особенно волнует графиню m-me Ducos. Она чувствует, как ее сердце захватывает самая постыдная зависть к этой женщине, с чертами отяжелевшей римской матроны, которая так победоносно выставляет напоказ свои жирные, набеленные плечи. Madame Ducos – знаменитость. Ее рассказы печатаются в больших газетах. Это – бойкие картинки, в которых, на фоне католицизма, бонапартизма и слащавой морали, мелькают всегда одни и те же марионетки; еврей – хищный и карикатурный барон, элегантная flirteuse[289]289
Кокетка.
[Закрыть], невинная барышня, в совершенстве владеющая жаргоном кокоток, и герой пустоголовый, но обольстительный сноб.
Madame Ducos говорит уверенно, с тем апломбом, который отличает людей успеха. Она только что произнесла речь о франко-русской дружбе, об изумительном гении русского народа, умеющего сочетать идеалы XIII века с последним словом культуры, упомянула о славянском гостеприимстве и обвела слушателей своими огромными, черными, как агат, глазами в ожидании одобрения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































