Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
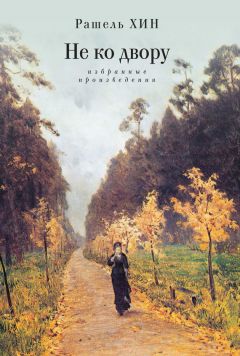
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 36 страниц)
После такого “казуса” Тургенев долго жаловался знакомым, что вот, мол, как это неприятно вышло. Если ему замечали, что лучше бы с самого начала не вводить человека в заблуждение, Иван Сергеевич, словно оправдываясь, возражал. Он все равно безнадежен. Никакой “суровой правдой” вы ему таланта не создадите, и ничем не убедите, что таланта у него нет. А, впрочем, кто его знает, может и нащупает что-нибудь… что я за провидец такой! пусть работает… Щепетильная деликатность Тургенева особенно сказывалась в вопросах денежных. Брали у него заимообразно, брали и “так”. Однажды пришел к нему молодой человек, бедно одетый, красивый, поразивший меня своим надменным, почти дерзким лицом. Он поздоровался с Иваном Сергеевичем, отрывисто ответил на два-три вопроса, уселся в кресло и стал курить. Просидев таким образом с четверть часа, он вдруг брякнул: – Тургенев, дайте денег. Иван Сергеевич сконфузился и увел поспешно посетителя в соседнюю комнату, притворив за собой дверь. Когда оба вернулись, у молодого человека горели щеки и глаза были потуплены. Тургенев любезно проводил его до лестницы, и затем, долго объяснял, вздыхая, что очень застенчивые и робкие люди нарочно напускают на себя ухарство, чтобы выйти из тяжелого положения.
Да как радовался и волновался Тургенев, когда ему казалось, что вот, наконец, как будто мелькнуло что-то похожее на дарование. Тут уж он не говорил любезностей, а наоборот, подвергал самой тщательной критике каждое выражение, каждое слово. Помню, как он убеждал одну совсем юную писательницу, к которой он благоволил, заменить слово “плевательница” словом “скамеечка”. Он громко прочитал страницу, в которой описывалось детство героя – печального мальчика, любившего забираться в угол на “деревянную плевательницу”. Иван Сергеевич объяснял, что добросовестная “проба пера” – есть всегда фотография, но что постепенно, с развитием опыта и вкуса, фотография должна уступить место картине. Нельзя всегда описывать себя и своих знакомых (я привожу не текстуальное выражение Тургенева, а только его смысл), но надо из себя, из своих знакомых, из своих наблюдений – уметь извлекать такие же разнообразные звуки, какие извлекают из своих инструментов музыканты. Не все поймут и оценят мельчайшие тонкости исполнения, но главный мотив почувствуют все. И чем талантливее виртуоз, тем лучше он сумеет передать свое настроение публике. Вот и ваша “мебель”, продолжал Иван Сергеевич, в большинстве квартир средней руки, которую вы описываете – есть деревянная скамеечка; мать, или старушка тетка любят стать на нее, тут же пристраивается и ребенок… Да и каждый человек это сто раз видел… Но вас поразила “реальная” плевательница и вы этой фотографической подробностью не хотите поступиться.
Писательница энергически отстаивала свою “мебель”. Тогда Иван Сергеевич просительным тоном сказал: послушайте, подарите мне эту плевательницу! Это было так неожиданно, что все засмеялись; писательница уступила, а Иван Сергеевич торжественно зачеркнул неприятное ему слово и, надписав другое, промолвил: ну, конечно, скамеечка – гораздо удобнее. В эту же зиму Тургенев очень интересовался одним начинающим писателем N.N., которому он всячески покровительствовал. Он находил, что у N.N. тяжелый язык, что ему недостает чувства меры, но что у него есть положительная литературная способность и принимал в его судьбе (N.N. сильно бедствовал) самое живое участие. По этому поводу мне вспоминается эпизод, который может служить иллюстрацией независимости Тургенева и того, как мало он думал о личных неприятностях, когда можно было оказать услугу другому. В Париже тогда существовал клуб русских художников, учреждение, респектабельность которого была вне сомнения. Президентом его состоял, если не ошибаюсь, князь О., а вице-президентом Тургенев. Там происходили иногда литературно-музыкальные собрания, но, по естественному ходу вещей, для “колонии” доступ в это святилище считался немыслимым. И вдруг Тургенев предложил N.N., человеку в ту пору явно непривилегированному– прочесть в аристократическом клубе главу из своего романа. Автор, раньше никогда не выступавший перед публикой, колебался принять это лестное приглашение. Тогда Иван Сергеевич изъявил желание сам прочесть его произведение. О таком счастье ни одному новичку и во сне не снилось – и автор, понятно, был наверху блаженства. Известие это с быстротою молнии облетело все кружки, фракции и подфракции колонии и породило много толков и волнений. Все знали, что в музыкальном отделении вечера примут участие люди во всех смыслах обеспеченные: бывший профессор одной из наших столичных консерваторий, ученицы M-me Viardot и т. п. Но “словесники” повергли всех в изумление. Кроме романиста, должны были читать поэт и дама, ни в каких крамолах, правда, не замеченные, но с тем неуловимым оттенком завиральных “идей”, которые не одобрял еще Павел Афанасьевич Фамусов. Всех занимал вопрос: как отнесутся сильные мира к пасынкам судьбы, самое существование которых было принято считать чем-то неприличным. Многие выражали мнение, что Тургенев все это затеял “очертя голову”, иные, наиболее проницательные особы, простирали свою догадливость гораздо дальше и утверждали, что эта штука придумана “неспроста”, и что Тургенев, раскаявшись после “Нови”, ищет сближения с молодежью. Когда же узнали, что Тургенев пригласил на вечер П.Л. Лаврова, колония возликовала и была готова окончательно принять “лояльность” Тургенева.
На самом деле все было неизмеримо проще, и Тургенев, по-видимому, даже не подозревал, какой он причинил переполох. Незадолго до вечера я получила от него записку, в которой он жаловался на подагру и просил заехать к нему. Я застала его одного. Видно было, что ему не по себе: лицо усталое и одет “по-больному” в какой-то вязаной куртке, ноги в высоких мягких сапогах и под пледом. Кабинет у Тургенева был небольшой, очень скромно обставленный. Потому ли, что кресла и стулья занимали слишком много места, или просто фигура хозяина казалась слишком громоздкой для такой маленькой комнаты, но на меня, по крайней мере, Иван Сергеевич в этом кабинете всегда производил такое впечатление, точно он не может как следует протянуться, точно ему здесь тесно, неудобно. Когда я вошла, Иван Сергеевич сидел за письменным столом и, против обыкновения, не поднялся мне навстречу, а только приподнял голову и, не выпуская из правой руки пера, протянул мне левую. – Присядьте и извините меня, – сказал он, – я скоро кончу. Почитайте пока; вон там (он указал на столик) новая книга “Вестника Европы”. Я уселась и стала потихоньку перелистывать страницы журнала, искоса поглядывая на Ивана Сергеевича. Он быстро писал, энергически вычеркивая то строчку, то слово, и приговаривал: “Этакая бессмыслица… этакая грубая безграмотная лесть… пишет, как портной Сидоров из Парижа…” Вдруг он меня позвал: “Взгляните сюда, прочтите эту страницу”.
Я стала читать и не могла удержаться от смеха. Это было полное отрицание орфографии. Можно было подумать, что автор нарочно задался целью писать все слова навыворот. Оказалось, что Иван Сергеевич исправлял “в поте лица”, как он выразился, не то отчет, не то проект какого-то знакомого ему художника – к одному весьма высокопоставленному меценату. Я предложила Ивану Сергеевичу исправить грамматические ошибки. Он видимо обрадовался, усадил меня на свое место и сказал: “Исправляйте все, я после просмотрю; главное, попроще, а то тут такие есть перлы семинарско-кадетской риторики!.. нарочно ни за что не придумать… я кое-что даже записал для памяти”. Мало-помалу Иван Сергеевич пришел в свое обычное, благодушное и милое настроение: подтрунивал над моими профессорами, удивительно похоже и смешно представлял елейно-торжественного Саго, на лекции которого съезжалось столько элегантных дам, что в его дни строгая аудитория College de France принимала вид светского салона. Я спросила Ивана Сергеевича о предстоящем литературном вечере и можно ли будет на него попасть.
– Можете даже участвовать, – сказал он. – Хотите вместо меня читать роман N.N.?
Я возразила, что такая замена повергла бы публику в недоумение, а автора в отчаяние, – и потому предпочитаю более незаметное местечко где-нибудь в зале или на хорах. Иван Сергеевич усмехнулся и тут же подарил мне два билета на русский вечер и билет на conferences[336]336
Представление.
[Закрыть] Кокелена. (Я очень увлеклась французским театром. Delonay, Got, Coquelin, Madeleine Brolian – приводили меня в восторг. Тургенев меня поощрял, но настаивал, чтобы я, кроме “Comedie”, бывала и в концертах камерной музыки и в опере). Незадолго до этого я в первый раз слушала Ван-Зандт в “Миньон” (Она пела тогда в Opera Comique) и спросила Тургенева, нравится ли она ему. Он ее похвалил, и сейчас же стал вспоминать, как пела m-me Viardot в молодости. “С ней, – сказал он, – не сможет сравниться ни одна из нынешних знаменитостей. Она была и есть единственная”. Потом, по обыкновению, разговор перешел на литературу. Иван Сергеевич рассказывал о Жорж Санд, о Флобере, Эдмонде Гонкур, Золя, Додэ, об их дружеских обедах у Magny. Флобера он ставил чрезвычайно высоко, как писателя и человека, и горячо его любил. V.Hugo не нравился Ивану Сергеевичу своей ходульностью и напыщенностью, но он говорил, что нельзя не преклоняться перед этим “рыцарем пера”, который более полустолетия с таким героизмом отстаивал самые возвышенные идеалы человечества, и признавал V.Hugo наравне с Шиллером, величайшим поэтом юности. Много еще хорошего и интересного говорил Тургенев. Он был как-то в ударе и, спустя время, вставало в моей памяти сырое, с пронзительным ветром, зимнее парижское утро, путешествие в омнибусе из Auteuil, на place de Clichy, маленький кабинет с потрескивающим камином, высокий, изящный старик с седой головой и молодыми глазами, его ласковая, живая, незабвенная речь…
Настал, наконец, и возбудивший столько толков музыкально-литературный вечер. Я отправилась туда с одной знакомой. Когда мы приехали, публики уже было довольно много. Часть ее прогуливалась в передней зале, а часть разместилась в главной. Это была длинная и довольно большая комната, в конце которой возвышалась эстрада. Меня поразила резкая разница между собравшейся публикой, до того резкая, что она бросалась в глаза. В первых рядах кресел – эффектные фраки и рединготы, белые жилеты, ослепительные пластроны, прелестные дамские туалеты – ни дать ни взять симфонический концерт в московском благородном собрании. И сейчас же за ними – самая изумительная смесь “одежд и лиц”, особенно одежд. Чего тут только не было! И пиджаки, и блузы, и летние пальто, и высокие сапоги; из-под крылатых альмавив стыдливо выглядывали косоворотки. Женщины были гораздо наряднее, хотя и тут эффект достигался малыми средствами. Ленточка, свежее кружево оживляли старенькое платье; улыбка удовольствия играла на молодых, уже отмеченных страданьем, лицах… робкая походка… неловкие движения… тихие голоса… несколько красивых головок… Наши места были в четвертом, или в пятом ряду справа. В том же ряду, что и мы, только слева, меня поразила грузная фигура старика с львиной головой. Длинные, густые, рыжеватые с сильной проседью волосы составляли точно одно с широкой, длинной бородой. Старик сидел, опершись подбородком на скрещенные кисти рук, в которых он держал массивную палку. Он медленно поворачивал то в ту, то в другую сторону свою большую голову, оглядывая поверх очков публику. Я спросила мою спутницу, не знает ли она, кто это. Она даже удивилась моему невежеству.
– Неужели вы не знаете? Это Лавров. Петр Лаврович.
До этого мне ни разу не случалось видеть знаменитого эмигранта – и я на него уставилась с понятным любопытством. Впрочем, Лавров возбудил не только мое любопытство: фешенебельные дамы и кавалеры усердно его лорнировали и перешептывались. Лавров, казалось, относился равнодушно к такому вниманию и лишь, когда мимо него пробиралась к своему месту дама, он поднимался и с отменной вежливостью давал ей дорогу. Он был высок ростом и осанку имел внушительную. Потом я его видела раза два-три у Тургенева. Иван Сергеевич, по соображениям педагогического свойства – о чем он меня предупредил – не знакомил меня с Лавровым и мы с ним только безмолвно раскланивались. Слушала я его с большим вниманием. У него были прекрасные манеры и тон хорошо воспитанного человека. А публика все прибывала. Было уже довольно поздно. Давно пора было начинать. К нам подошел один знакомый из вездесущих и всесведущих и сообщил, что ждут Тургенева. Через несколько минут он опять подошел и сообщил, что Тургенев не приедет: он только что прислал записку N.N., что над ним стряслась беда – сильнейший припадок подагры. N.N., понятно, в отчаянии – приходится читать самому, он ужасно волнуется и т. д. Главный интерес вечера, конечно, пропал и это моментально отразилось на настроении залы, словно по ней пробежала холодная струйка. Порядок программы сейчас же изменили. Первым должен был читать Тургенев. Вместо него вышел скрипач Б., превосходный виртуоз. Его встретили сдержанно; концерт Мендельсона имел лишь sueces d'estime[337]337
Ограниченный успех.
[Закрыть] и только после пьесы Вьетана и Венявского лед растаял. За скрипачом пели ученицы m-me Viardot. Затем на эстраду вышел господин с бантиком в петлице и объявил, что вследствие внезапной болезни Ивана Сергеевича Тургенева главу из повести (забыла название) прочтет автор. Показался и автор. Мелкими торопливыми шажками он подбежал к стулу, с шумом его отодвинул и как-то сразу на него обрушился, точно тяжелый мешок, который опустили на землю. Это был еще молодой, маленького роста, тщедушный человек, с курчавой, непропорционально большой головой, бледный, сутуловатый. Он, по-видимому, страшно волновался: читал глухим, прерывающимся голосом, перепутывал слова… Содержание рассказа я не помню (что-то жалостное: оскудевшие дворяне и баба, которая выла, как “недобитая собака”. Это единственное выражение, оставшееся у меня в памяти). Чтение длилось долго, но жестокая публика, обманутая в своем ожидании услышать Тургенева, почти не обращала внимания на автора. По всем рядам шел тихий говор. Впрочем, когда автор кончил, раздалось несколько шлепков, а из второй залы послышались крики “браво”. После романиста поэт X. прочитал прекрасное стихотворение. К сожалению, он читал так неискусно, что вся прелесть его звучных стихов пропала.
За этим наступил перерыв, и мы побежали в курительную. Там было много народу, и шум стоял невообразимый. По комнате, словно сизая туча, медленно расползался табачный дым. Говорили все вместе и на разные лады комментировали – почему не приехал Тургенев. Одни видели в этом измену, другие трусость (увильнул в последнюю минуту), третьи уверяли, что ему уже досталось за эту “затею” – и только самые умеренные соглашались поверить, что Тургенев действительно захворал.
Меня удивило присутствие в курительной русского священника. Он внимательно прислушивался к разговорам и вдруг обратился к худенькой миловидной блондинке – моей знакомой. “Позвольте полюбопытствовать, сударыня, то стихотворение, которое читал последний поэт, было напечатано в каком-нибудь русском периодическом издании?”
– Нет, – ответила блондинка, – а вам оно разве понравилось, батюшка?
– Я плохой судья в современной поэзии, – уклончиво заметил батюшка, – но полагаю, что не быть ему напечатану во веки веков.
– По независящим от редакции обстоятельствам! – проговорила, усмехаясь, блондинка.
Батюшка промолчал. Немного погодя, он опять заговорил.
– А господин романист тоже, кажется, ненапечатанное произведение читал?
– Право не знаю, батюшка, кажется, по рукописи.
– По рукописи, – задумчиво повторил батюшка и после небольшой паузы прибавил: – я слышал, что он protege Ивана Сергеича. Высокой души Иван Сергеич. Для здешней молодежи, можно сказать, истинный благодетель, – и выразительно поглядев на “здешнюю молодежь”, батюшка меланхолически покачал головой.
Во втором отделении опять играл скрипач. За ним должна была читать дама. Я жила далеко, почти у Булонского леса, вставать приходилось рано, и, воспользовавшись коротким перерывом после скрипача, я уехала. Дома меня ждала записка от Тургенева. Он приглашал меня к себе на следующий день. Но утром у меня были две лекции Франка и Мезьера, которые я не могла пропустить, и я попала к Ивану Сергеевичу довольно поздно. Я застала у него целое общество; некоторых я знала, но одна уже пожилая дама и двое мужчин были мне незнакомы. Предметом разговора был вчерашний вечер. Тургенев, очень возбужденный, поминутно потирая больное колено, говорил быстро, высоким фальцетом, что всегда означало у него неудовольствие или волнение. Чтобы ввести меня в курс беседы, он рассказал в общих чертах, что ему дали понять, как некорректно вводить подозрительный элемент в порядочное общество, которое весьма шокировано, что под видом поэзии ему преподносят “Бог знает что”.
– Скажите по совести, – обратился ко мне Иван Сергеевич, – вы ведь у нас тут “сами по себе”, поучитесь и уедете – скажите откровенно – произвел на вас вчерашний вечер впечатление пропаганды?
Я ответила отрицательно.
– Читали неважно, это правда, а так – решительно ничего.
– Ну вот, – сказал Тургенев, – а меня-то обвиняют, что я надругался над самыми священными чувствами! И впридачу, объявят меня изменником отечества… А за то, что я осмелился пригласить Лаврова – меня само собой надо предать анафеме. Я, видите ли, должен извиниться за этот свой поступок.
– Не может быть, – возразил кто-то из гостей.
– Ах, батюшка, – раздражительно крикнул Тургенев. – Молоды вы еще, оттого вам и кажется, что “не может быть”. Все может быть, а особенно невероятное.
– Мне интересно, – продолжал он более спокойным тоном, – что же Лавров, значит и в церковь не смеет прийти? Например, умру я. Мы с ним хоть и не близкие друзья, а все же старинные знакомые – и ни от кого я этого никогда не скрывал. Придет он в Rue Daru на панихиду – проститься со мной… Что же? Не пускать его в церковь… вон мол!..
Все молчали.
– Нет, каково холопство, какова трусость, – воскликнул Тургенев, опять раздражаясь и на самых высоких нотах. – И добро бы это было где-нибудь на Старой Басманной… а то ведь где? В Париже? Чего, кажется, бояться… а все трепещут!..
– Неужели. Иван Сергеевич, вы будете извиняться? – спросила дама.
Тургенев обернулся к ней и не особо ласково заметил:
– Я для этого уже стар. Звание вице-президента я готов с себя сложить. Да и какой я президент! – проговорил он с добродушным смехом, и, словно желая переменить разговор, Иван Сергеевич стал рассказывать, как его однажды выбрали в почетные президенты литературного конгресса, – Ну, я открыл заседание, уселся в председательское кресло, все, как следует быть. Заговорил один. Хорошо. Потом его перебил другой. Еще лучше. Мне бы его остановить, а я сижу да слушаю. Все сейчас же смекнули, что на месте председателя сидит старая мокрая курица. Не успел я оглянуться, как поднялось Вавилонское столпотворение. Confrercbi мне шепчут: sonnez, sonnez[338]338
Звоните, звоните.
[Закрыть], а я и колокольчика не вижу. Спасибо Etlmond About выручил – схватил колокольчик, да как затрезвонит! Мигом все пришло в порядок… Что значит настоящий-то человек!..
Тургенев смеялся, рассказывая, и всем присутствующим стало как-то легче, что он перестал хмуриться. Разговор перешел на другие предметы, но ненадолго. Тургенев опять вернулся к злополучному вечеру. Выговор “за Лаврова”, очевидно, задел его за живое.
– И кому это понадобилось докладывать о Лаврове, – сказала я. – Такая масса была народу… Кому он мог помешать!
– А это уж черта, так сказать, историческая, – возразил Тургенев. – Первое доказательство собственной благонадежности – есть донос. Словно желая подтвердить это положение, Иван Сергеевич рассказал, как много лет тому назад, проводя лето в Спасском, он узнал, что священник донес становому о том, что по соседству объявились какие-то молодые люди, читают книжки, вступают в беседу с крестьянами и, вообще, ведут себя странно.
Их, конечно, позабрали.
– Встретил я этого попа. Разговорились. Я его спросил: – Зачем вы, батюшка, становому-то их выдали? Разве нельзя было как-нибудь помягче? что же он?
– А если б, – говорит, – у вас в Спасском, Иван Сергеич, чума появилась, али холера – вы бы разве не дали знать по начальству… То-то вот и есть…
В колонии “инцидент” Лавров-Тургенев еще долго служил предметом самых оживленных толков и самых мелодраматических гипотез. На деле, однако, вся эта история оказалась сильно преувеличенной и никаких резких последствий не имела. В начале весны Тургенева все чаще стали донимать приступы подагры, так что он почти никого не принимал. В это же время я видела его горько, безутешно плачущим. Это было в день 1 марта 1881 г. Припоминая впоследствии все, что он тогда говорил, я не могла не изумляться его пророческой проницательности. Летом он уехал в Россию. Из Спасского он писал мне несколько раз (Я проводила лето на даче около Москвы). Осенью я опять собиралась в Париж, но, по разным обстоятельствам мне приходилось отложить. Тургенев звал меня в Спасское, но это был для меня невозможно, и мы увидались только в Москве, у Ивана Ильича Маслова. Иван Сергеевич обрадовал меня своим цветущим видом. Он был чрезвычайно весел, разговорчив, строил разные планы, собирался писать новый роман, уговаривал меня скорей возвращаться в Париж… Никому из нас в голову не приходило, что мы видимся в последний раз.
Со смерти Тургенева прошло 18 лет. Срок небольшой. А между тем, как мало его читают, как мало ценят. Уродливое преподавание русского языка в нашей школе принесло свой плод. Во всех образованных странах юношество воспитывается в любви к родной литературе. Французский bachelier[339]339
Бакалавр.
[Закрыть] знает наизусть В. Гюго. Немецкий гимназист гордится Гете и Шиллером. А у нас – “зрелые классики”, знакомые с Пушкиным, Гоголем, Толстым, Тургеневым лишь по отрывкам – обычное явление. Тургеневу в этом отношении особенно не повезло. Молодежь apriori считает его “отсталым”, а взрослые, чтобы оправдать свое равнодушие, с апломбом восклицают: куда ему до Достоевского, до Толстого…
В “Чайке” А.П. Чехова модный писатель Тригорин, уныло говорит, что писать не стоит, ибо, что не напиши, читатель скажет: да, это очень мило, но какое же сравнение с Тургеневым[340]340
Цитирую не подлинные слова, а смысл (прим. автора).
[Закрыть]. Это тонкое и верное замечание. Но, если уж никак нельзя выйти из заколдованного круга сравнений, то… Тургенев так же велик, как Толстой. Оба они, хотя и разными путями, учат любить и жалеть человека, верить в добро и искать истину. Всеобъемлющая душа Тургенева жаждала гармонии. Его упрекали в политическом индифферентизме. Это неверно. У него было очень определенное политическое profession le foi[341]341
Профессиональное кредо.
[Закрыть], но он никогда не был человеком партии. Да и какая партия могла его удовлетворить! Он был художник-философ. Его интересовало все живущее – природа, люди, наука, искусство. Он дал несравненную картину современной ему эпохи, причем сумел в самых животрепещущих явлениях фиксировать элемент вечности. Пессимизм Тургенева не есть пессимизм отчаяния. Он вытекает из самого существа жизни. Люди несчастны, но жить стоит. Рядом с эгоизмом, злобой, низостью, неиссякаемый родник любви, героизма самоотвержения, энергии… Рядом с неизбежной борьбой отцов и детей – старость без зависти приветствует расцвет молодых сил, грусть неразлучна с надеждой и человечество, спотыкаясь, блуждая, сворачивая в сторону – все-таки, несмотря ни на что, идет вперед. Тургенев поэт и учитель. Его нельзя забыть. Охлаждение к нему может быть только явлением случайным!.. Оно пройдет. К Тургеневу вернутся. Его будут читать, перечитывать и изучать с той благодарностью, какую заслуживает этот великий мастер русского слова и великий художник человеческой души.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































