Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
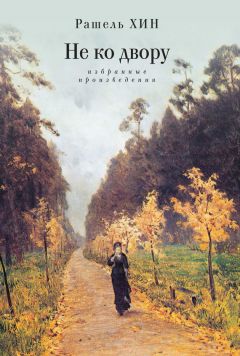
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 36 страниц)
– А я согласен с Юлией Федоровной, – возвестил Башевич. – Ничего не нахожу в этом казусе преступного.
– Никто и не говорит, что это злодейство, – сказала Лили, – просто, это неприлично.
– То есть, не принято, – пояснила Юлия.
– В таком случае и сжигание трупов неприлично, – заметил Башевич, но его перебила Варя Карцева.
– Это совсем не то, – возразила она голосом, не допускающим сомнений. – Новейшие исследования показали, что сжигание трупов является настоятельной необходимостью. Масса заразных болезней происходит от нашего варварского обычая хоронить покойников. Во Флоренции я видела действие кремационных печей. Мама не хотела меня пускать, но я поставила на своем. Это неприятное зрелище, но, в конце концов, гораздо эстетичнее собрать прах дорогого существа в красивую урну, чем зарыть его в яму.
Надя отрицательно покачала русой головкой и мечтательно продекламировала:
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне б все ж хотелось почивать…
– И превосходно, – отозвалась Юлия. – Всыпали “бесчувственное тело” в японскую вазу да и поставили на письменный стол. Чего еще ближе! Ежеминутно любуйся и точи слезы.
Все рассмеялись, кроме Беленького.
– Нет, – воскликнул он в отчаянии, – я не могу слышать такие разговоры, я всю ночь спать не буду. Прощайте, я уйду.
– В самом деле, господа, перестаньте, – сказала Лили, – бедный Беленький весь дрожит. Успокойтесь, Беленький, вот вам яблочко, скушайте и сыграйте что-нибудь.
Надя села за рояль аккомпанировать, и Беленький с таким увлечением заиграл испанские танцы Сарасате, точно хотел убежать от всех страшных разговоров на свете. После музыки, беседа перешла на литературно-театральную почву. Вера Карцева вспоминала, как она в Байрете восторгалась “Кольцом Нибелунгов”, в Вене смотрела “Ткачей”, в Париже “Приведения”, а в Берлине картины Берклина. Башевич находил, что русские художники и писатели “творят” как бы в состоянии гипноза.
– Иного жреца Аполлона так и хочется вытянуть нагайкой: проснись, мол.
Юлия весьма одобрила эту мысль. Потом она стала хвалить поэта Adolph’a Rette, очень довольная, что никто из присутствующих о нем не знал, и не то пропела, не то провздыхала длинное стихотворение, но, заметив, что никто ничего не понимает, оборвала на полуслове и спросила:
– Кто из вас, господа, читал “Demi-vierges”?[72]72
Полудевственницы.
[Закрыть] Оказалось, что, кроме Нади и Беленького, который вообще по части литературы безгрешен, читали все. Варя, однако, докторально заметила, что считает эту книгу клеветой на женщин, и что ее успех есть лишнее доказательство падения нравов.
– Древние больше умели уважать женщин, чем французы в конце XIX века, – закончила она убежденно.
– Ну, – протянул Юлия, – древние на этот счет могли за пояс заткнуть нынешних французов. Уж они-то знали, чего стоят женщины. Я читала в оригинале Овидия, Тацита и Петрония. Вот отделывают дам! Любо-дорого!..
Варя обиделась (она не знает классических языков) и сухо промолвила:
– Древние никогда не поощряли безнравственность.
– Если она являлась в уродливой форме, – дополнила Юлия, – но в прекрасной – сколько угодно. Вспомните-ка Фрину перед судьями. Об этом даже у Иловайского сказано. Да и что такое “нравственность”? – Эластичный чулок, который можно растянуть на каждую ногу. Дважды два четыре, это я понимаю, это истина. А нравственность, красота, долг – сие есть метафизика.
– Не делай другому того, чего не желаешь себе, – взволнованно зазвенел голосок Нади, – мне кажется это так же ясно, как дважды два четыре.
– Пай девочка, – сказала Юлия. – Сейчас видно ангельскую чистоту сердца. Все это очень трогательно, душа моя, только чересчур старо.
– Да? А что же вместо этого придумали нового? – не без задора спросила Надя.
– Делай другому все, чего не желаешь себе, – ответила Юлия. Николенька, весь вечер молчавший, вдруг бухнул:
– Парадокс, Юлия Федоровна, как бы он ни был остроумен, все же не истина, а мыльный пузырь. Лили немедленно призвала его к порядку.
– Нельзя ли не так грозно, Николенька. Если свет у вас в кармане, не прячьте его, и поделитесь великодушно с нами, блуждающими во тьме.
– Свет у меня не в кармане, Елена Юрьевна, но обезьянство и кривлянье от красоты я отличить умею. Стихи Пушкина – это поэзия, а “стрекочут сороки – сороки стрекочут”, или те “колоннады звуков”, которые сейчас нам читала Юлия Федоровна, извините меня – вычурная чепуха. В Париже ищут изощренных, небывалых ощущений – и мы туда же… Qu’importent les victimes, si le geste est bean[73]73
Если намерения искренни – подумаем о жертвах.
[Закрыть]. Будьте искренни! Неужели это может нравиться… Или вот… (Николенька запнулся) книга эта… Demivierges.
Я бы ни за что не дал ее своей сестре.
– Но сами прочли с удовольствием, – вставила Юлия.
– Без удовольствия, и притом я – другое дело, – начал он, но ему не дали продолжать. Все захохотали и заговорили разом.
Николеньку называли рутинером, Прюдомом и добродетельным юношей. Надя попробовала было заступиться за брата, но перекрестные насмешки Лили, Юлии и Башевича заставили ее умолкнуть.
У меня от шума разболелась голова. Я распорядилась ужином и потихоньку ушла к себе. Я часто думаю – доставляют ли эти “rennions”[74]74
Встречи, приемы.
[Закрыть] Лили хоть какое-нибудь удовлетворение? Иногда я спрашиваю ее об этом, но не могу добиться ничего, кроме лениво протягиваемый фраз вроде: мои знакомые очень добры и забавны… я не требовательна и т. д.
17 октября
Утром два часа просидели у Louise. Лили примерила платье для базара в пользу голодающих (она будет продавать цветы). Туалет она выбрала скромный, приличный случаю. Белое платье, fichu Marie Antoinette, белая шляпа, белая накидка, словом, “белая симфония”, по стилю наших доморощенных символистов. До чего хороша Лили! Я ни у кого не видала такой матовой кожи, таких золотистых волос и особенно таких глаз! Огромные, иссиня-зеленые, манящие, они, когда она покойна, точно дремлют под черной тенью бровей и ресниц. Не только я, Louise на нее загляделась.
“Quelle taille, quelles epaules[75]75
Какова талия – таковы и размеры.
[Закрыть], восклицала она, накалывая булавками кружево на открытый корсаж. – En fera-t-elle des malherueux, cette enfant!..[76]76
Несчастный ребенок, как она будет выглядеть.
[Закрыть]” Лили тихо посмеивалась, лениво приподнимала свои ослепительные, мраморные руки, вытягивала стройные ноги, перегибалась, шевелила бедрами, чтобы видеть, хорошо ли ложится юбка… Сколько обаяния и силы в таком цветущем женском теле. Даже страшно!.. Во время примерки Louise, по обыкновению, без умолку болтала. Между прочим, она рассказала любопытную историю про одну свою заказчицу, которая несколько лет не платила, так что она уже судиться с ней собиралась. И вдруг, она сразу заплатила все и даже купила модель от Doucet. Угадайте почему, спросила с хитрой улыбкой Louise? Никогда не угадаете, Je vous le donne en cent[77]77
Я вас вознагражу.
[Закрыть].
– Она получила наследство, – сказала я.
Француженка замотала головой.
– Nenni[78]78
Нет.
[Закрыть]… Они совсем разорились, погибали. Par bongeur, monsieur[79]79
К счастью, месье.
[Закрыть] втерся в какой-то благотворительный комитет et voila[80]80
И вот.
[Закрыть]. Там столько денег que са colle aux pattes[81]81
Прилипают к телу.
[Закрыть]. Я вздохнула. Лили рассмеялась и говорит Louis: – не рассказывайте таких вещей маме, это ее огорчает.
Француженка передернула плечами.
– Quevoulez-vous, madame, c’estlavie[82]82
Чего же вы хотите, такова жизнь.
[Закрыть].
От портнихи пошли пешком и на Кузнецком мосту встретили писательницу Шухмину, которая изредка у нас бывает. Она пишет критические статьи, длинные, скучные, безжизненные. Но все говорят, что у нее замечательная “эрудиция”, и все восхищаются. Шумихина пошла с нами и сейчас же засыпала нас рассказами о своих литературных трудах и планах. Она задумала большой роман с развязкой во время коммуны. До сих пор, говорит, никто еще в романе не касался этой эпохи. (Совсем упустила из виду “Debacle” Sola[83]83
“Добыча” Эмиля Золя.
[Закрыть].) А может быть, это искреннее ослепление человека, которому “везет”. Ведь вот эта Шухмина, что в ней особенного? Обрюзглое, самодовольное лицо, произносит общие места, словно невесть какие перлы сыплет. И это действует. Уверенность в себе – половина успеха. У меня вот нет никаких иллюзий относительно моей персоны. Я дрябла, ленива, не умею ни добиваться, ни бороться, не умею даже ничего сильно желать. А ведь подумаешь, что и я когда-то мечтала – смешно сказать – о славе! Когда мне дали медаль за “Чумичек”, я и впрямь вообразила себя художницей. И, как знать, не влюбись я в Юрия Павловича… Ах, как он меня скоро отрезвил. Теперь мои идеалы гораздо проще; не притворяться, в самом деле, ничего ни от кого не ждать, (потому что я, глупая, все еще жду), не бояться ни сцен, ни гостей, ни звонков, не думать о чужом счастье и собственном убожестве…
18 октября
Что за ужасная погода. Сумерки начинаются с утра. Моросит дождь, ветер, холод, слякоть… Мне нездоровится. Тупая боль в боку сверлит безостановочно день и ночь и в довершение удовольствия – мигрени.
24 октября, 1 ч. ночи
Произошло что-то невероятное по безобразию и ординарности. Я подслушала… да, да, подслушала разговор Лили с Юлией. У меня была мучительная мигрень, и я прилегла на кушетку в маленькой уборной рядом с будуаром Лили. (Даже дверь была не заперта, а только прикрыта.) В уборной темная штора и, когда у меня мигрень, я всегда укрываюсь в этот уголок. Сначала я и не думала их слушать и даже вздремнула. Вдруг Лили заговорила, да таким усталым, грустным голосом, какого я у нее не подозревала. С меня мигом соскочил сон, и я стала слушать, слушать самым постыдным образом.
– Все это не разрешает мучительного вопроса, – медленно произнесла Лили. – Один ложный шаг – и вся жизнь испорчена.
– Нужно ясно знать, чего желаешь, – сказала Юлия.
– А вы это знаете, Julie?
– Я ничего не желаю, – возразила Julie. – Я довольна. Я встаю в два часа дня, ем и пью только сладкое, читаю книги, о существовании которых не только дамы, но и “подающие надежды” молодые ученые не догадываются. Я презираю ходячую мораль, но никогда против нее не ополчаюсь, прикидываюсь идиоткой, чтобы дурачить умных людей… Я равнодушна к народу, к попечительствам, к толстовщине, ко всякой филантропии, хотя говорить об этом могу сколько угодно и молчать могу двести часов подряд. Я никого и ничего не боюсь – я внутренне свободна. Хочу – читаю Штрауса (он гораздо смелее Ренана), потом возьму да и побегу к Иверской. Я старая дева, уродливая и, вместо того, чтобы приходить в отчаяние, решила, чтобы мне служил весь мир. И он отлично мне служит (Юлия весело захохотала). Писатели всех времен писали для меня книги, художники – картины, поэты – стихи… Цари забавляли меня войнами, знакомые каждый день потешают меня своей глупостью, своими романами и сплетнями… Несмотря на мое безобразие, мне несколько раз предлагали “руку и сердце”… Mais pas si bete![84]84
Но не так глупо!
[Закрыть]Если я пожелаю обниматься и целоваться, то сумею это устроить без аккомпанемента “Исаия, ликуй!”. Но пока мне не хочется. Мужчины мне внушают отвращение. Разговаривать с ними иногда приятно, особенно с первокурсниками – совсем воробьи. А люблю я только вас, Лили! Вы моя гордость, моя радость. Я могу по целым часам на вас любоваться. Вы красавица, Лили, настоящая, редкая красавица, а красота – сила. Вы можете все себе покорить, только не бойтесь. Вы должны царить и будете, только, повторяю, не бойтесь…
Тут она стала быстро и часто целовать Лили. Лили шумно отодвинулась, что-то упало на пол – вероятно, книга.
– Перестаньте! – прикрикнула Лили. – Какая у вас несносная манера лизаться. А еще смеетесь над сентиментальностью старых дев…
– Так ведь это я в одну вас, Лили: в вас я влюблена, – оправдывалась Юлия.
Лили капризно топнула ногой.
– Какой вы вздор несете. Надо говорить серьезно, а вы все с глупостями.
– Не сердитесь, Лили. Не запрещайте мне дурачиться. Это нисколько не мешает моей серьезности… Ну, на чем мы с вами остановились?..
Лили помолчала немного и потом тихо промолвила: – Будьте откровенны, Julie. Что мне по-вашему делать?
– Выходить замуж, – ответила Юлия.
– Ах, это я и сама знаю… да за кого?
– За несметного богача, ибо, что бы ни говорили добродетельные люди, деньги были, есть и будут все.
– Где же я найду такого набоба, – воскликнула Лили. – Все богатые купцы переженились. Да я и не нравлюсь купцам. Дроздов мне предпочел свою жену – обыкновенную смазливую девчонку.
– Что Дроздов, – возразила Юлия. – Мелкая сошка! Я знаю, за кого вам надо выходить.
– Ну?
– Боюсь, вы рассердитесь…
– Да говорите же…
– За князя Двинского.
Лили вскочила и стала бегать по комнате. (Я еле удержалась, чтобы не вскрикнуть).
– Julie, да ведь он идиот, клинический идиот, больной, противный…
– Тем лучше, – спокойно заметила Юлия.
– Вы рехнулись, Julie… или вы не видали князя.
– Извините, он вчера у нас завтракал. Он лечится у моего фатера. Поймите, Лили, у этого идиота миллион годового дохода, громкое имя… Все это будет ваше, а вместо мужа – манекен, который никогда и ни в чем не будет вас беспокоить… За это я вам отвечаю.
В комнате наступило продолжительное молчание. Наконец Лили проговорила:
– Это невозможно. Вы не знаете маму. Она способна сойти с ума (!) (О, как радостно забилось мое сердце… Значит, она все-таки меня любит).
– Конечно, если вы будете спрашивать позволения у вашей мамы, – насмешливо сказала Юлия, – вам придется выйти за сельского учителя или за земского врача. Лизавета Константиновна прекрасная женщина, но она отравлена ядом российской гражданской скорби. Сколько это ей дало счастья – вам лучше знать…
– И потом, где же я могу встречаться с князем? – задумчиво произнесла Лили. – Он был как-то у папы по делу… Он совсем не нашего круга…
– Это уж моя забота, – перебила Юлия. – Я с ним сдружусь и влюблю его в вас. Вы только разрешите мне действовать. А уж как мы с вами заживем, моя королева.
– Нет, нет, – закричала Лили, – и думать не смейте… Больше я не стала слушать и тихонько, как воровка, выскользнула из уборной. Вот она какая, эта Юлия! Недаром она всегда была мне антипатична… Что делать?.. Голова идет кругом. Надо все сказать Юрию Павловичу.
27 октября
Говорила с Юрием Павловичем. И зачем только я говорила?.. Точно я его не знаю…
– Вот как, ты уж у дверей стала подслушивать, – воскликнул он, рассмеявшись. – Это хорошо! Ты подаешь надежду на исправление. Не доходи только до крайности, а то жена Сомова пробуравит дырочку в его кабинет, чтобы наблюдать, как он принимает клиенток.
Я хотела ему сказать, что мне до такой степени все равно, что бы он ни делал, – но, сообразив, что из этого может выйти совершенно ненужный обмен мыслей, попросила его отвечать мне серьезно.
– Да дело-то несерьезное, – сказал он. – Девчонки болтают между собой вздор, а у тебя уже драма готова. Однако, эта уродина Юлия оригинальна. Я считал ее идиоткой, а выходит даже совсем напротив – российская декадентка – ничтоже сумняшеся. Надо будет к ней присмотреться. Решительно нет ни одной неинтересной женщины. Это бесконечная гамма…
Я прервала монолог, который слышала сотни раз:
– А если она вашу дочь сделает такой декаденткой, вы будете довольны?
Он насупился:
– Ах, оставь, пожалуйста. Лили слишком умна, и я за нее не боюсь.
– Завидую вашему спокойствию, – сказала я.
Он покраснел:
– Нельзя ли без такого величия, Лиза. Оно тебе вовсе не идет. И что это у тебя за привычка, когда ты чем-нибудь недовольна, говорить мне вы. Кажется, умная женщина, а не понимаешь, что в известные годы – такие институтские манеры – смешны. Это не значит, что я тебя считаю старухой, – прибавил он галантно, – ты удивительно бываешь иногда мила. А стройна!.. И как это ты ухитрилась?! Не будь ты моей женой, я бы стал за тобой ухаживать. И отчего ты так холодна?.. Ну ко мне – это понятно! Я не распинаюсь за эпоху великих реформ и судьба женских медицинских курсов меня тоже не очень беспокоит. Но Кривский! Он за все скорбит. И суд присяжных, и земство, и школы, и цензура, и Некрасова читает со слезой, и влюблен в тебя…
– Прощай, мне некогда.
– Куда ты? Посиди. Я тебе покажу письмо одной знакомой тебе, Nitouche…
– Не интересуюсь.
– Ах, какой у тебя несносный характер, Лиза. Портишь жизнь себе и другим. Ну, Бог с тобой, иди… А за Лили не тревожься. Она себя в обиду не даст.
Тем и кончилось совещание почтенных родителей о судьбе единственной дочери… А, может быть, Юрий Павлович прав, и я в самом деле преувеличиваю. Лили умница. Она ведь крикнула Юлии: “Не смейте об этом заикаться!”
1 ноября
Темно, холодно, сыро. Боль в левом боку так усилилась, что не могу ни читать, ни писать… Как невыносимо ползет время…
10 ноября
Видела во сне, что я очутилась на отлогой, скользкой крыше, покрытой тающим снегом. Кругом – пустота, возможности удержаться или зацепиться за что-нибудь, ни малейшей. Тогда я напрягла все усилия, чтобы доползти до длинного конца крыши, чтобы прожить еще хоть несколько мгновений… доползла – и полетела в пространство. Я проснулась вся холодная и очень обрадовалась, что жива…
12 ноября
Юрий Павлович отделывает заново дом. Кабинет у него теперь невиданный. Огромная, высокая комната с гигантскими окнами в сад. Чудная библиотека. Подавляющий величием письменный стол, строгая мебель, картины, статуи, гравюры, испещренные автографами портреты… Простой смертный, попав в этот “храм”, должен сразу ощутить свое ничтожество. Комнаты Лили тоже очень изящны – они почти готовы. Я просила не трогать мои кельи: Юрий Павлович не протестовал.
20 ноября
На той неделе совсем поздно, чуть не в десять вечера, пришел Кривский Николай Степанович. Лили с Юрием Павловичем были в театре – на Мазини, а я сидела у себя и, пользуясь свободой, по обыкновению писала.
Кривский последние годы почти не бывает у нас, и я очень удивилась и обрадовалась, увидав его. Он пришел сообщить мне, что Николенька получил золотую медаль за сочинение и оставлен при университете. Я его поздравила, велела подать вина и, ради счастливого события, разрешила ему курить в моем кабинете. Мы долго болтали о всякой всячине, вспоминали молодость. Ах, эти воспоминания, Как они съедают жизнь!.. Шутя я ему сказала:
– А ведь Николенькина медаль значит, что мы с вами скоро “дедушки”, милый друг.
Он отрицательно покачал головой:
– Я пока гарантирован. Надя не во вкусе нынешних “лихачей”, а Николенька влюблен в Лили, которая за него не пойдет. Ведь не пойдет? – спросил он и пытливо заглянул мне в глаза.
– Не знаю, Николай Степаныч.
– Ну и слова богам, – промолвил он.
– Очень мило и любезно. Merci.
Он засмеялся:
– Напрасно вы обижаетесь, Лизавета Константиновна. Ведь вы знаете мое мнение на сей предмет. Жениться на красавице – несчастье. Красавиц на свете мало и на них слишком большой спрос, а где большой спрос, там и драка. Не могу же я собственному сыну желать, чтобы он проводил дни в военных действиях.
– Ну, ладно. Не хотите со мной родниться – и не надо. Но, по крайней мере, расскажите мне что-нибудь хорошее, а то я совсем захирела.
– Что так, голубушка? Нервы? Или Юрий Павлович чудит?
Признавайтесь-ка старому другу.
Я промолчала. Он понял, что я не хочу “признаваться” и, как ни в чем ни бывало, продолжал:
– Так вы требуете “нового и хорошего”. Но… das Neue ist night gut und das Gute ist nicht neu[85]85
Новое не хорошо, а хорошее не ново.
[Закрыть], – говорят немцы. Кроме “Панамы” и юбилеев ничего, кажется, нет. Зато юбилеев, сколько угодно. И все юбиляры, конечно, спасители отечества и носители заветов, а посему – да будет им триумф. Я очень люблю торжественные чествования (чуть не сказал проводы). Слушаешь, слушаешь, да и замечтаешься: эх, кабы нам позволили, какие бы мы были орлы…
– И отчего везде так пасмурно, Николай Степаныч?
– Не везде, голубушка, а лишь в тех местах, где люди паче всего жаждут добычи. Схватил кус – и превосходно. У нас к тому же и полоса неурожайная выдалась. Если благородный мученик, то непременно посредственность, неудачник, лежебока или нытик. А сила человека не в необъятности его мечтаний и неизмеримости вожделений, а в деятельности. Когда же вместо деятелей – дельцы, – только и остается, что ликовать на юбилеях. И отчего Юрий Павлович не привезет вас на какое-нибудь чествование? Все-таки – развлечение.
Я даже рукой махнула:
– Полноте, что мне там делать? Я было хотела филантропией заняться, и то у меня ничего не вышло. Основалось тут “Общество Предпраздничной Помощи”. Назначили и меня объезжать бедных. И до того мне стыдно стало выпытывать, что им нужно, что не нужно… Так и бросила. Никуда я не гожусь…
Кривский засмеялся:
– Что вы меня не позвали? Я бы с таким удовольствием посмотрел на вас при “исполнении обязанностей”. Воображаю, как вы были жалки.
– Зато вы чересчур откровенны, Николай Степаныч. Вот уж вас никак нельзя упрекнуть в излишней любезности.
– Я не умею быть любезным, – возразил он. – А мою нежность вы так давно и так беспощадно отвергли… Может, вы стали добрей?.. Скажите… ибо “все тот же я”.
– Николай Степаныч, вы только что спрашивали – пойдет ли моя дочь за вашего сына.
– Ну-ну, будь по-вашему, – согласился он. – А филантропка вы все-таки смешная, и это не только не дерзость, а комплимент в моих устах. Ибо, что такое эта пресловутая частная благотворительность, позвольте вас спросить? Утонченное лицемерие и жестокая насмешка. Беднякам, видите ли, надо доставлять необходимое. Но ведь самое необходимое и бывает для человека то, что благотворитель считает “излишеством”. Богатый купец строит больницу для людей, которые потеряли здоровье, работая на него с утра до ночи и с ночи до утра. Ясли, приюты… Воля ваша, а мне претит это искусственное разведение рабочего скота. Кривский вошел во вкус и, вероятно, долго бы еще громил ненавистных филантропов, но вдруг раздался такой нетерпеливый звонок, что он вздрогнул и уморительно прошептал:
– Ой, батюшки, страшно!
Послышались быстрые шаги Лили и уверенная поступь Юрия Павловича. Дверь распахнулась, и Лили, возбужденная, вся розовая, остановилась на пороге, прекрасная, как видение.
– Как это приятно, – начал Юрий Павлович, здороваясь с Кривским, – мы слушали Мазини и внутренне терзались, что она тут одна…
– …И вдруг оказывается даже совсем напротив, – подхватил Кривский и прибавил, – помолчи минуту, дай мне полюбоваться на Лили. И родятся же такие красавицы на пагубу бедным людям. Как хотите, Лили, а я должен вас поцеловать. Лили улыбнулась, подошла к Николаю Степанычу, обняла его за шею и протянула ему одну за другой свои щеки. (Как она может быть обворожительна, когда захочет). Кривский нежно поцеловал ее и погладил по голове.
– Ты, как думаешь, – обратился он к Юрию Павловичу, – ведь таким, как она – все можно.
У Лили вспыхнули глаза, а Юрий Павлович с самодовольной усмешкой промолвил:
– Не кружи девчонке голову, маститый Дон-Кихот, она и то много о себе воображает.
Иван внес самовар. Я стала разливать чай.
– Как Мазини сегодня пел, восторг! – говорила, прихлебывая чай, Лили. – его засыпали цветами. А Дроздова была в белом бархатном платье с рубинами et decolletee! Папа с нее не сводил бинокля. Николай Степаныч, кто лучше, я или Дроздова? Кривский спросил, какая Дроздова? А!., да ведь это “c’est moi”[86]86
Это я.
[Закрыть], воскликнул он и расхохотался таким заразительным детским смехом, что и мы, не зная в чем дело, тоже невольно смеялись за ним. Успокоившись, он нам рассказал, как к нему явился младший Дроздов жаловаться на старшего брата (они никак не могут разделить наследство). Чтобы расположить Николая Степаныча в свою пользу, Дроздов младший говорит ему: “Вы не верьте моему брату. Он только прикидывается либералом, а на самом деле это такой человек… Ну, одним словом – вроде Людовика XIV: его личное “я” – c’est moi.
Юрию Павловичу понравился рассказ. Он несколько раз повторил: c’est moi, а Кривский, целуя руки Лили, ласково приговаривал: “Конечно, вы лучше, моя прелесть. Куда же этой волоокой купчихе до вас? Вы – Лорелея, а она красивая баба.
– Почему же все за ней бегают? – возразила Лили, и в ее голосе явственно зазвучали гневные ноты.
– Денег у ее мужа много, Лиличка. А уж это такой закон: у кого много денег, тому на земле оказывают божеские почести. Почему все так кричат теперь о Панаме? Потому что ограбили богатых. Бедных грабят каждый день, но так как на этом зиждется общественное благоустройство, то никто этим не возмущается. А попробуй кто украсть серебро у Дроздова! Мы с Юрием Павловичем первые закричим: караул! Потому нельзя знать…
Может быть, и нам от этого крупица перепадет…
– Ну, брат, зарапортовался, – довольно холодно заметил Юрий Павлович и зевнул.
У Кривского насмешливо дрогнули губы.
– И то правда, – сказал он и стал прощаться.
24 ноября
Сегодня ездила с Лили кататься по первой пороше. Вчера повалил снег, санный путь установился сразу и уже не слышно, слава Богу, этого одуряющего стука колес.
29 ноября 2 ч. ночи
Ужасно устала, но чувствую, что не засну, если хоть капельку не отведу душу. Как я ни отупела, но иногда и мне невмоготу становится, и я готова крикнуть всем этим комедиантам: опомнитесь… ведь стыдно… Я, конечно, не кричу, а скромно разливаю чай, и, как настоящий трус, изливаю свое негодование втихомолку: оно безопасно и безнаказанно. И все-таки я un cheveu dans le beurre[87]87
Ложка дегтя.
[Закрыть] Юрия Павловича. Правда, это небольшое утешение и совсем ничтожная победа. Сегодня собрались у нас его прислужники: заплывший жиром Сомов, которого сам Юрий Павлович за глаза никогда иначе не величает, как “бестия”, Котулин, готовый ежеминутно ринуться, куда укажут “столпы”, и Башевич. Все были не в духе. Я знала, в чем дело. Еще утром Юрий Павлович бросил мне на стол новую книжку “толстого” журнала (с какой пренебрежительной усмешкой он произносит это слово!) сказав:
– Порадуйся, как нас отчитал твой друг Кривский.
Я прочла статью. В ней без всяких личных намеков и бранных выражений очень живо и не без юмора обрисована коллегия юристов “нового образца”, которая с легким сердцем отреклась от заветов едва минувшего прошлого и откровенно начертала на своем знамени: бей лежачего! В конце статьи говорится, что торжество этих близоруких “практиков” кратковременное, что дело их – все равно проигранное дело, ибо нет такой силы, которая могла бы задержать течение жизни, а они – слуги застоя, т. е. смерти…
Не успел Сомов со мной поздороваться, как сейчас же закипел.
– Каков шут гороховый Кривский! И чего ему?! Сидел бы тихо. Нет, надо поломаться. Смотрите, мол, каков я есть сосуд цивической доблести… не то, что подлецы Юрка и Сом.
– Он никого не называет, – сказала я.
– Еще бы он назвал, – ядовито вставил Башевич.
– Трус, оттого и не называет, – заявил Котулин. – А впрочем, я не читал его филиппики, только слышал. Нет ли у вас, Лизавета Константиновна, этого дурацкого журнала?
Я принесла книгу и, по общей просьбе, прочла вслух статью. Я читала с большим одушевлением. Я чувствовала, как они злятся и, что греха таить, – это доставляло мне, не скажу удовольствие, но некоторое удовлетворение.
Одну минуту я подумала: а что, если бы теперь вошел Кривский? И мне представилась картина, как Сомов и Котулин с поднятыми кулаками бросаются на милого Николая Степаныча.
Когда я кончила, лица гостей были красны и как-то растеряны. Юрий Павлович метнул на меня злобный взгляд и взял из моих рук книгу.
– Что значит декламация, – произнес он насмешливо. – Чтение Лизы мне напомнило известную пародию на пафос немецких пасторов. Шутник, то повышая, то понижая голос до трагического шепота, читает немецкую азбуку. Выходит, как будто проповедь, а на самом деле a-b-с… Разрешите мне, почтенные коллеги, прочесть вам эту шумиху попроще.
И Юрий Павлович, развалившись в кресле, стал читать… с комментариями, с прибавлением смешных словечек, с уморительными интонациями и жестами. Хорошие, честные слова зазвучали пошло, глупо, детски напыщенно… Коллеги покатывались, слушая Юрия Павловича. Я отлично понимала, какое это с его стороны недостойное гаерство, но не могу не признать, что такое умение – своего рода tour de force[88]88
Подвиг, проявление силы.
[Закрыть]. Когда хохот затих, Котулин, самый рьяный из приверженцев Юрия Павловича, заметил:
– А ответить что-нибудь этому Цицерону обязательно.
– Полноте, – возразил Юрий Павлович, – это значило бы играть на руку врагам. Вся наша сила в том, что мы ни на что не отвечаем. Мы стоим на твердой почве национальных интересов, национальных верований, непоколебимых традиций – и всякую трату времени на препирательства с нашими семинарскими либерпансерами я считаю вредным. Наша задача слишком высокая… и т. д.
Коллеги окончательно возликовали и, наперерыв друг перед другом, стали излагать свои чаяния и надежды. Я в миллионный раз слушала истины о том, что пора отрешиться от рабского страха перед чуждым мнением и затрепанными словами.
– Свобода совести! – иронически восклицал Сомов, – веротерпимость! Нашли чем пугать… Мы, слава Богу, не гимназисты.
Юрий Павлович поморщился:
– В этом я не совсем с вами согласен, Сомов, – заговорил он на самых бархатных нотах. – Но противники наши ошибаются, обвиняя нас в неуважении к таким элементарно-культурным принципам, как свобода совести. Мы ничьей совести не насилуем, но не желаем, чтобы насиловали и нашу совесть. Мы никого ни к чему не принуждаем, но смею думать, что и мы свободны не допускать в наше святое святых чуждый, враждебный, разрушительный элемент.
Я не могу передать той оргии восторга, который обуял единомышленников и друзей Юрия Павловича. Котулин бросился его целовать. Жирный Сомов с умилением лепетал:
– Золотые слова, золотые уста…
Башевич благоговейно взирал то на патрона, то на меня, и вздыхал, думая, вероятно, что таким образом он угождает обоим. За ужином Сомов называл Юрия Павловича апостолом, подвижником и государственным человеком, а меня старался уверить, что он только кажется грубым материалистом, а на самом деле чистокровный эстетик, что он плачет, слушая Шопена (это правда) и готов часы простаивать на коленях перед “тоненькой девочкой с нежной шейкой и этакими худенькими, трогательными плечиками”. Сомов еще долго бы изливался на эту тему, но его прервал Котулин. Он вдруг ударил по столу и грянул: “А мой совет турнуть Николку из сословия… паршивая овца… По моему, кто не за нас, того в шею… а все эти священные заветы – одна ерунда”.
Это было уже слишком. Сомов расхохотался, Башевич испустил осторожное хе-хе, а Юрий Павлович резко заметил: “Ты пьян, Котулин, но все же надо знать меру. Это неприлично”.
Котулин струсил:
– Ну, насчет заветов, это я, кажется, в самом деле того, махнул немножко. Что ж! Я не упрям и беру свои слова назад. Это и в парламентах случается.
Когда компания разошлась, я не вытерпела и, посмотрев прямо в глаза Юрию Павловичу, спросила:
– Скажи мне, зачем тебе это нужно?
– То есть, что собственно, – начал он, будто не понимая.
– Ты отлично знаешь, что. К чему ты притворяешься со мной?.. Меня ведь ты не обманешь. Я бы желала знать, какая у тебя цель… Ведь тебе даже невыгодно продавать свою душу. Сколько бы ты ни старался, там на тебя всегда будут смотреть как на подозрительного перебежчика.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































