Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
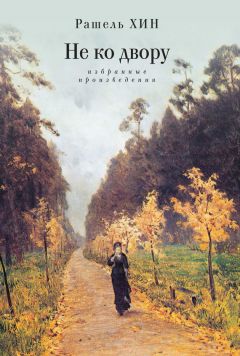
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
– Что я сделала, Боже мой, – было первой мыслью Сары, когда она пришла немного в себя. – Он говорит – подумать о нашей будущей жизни… но ведь ее не будет, ее не может быть… единственное спасенье – бежать! – пронеслось у нее в голове и ей вдруг страшно стало…
Пришла Дуняша звать ее чай пить. Она приказала сказать Серафиме Алексеевне, что у ней болит голова, и она не может сойти вниз. Голова у ней в самом деле горела, как в огне. Она намочила в воде платок и приложила к своему сухому лбу. Снизу доносились до нее смешанные голоса; она отличила между ними звучный, грудной голос Бориса Арсеньича. Как он весело смеется, он надеется… она забылась под этот неясный говор и заснула тяжелым сном.
Когда она проснулась, было уже утро. Солнце косыми лучами врывалось в комнату сквозь спущенные темные шторы, освещая золотистым светом поднимавшийся с полу тонкий прозрачный столб пыли. Сара изумилась, увидев себя совершенно одетой, и недоумевала, неужели она проспала со вчерашнего дня. В голове у ней было смутно. Она встала, расправила отяжелевшие члены и, подняв штору, толкнула окно. На нее пахнуло утренней свежестью. Птицы громко щебетали в вышине. На деревне заливались петухи. Не успевшая еще высохнуть роса блестела светлыми каплями в траве и на листьях. Последние румяные облачка зари уплывали разорванными клочками за горы. Дуняша медленно подметала зеленым веником террасу. Сара ее окликнула. Она подняла вверх растрёпанную голову.
– Проснулись, Сара Павловна? А уж как вы, было, нас вчера напугали.
– Чем это?
– Да как же! Пришла это к вам постель стлать, только вижу, вы спите; тронула я вас за руку – дескать, проснитесь, да куды – ничего не слышите. А рука то у вас горячая, словно жар, и от всей от вас так и пышет. Я даже испужалась. Позвала барыню, пришли барышни, стали одеколоном вам виски примачивать. Борис Арсеньич был еще тут, хотел верхом за доктором посылать, да барыня решили подождать – так Борис Арсеньич и просидели до зари. Да, неужто, вы ничего не слыхали, Сара Павловна?
– Решительно ничего.
– Ишь ты, притча какая, Господе Иисусе!.. Знать это вам солнышком голову напекло. А теперь как вы себя чувствуете?
– Ничего, слаба немножко, подайте мне, Дуняша, умыться воды, похолоднее.
– Сейчас, Сара Павловна, да уж я вам заодно и чаю своего принесу, а то коли их дожидаться– просидите до вечера не пимши, не емши. Ведь сегодня у нас такая суматоха поднимется, что не дай Бог.
– А что такое?
– Да переезжаем всем домом к Борису Арсеньичу, в двенадцать часов приедет за нами полковник.
Сара совершенно растерялась от этого известия, не зная, что ей предпринять. Скоро поднялся весь дом. Все с беспокойством расспрашивали о ее здоровье и очень обрадовались, узнав, что она чувствует себя лучше. Началось укладывание вещей, упаковка сундуков, уборка посуды. Серафима Алексеевна поминутно теряла ключи, бегала по всем комнатам отыскивать их, крича чуть не со слезами:
– Орочка, Оленька, Сара Павловна, да куда же вы их девали? Дуняша, не видала ли ты? Ты вечно их куда-нибудь сунешь! – и не могла прийти в себя от изумления, находя злополучные ключи в своем же собственном кармане.
И вот Сара уже в новой комнате, в том самом кабинете, в котором Оленька объявила о предложении Николая Иваныча. Комната все так же хороша, даже еще лучше, потому что огромное окно открыто и врывающиеся в него ветки старой липы усыпают пол и мебель нежными, душистыми цветками. За камином постлана кровать красного дерева с вычурной старинной резьбой каких-то таинственных сфинксов. Костя и сын Николая Ивановича, которого он привез погостить к своей невесте, возятся с огромной собакой.
– Буду проводить все время с детьми, – решает, наконец, Сара, – а после свадьбы Оленьки уеду.
Это решение ее успокаивает.
Проходит почти две недели. Серафима Алексеевна с дочерьми целые дни занята портнихами. По всем комнатам валяются обрезки разных материй, лент и кружев, во всех углах торчат картонки. Серафима Алексеевна не нарадуется на Сару. Она не только ни на минуту не отпускает от себя детей, но еще вызвалась помогать ей по хозяйству и так все ловко делает, как будто это для нее шутка. Доброй Серафиме Алексеевне даже жаль, что она так трудится, похудела и побледнела от постоянной беготни, и она успокаивает себя мыслью, что к свадьбе Оленьки непременно подарит ей шелковое платье. Коломин ходил молчаливый и хмурый. Он понимал, что вся эта лихорадочная деятельность вызвана только желанием забыться и избегнуть разговора с ним. Он следит за ней с напряженным вниманием и с тоской замечает, что лицо ее с каждым днем становится бледнее, что у нее что-то болит, что она часто внезапно останавливается посреди какого-нибудь дела и хватается прозрачной рукой за сердце. Он хочет подойти к ней, но она поспешно заговаривает с кем-нибудь и ускользает от него. Наконец, ему удалось поймать ее в саду. Мальчики бегали, а она сидела на скамье, опустив глаза в книгу. Увидав Коломина, она поднялась и хотела было позвать детей, но он взял ее за обе руки и почти насильно посадил ее на скамью.
– Погодите, – сказал он, – я хочу, наконец, знать, что с вами.
– Со мной ничего, Борис Арсеньич, пустите меня, пожалуйста.
– Сара, я ведь не Серафима Алексеевна, меня не обманете; я жду от вас ответа… Пожалейте меня, по крайней мере, я ведь тоже измучился, скажите мне что-нибудь.
Ее бледные губы страдальчески изогнулись.
– Простите меня, Борис Арсеньич, – тихо, с усилием выговорила она, – я тогда ошиблась, я вас не люблю!.. – И, вырвав у него свои руки, убежала.
Прошло еще несколько дней. Серафима Алексеевна с дочерьми и Николаем Иванычем уехала куда-то на именины на весь вечер. Мальчики, уставшие от дневной беготни, ушли спать. Сара осталась, наконец, одна. Она чувствовала, что силы ее покидают, что ее что-то душит, словно могильная плита давит ей грудь. Она сняла платье, накинула капот и, распустив свои тяжелые косы, легла на кушетку. В открытое окно тихо смотрела чудная благоухающая ночь, звезды ярко блестели в темной глубокой синеве неба. Верхушки деревьев чуть слышно шелестели в саду. Серебряный луч луны играл на паркете, падая причудливыми зигзагами на сумрачное лицо Иоанна Грозного, и он, казалось, ожил и медленно кивал своей бронзовой головой.
– Что мне делать, что мне делать! – мучительно повторяла Сара, ломая в отчаянии руки.
Она встала с кушетки и подошла к портрету Коломина.
– Милый мой… милый мой… что мне делать? – зашептала она, опять прижимаясь к холодному стеклу… – и вдруг почувствовала, что сзади ее крепко обвили две руки. Она обернулась и слабо вскрикнула, увидев бледное лицо Бориса Арсеньевича.
– Так ты меня любишь! – страстно говорил он, – Я ведь тебе не поверил, когда ты сказала, что нет…
Он отнес ее на кушетку и, опустившись перед ней на колени, стал осыпать ее руки, шею, волосы, платье горячими поцелуями, произнося отрывисто:
– Слабая моя, нежная, лучезарная моя красавица… перестань же, наконец, мучиться… отдайся мне без страха… без боязни… Я увезу тебя и спрячу от всех…
Она не сопротивлялась его ласкам, сердце ее трепетно замирало и билось, как пойманная птица… Полуоткрытые глаза глядели на него с бесконечным блаженством. Она уронила свою руку на его густые седеющие кудри и притянула его к себе. Он поднял голову
– Ты остаешься?..
Было уже поздно, когда Борис Арсеньич ушел от Сары. Она стояла среди комнаты, улыбающаяся, опьяненная… Вдруг что-то больно кольнуло ее, точно она что-то вспомнила. Глухое, безнадежное рыдание вырвалось из ее груди.
– Никогда, никогда! – говорила она, словно защищаясь перед кем-то, – я не смею…
Она подошла к письменному столу, схватила перо и написала дрожащей рукой:
“Милый мой, я не остаюсь, я ухожу… Я не могу иначе. Не ищи меня, не проклинай меня… Я несчастнее тебя… Но пойми, пойми и прости меня… мы не можем быть счастливы. Меня бы загрызли воспоминания, а ты истерзался бы, глядя на меня.
Мы встретились слишком поздно, а я не умею забывать. Да и что значат несколько лишних лет!.. Не могу больше писать. Слезы душат меня. О, Борис, как я тебя люблю… Твоя Сара”.
Она, рыдая, вложила письмо в конверт и надписала адрес. Потом стала торопливо собирать в саквояж необходимые вещи, все уложила и, сделав над собой усилие, написала четким почерком Серафиме Алексеевне записку, в которой умоляла извинить за внезапный отъезд, вызванный телеграммой из дому.
– Вот и все готово, – промолвила она вслух, надев длинную тальму и закутав лицо густой вуалью. На минуту она остановилась и, окинув последним взглядом комнату, сняла со стены портрет Бориса Арсеньевича.
Бронзовый Иоанн, казалось, укоризненно смотрел на нее со своего мраморного постамента, липа печально кивала в окно темной головой… Сара добралась неслышными шагами до передней. На стуле, растянувшись, дремал швейцар. Она его разбудила:
– Петр, я получила телеграмму и должна сейчас же ехать. Наймите мне скорей извозчика на вокзал.
– Да ведь поздно, сударыня! – сказал, протирая изумленные глаза, швейцар.
– До отхода поезда остается еще полчаса, теперь половина второго, я успею, – только поторопитесь.
– Сию минуту-с.
Петр усадил ее на извозчика. Она передала ему письма для генеральши и Коломина. Извозчик дернул вожжами, крикнул: “Но… проклятая!” и пролетка с треском загромыхала по мостовой.
Луна давно спряталась; звезды стали погасать на бледном небе; на горизонте уже занимались желтые полоски зари; кругом все было тихо, и только какой-то подгулявший фабричный, сидя на завалинке, уныло выводил под скрип гармоники песню: “Вздумалось Терешке жениться, – тянул он плаксивым голосом вслед Саре. – Тетушка Матрена бранится… Да где ж тебя черти носили, Мы б тебя дома женили… жени-и-и-ли”.
Прошло полгода. В кабинете своем одиноко сидел за столом Борис Арсеньевич Коломин и что-то писал. Он очень изменился: обрюзг, постарел и сильно поседел. Еле заметные еще так недавно морщинки теперь глубокими складками бороздили все его лицо. В дверь осторожно постучались. Вошел лакей, неся ящик и письмо.
– С почты привезли, Борис Арсеньич, – доложил он и вышел. Коломин медленно распечатал письмо. Оно было писано по-немецки незнакомым женским почерком:
“Милостивый Государь! Неделю назад скончалась от застарелой болезни сердца моя племянница Сара Норд. Она сильно страдала бессонницей и, воспользовавшись моим отсутствием, приняла, дабы скорее заснуть, большую дозу морфия. Это ускорило печальный конец. Все наши усилия спасти ее оказались тщетны. Перед смертью – она сохраняла сознание до последней минуты – она выслала всех из комнаты и умоляла меня обещать ей, что я отошлю вам, милостивый государь, ее портрет, снятый несколько лет тому назад, золотое кольцо с ее инициалами и еще портрет неизвестного мне молодого человека, который она не выпускала из рук до последнего дыхания. Я взяла его у ней, когда она уже больше не принадлежала земле. Воля умерших священна, а потому пересылаю вам, милостивый государь, завещанные моей племянницей вещи. Примите, милостивый государь, уверение в полном моем уважении”.
Анна Позен, 188… г. Город “О”
Коломин провел бледной рукой по своему похолодевшему лбу. Затем вскрыл ящик: оттуда со звоном выпало кольцо; потом он вынул портрет – свой портрет; потом другой… помедлил мгновенье и быстро сорвал покрывавшую его бумагу. Сара, прекрасная, здоровая, полная жизни, во всем блеске расцветающей молодости – глядела на него своими чудными голубыми глазами… Коломин долго смотрел на этот портрет. Губы его дрогнули, голова опустилась на стол и глухой, надрывающий вопль огласил комнату.
– Сара… Сара – рыдал он. – зачем… зачем ты это сделала!..
Неделю спустя, Николай Иванович Раздеришин вместе с молодой женой своей провожал на вокзале N-ской дороги уезжавшего заграницу Коломина. Николай Иванович пошел в буфет закусить. Оленька осталась одна с Борисом Арсеньевичем.
– Послушайте, я давно собиралась вас спросить, – начала она застенчиво, – не знаете ли вы, что сталось с Сарой Павловной?
– Она умерла, – тихо ответил Коломин.
– Умерла! – воскликнула Оленька, – как жаль! Я ее очень любила, хоть она и была еврейка… Она была какая-то особенная… и какая красавица!.. Борис Арсеньич, мне казалось, что вы ее любили, – вдруг сказала Оленька.
Глаза его мгновенно наполнились слезами.
– Я ее и теперь люблю, – промолвил он.
Они немного помолчали.
– А представьте, какое у нас горе, – начала опять Оленька, – ведь Ора в монастырь уходит, мама положительно убита.
– Зачем же ее стеснять, – сказал Коломин, – быть может, ей там будет лучше.
Раздался звонок. Николай Иванович проворно выбежал из буфета. Коломин простился с Раздеришиным и вскочил на площадку вагона.
– Когда же ты думаешь назад, на родину?
– Не знаю, право, – загадочно улыбаясь, ответил Коломин, – может быть никогда…
Поезд медленно тронулся.
Борис Арсеньевич снял бобровую шапку и кивал своей седой головой махавшей ему платком Оленьке, пока она не исчезла из глаз.
Одиночество
(из дневника незаметной женщины)
Действующие лица:
Лиза – автор дневников
Юрий Павлович – ее муж, влиятельный юрист
Лили – их дочь, капризная девица
5 октября 189…
Какая Лиля властная! Она решительно не переносит, чтобы я смогла интересоваться чем-нибудь, кроме нее. Стоит мне взяться за книгу, сесть за рояль, или, сохрани Боже, за мольберт – ее всю передергивает. Даже, когда она молчит, я чувствую, как следит за мной ее негодующий взор. Иногда я нарочно делаю вид, что не замечаю ее гнева. Тогда она подходит к моему стулу и своим насмешливым, тягучим голосом процеживает: – Что это ты намазала, мама? Дерево? Дом? Человека?.. Не разберешь!.. С отцом она гораздо почтительнее. Ну, да с ним и неудобно воевать. А как бы ни говорили, требует бескорыстной любви к искусству, по крайней мере, в момент “священной жертвы”. А Лиля всегда тешит только себя. Сегодня она очень сердилась на Юрия Павловича. Он не отходил от молодой Дроздовой. Она прехорошенькая, – эта львица сезона – с большими, выпуклыми, тупыми глазами, с бриллиантами на спине, на шее, на башмаках… О ней много говорили эту зиму. Все маменьки были возмущены. В самом деле! Дочь какого-то бедного чиновника, и вдруг такая “партия”! Самого Дроздова подцепила. (Сам Дроздов – толстый развязный малый из нынешних университетских купцов). Рассказывают, что когда он сделал предложение, отец невесты от счастья сошел с ума, забыл все слова, кроме “золото” и все повторяет: золото, золото, золото…
Как это глупо, что, несмотря на свои седые волосы, я все еще не могу свыкнуться с мыслью, что деньги – винт, на котором вертится мир. Сколько завистливых взоров провожало сегодня чету Дроздовых!
По рядам шепотом произносили их имя.
Во время перерыва их окружала “I’elite”[57]57
Элита.
[Закрыть].
Кого тут только не было! Знаменитый доктор, модный пианист, прославленный художник, почтенные старухи, редактор ученого журнала… Каждый по-своему faisait sa cour[58]58
Вписывался в картину.
[Закрыть]. Юрий Павлович тоже. И ведь не нужны они ему вовсе. И барыня эта ему нравится лишь поверхностно. Но таково уж обаяние “железного сундука”. Даже выгод это знакомство ему не сулит. Как ни падок на деньги мой любезный супруг, он нигде не состоит юрисконсультом. У него на этот предмет уж и фраза готовая: “зачем я пойду в услужающие. Придет час воли божьей, их степенства сами ко мне пожалуют”. И жалуют…
Давно уже Лили меня так не пилила, как сегодняшний вечер. Ей было досадно, что Юрий Павлович так просто и легко не замечает нашего присутствия.
– Папа точно нас стыдится, ворчала она, он даже не глядит в нашу сторону… а все ты! Мы бы отлично могли сидеть в первых рядах…
– Лили, слушай музыку!..
– Не могу я слушать в такой духоте.
К счастью, к нам подошел Бунин, московский библиофил, меценат и эстет. Кресло его оказалось рядом с нами. Едва он уселся, как стал осыпать Лили самыми патетическими комплиментами. Она мгновенно прояснилась и сделалась так мила, что все мое недовольство ею рассеялось, как дым. Бедная моя девочка! Очень понятно, что с такой красотой не хочется теряться в толпе…
А как хорош был концерт! Перед эстрадой в темной зелени лавров, белел бюст Антона Рубинштейна и, казалось, прислушивался к звукам Бетховенского похоронного марша. Еще так недавно он сам его играл! Мне очень понравился певец – нежный ласкающий баритон. Он превосходно спел:
“Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали”…
Сердце так сладко и печально заныло. Вспомнилась молодость… Много в ней было тревог! Да зато путь расстилался впереди такой длинный… Как легко сдвигались с места горы!.. Какие мерещились подвиги… Словно в ответ на мои мысли баритон пропел элегический романс, кончающийся словами:
“Сны беззаботные, сны мимолетные
снятся лишь раз”…
У меня навернулись слезы. Я закрылась веером от Лили. Она терпеть не может “сентиментальности”. Как на меня действует музыка. Особенно некоторые вещи. Стоит заиграть например: “Лунную сонату” Бетховена и в душе начинают гореть старые раны… Vergessene Traume erloschene Bilder[59]59
Забытые грезы.
[Закрыть]… все, что манило, все, что так безжалостно обмануло. Самое ужасное – ничего нельзя вернуть, взять назад. Вот и сегодняшний концерт! Сколько раз в этой самой зале будут раздаваться те же звуки. Их будут петь другие уста, они будут волновать другие сердца… а те, кого мы взрастили, кому отдавали всю силу любви, давно забудут путь к нашим могилам… Все это, конечно, неизбежный закон жизни, но ведь от этого не легче.
Однако, уж и Юрий Павлович звонится. Должно быть очень поздно…
6 октября
Сегодня с утра истории. Не успела я проснуться, как в спальню явилась Даша с поджатыми губами и своей обычной манерностью, в которой столько яду, стала “докладывать”.
– Как вам будет угодно, Лизавета Константиновна, а извольте приказать Ивану не ругаться. Я не виновата, что он не в своем виде… Я честная женщина… кажется, не воровка, не пьяница, не грубиянка… (Тут она сделала паузу, очевидно ожидая выражения сочувствия. Но я молчала, и она залилась горючими слезами).
– Тычет мне любовником… а я, как перед Богом истинным… я двенадцать лет вдовею после мужа, и не только что… а можно сказать, как монашка сама себя веду…
(И ведь отлично знает, что мне известен ее возлюбленный – отвратительный мальчишка, буян и лентяй, которому она отдает все свои деньги.) Моя бесчувственность ее разозлила. Она утерла слезы и с явной решимостью меня “донять” зачастила:
– Конечно, я вам не могу угодить перед Иваном. Он и то все хвастается: за меня, мол, барыня… двадцать пять лет ее знаю, еще в бедном положении, говорит, ее помню…
После этой “стрелы” я пытаюсь остановить поток Дашиного красноречия:
– Ты чего от меня хочешь? Чтобы я прогнала Ивана?
– Смею ли я вам указывать, – смиренно возразила Даша. – Вы в своем доме госпожа… А только пожалуйте мне расчет… Потому что хоть я и прислуга, а тоже всякому малодушному лакею над собой измываться не позволю… Конечно, Юрий Павлович и Елена Юрьевна не так об моей службе понимают… (Этот намек обозначает, что она пойдет на меня жаловаться Лили, которой давно хочется спровадить нереспектабельного Ивана). Я поневоле иду на компромисс и говорю:
– Я сделаю Ивану выговор. Подай мне одеться и замолчи. Даша понимает, что я струсила и покорно отвечает: слушаюсь.
Когда я вошла в столовую, Иван суетливо и озабоченно перетирал посуду. Он поднял на меня свое худое, небритое, жалкое лицо и отрывисто пробурчал:
– Здравия желаю.
И между нами в сотый, а может быть, в трехсотый раз повторилась сцена, которая нам обоим надоела, но выходит так, что это если не совершенная новость, то роковая случайность.
Диалог начинаю я:
– Ты опять пьян?
– Зачем пьян! Это вам Дарья нашипела. Ей бы только расстройство в доме… смутьянка… А вы бы, матушка, сказали ей – брысь! П-шла прочь…
– Да разве я сама не вижу, что ты пьян.
– Ах, Господи! – возмутился Иван. – Да чем же я пьян! С ног не валюсь, перед господами, как следует, – хвостом не верчу, а свиньей никогда не был и не буду.
– За что ты с Дашей воюешь?
Он визгливо захохотал.
– Воюю! Вот тоже слово сказали… Есть с кем воевать! На нее и внимания-то обращать не стоит… Ей и на свет-то незачем было родиться. Разве она человек?! Так, языком звенеть… азиятка…
– И оставил бы ты ее в покое.
– Никак невозможно. Везде беспорядок, в кабинете пыль. У первого в городе присяжного поверенного в кабинете пыль! Ведь это ее касается: на то она горничная. Ведь к вам, Лизавета Константиновна, люди ходят. Ведь совестно. Мое дело принять клиентов. Я уж знаю, кому какой черед. И вдруг – она лезет.
– Да она, может быть, помочь тебе хотела, – говорю я примирительно.
– За что помогать! Что я больной, что ли? Я свое дело сам управлю. А что я безобразия их видеть не согласен – это верно.
– Несносный у тебя характер, Иван. Сам ты вечно в чужие дела мешаешься.
Он уставился на меня своими маленькими, мутными глазами.
– Сказал бы вам на это я словечко… ну, только не скажу. А что до моего характеру, так это вы напрасно. Отличный характер: пьяница я – это правда, так ведь я свое собственное пропиваю, заработанное: и сапоги, и пиджак, и жилетку… такая уж, значит, моя судьба несчастная… Горе мое пьет, тоска.
– И все ты выдумываешь! Никакого у тебя горя нет, а просто…
– Про то мне лучше знать, – угрюмо прервал Иван. – Что я дурак что ли, чтобы пить с радости.
Умудренная опытом, что в этом направлении беседа может тянуться бесконечно, я строго объявляю:
– Довольно! Ссорьтесь с Дашей сколько угодно, только чтобы я вас не слыхала. Сейчас выйдет Юрий Павлович…
– Юрий Павлович не выйдет, – сообщил Иван и ухмыльнулся…
– Это почему?
– У них ночью был припадок подагры. До шести часов проблажил. Приказали себя не беспокоить, и чтобы клиентов принимали помощники. Страсть обрадовались. Двое уж домой ускакали…
10 октября
Юрий Павлович третий день лежит. У него приступ подагры, который повторяется раза два-три в год. Это не опасно, но довольно томительно. Лили в манеже. Она очень увлекается велосипедом и находит, что это самое действительное убежище от душевных бурь и кислой атмосферы в доме. Помощники ходят на цыпочках (что это за лакеи)! Когда у Юрия Павловича разыгрывается припадок, он делается неузнаваем. Победоносный вид исчезает, словно его никогда не было. Он как-то сразу весь опускается и стареет. Капризен нестерпимо, сердится на весь мир, но так как весь мир равнодушен к тому, что у Юрия Павловича подагра, то гнев его обрушивается на Ивана и на меня. Сегодня швырнул на пол чай: Иван забыл вынуть из стакана ложечку, и Юрий Павлович обжег губы. Боже мой, что было! Иван мгновенно испарился, и он накинулся на меня.
– Зачем пускаешь ко мне этого болвана? Где Даша? Не тряси кровать. Неужели нельзя осторожнее. Ах, пожалуйста, не гляди на меня такой зажаренной мученицей.
В эту минуту Иван совершенно явственно пробурчал за дверью: “Ровно маленький… не таскался бы по ночам и ноги бы не болели”.
Я со страху чуть не упала. Но туча прошла мимо. Юрий Павлович вдруг расхохотался, да так весело, что и я невольно засмеялась.
– Нет, каков нахал, – проговорил он уже совсем равнодушно и прибавил: – не сердись, Лиза. Ведь, если бы не эти “казусы”, ты бы давно забыла, что мы столько лет состоим в счастливом супружестве. Для разнообразия эта иллюзия семейной жизни, право, не дурна.
Как я устала. Я нисколько не сержусь на Юрия Павловича. Наоборот. Мне всегда его жаль и даже как будто неловко видеть его таким “развенчанным”. Мне кажется, его больше всего раздражает в болезни – безобразие… Оттого он никого к себе и не пускает, кроме Ивана и меня (нас он не стыдится), а все эти его крики: пошлите Дашу – пустые слова, один “форс” по выражению Ивана. Как хорошо, что “иллюзия семейной жизни” продолжается у нас не более двух-трех дней.
15 октября
Вчера у Лили были гости. Надя Кривская пела, Николенька безмолвствовал и влюбленными глазами глядел на Лили. Беленький играл на скрипке, Варя Карцева философствовала, Юлия Вальцова язвила… Башевич, бывший помощник Юрия Павловича, тоже был. Изысканно одетый, розовый с облизанной головой и рыженькими котлетками на щеках, вымытый, выхоленный – он весь точно куплен в английском магазине. Все на нем (и в нем) “первый сорт”. Башевич уже два года, как вышел в присяжные поверенные, и все еще называет Юрия Павловича “дорогой патрон” и возит нам с Лили конфеты, ноты, книги. Юрий Павлович говорит про него: этот, по крайней мере, благодарен.
Я стараюсь стушевываться на вечерах Лили, чтобы не мешать молодежи. Прежде я даже уезжала из дому, но убедившись, что мои старания излишни, теперь спокойно сижу в уголке или в своем кабинете, работаю, читаю, пишу. Молодые люди здороваются со мною и, затем, как бы забывают о моем существовании, – так они заняты собой. В знакомых Лили (она с особенной гордостью настаивает, что у нее нет “друзей”) меня всегда поражает одна черта: они решительно ничему не удивляются. Ни трепета, ни восторга, ни робости, ни сомнений… Они на все глядят с кривой усмешкой. Это у них считается “хорошим тоном ”.
Ближе всех с Лили Юлия Вальцова, дочь модного доктора, старого приятеля Юрия Павловича. У Вальцова огромная практика в светских кругах и богатом купечестве. Он очень не глуп, главное “себе на уме”: В прежние годы у он бывал у нас чуть ли не каждый день, первый сообщал мне о всех “frasques”[60]60
Выходки, шалость.
[Закрыть] Юрия Павловича, но убедившись, что это “ни к чему”, предоставил меня собственной судьбе. С дочерью у него оригинальные отношения: они друг друга “не стесняют”. И родители, и дети часто говорят, будто они уважают взаимную свободу, но у Вальцовых это на самом деле… Только, сдается мне, не от избытка нежности это у них вышло.
Юлии двадцать семь лет. Она нехороша собой, знает это и подчеркивает пренебрежение к своей наружности. Жидкие бесцветные волосы зачесаны назад, отчего большой плоский лоб кажется еще больше. На круглых, водянисто-голубых глазах с выпяченными, как у курицы, зрачками несуразно торчит pencenez. Одевается она неряшливо, шляпа всегда мала и сползает набекрень, платье не то жмет, не то висит, словно чужое. Юлия прошла всевозможные курсы, читает свободно по-латыни, по-гречески и на четырех европейских языках. Но странное дело! Из всех своих книг и наук она высосала лишь то, что пачкает, унижает человека, лишь то, что обнаруживает в нем зверя жестокого, развратного и лукавого. Стремление к вечному, борьба против насилия, любовь к ближнему, самопожертвование, героизм, поэзия, величие гения, божество в человеке – все это от нее ускользнуло. Есть такие мухи, которые питаются только гнилью. В кружке Лили Юлия слывет esprit fort[61]61
С сильным характером.
[Закрыть]. Другая девица, которую Лили более или менее удостаивает своей благосклонностью – Варя Карцева. Варя полная противоположность Юлии. Высокая, здоровенная, с неподвижным, красивым лицом, она добросовестно слушает все лекции, читает все книги, которые рекомендуют профессора, любит пьесы с направлением и ездила с матерью в Байрет. Мать, богатая вдова, ее очень балует и чистосердечно убеждена, что Варя, если захочет, удивит мир. Совсем не похожи ни на Юлию, ни на Варю и вообще ни на кого из кружка Лили – Надя и Николенька Кривские. Правда, они особенной породы. Мать их была женщиной необычайной красоты и кротости (Николенька ее вылитый портрет), а отец… старый enfant terrible[62]62
Возмутитель спокойствия.
[Закрыть], не хочет внять голосу благоразумия. Когда ввели новые суды, он весь ушел в “мужицкие дела”. За ним как-то само собой установилась репутация человека беспокойного. А потом, когда жажда благополучия угомонила самых рьяных, один Николай Степаныч Кривский не изменился и также беспечно проходил мимо золотого руна, как в дни молодости. Он и теперь такой же. Я его очень люблю. И дети у него славные…
Как Беленький играет! Скрипка поет и плачет в его руках. А какой он смешной, этот Беленький – крошечного роста, худенький, черномазый… Невежественен баснословно. Он как-то спрашивал Надю Кривскую, что наливают в электрические лампочки? Он еврей, недавно крестился, но всех уверяет, что родители его были крепостными какого-то польского магната. Вчера он с пафосом рассказывал, что ему во сне явился Николай Угодник и предсказал блестящую карьеру.
– Может, это был не Николай Угодник, а Моисей Пророк, – съехидничал Башевич.
– Я не имею с ним ничего общего, – важно произнес Беленький. Надя захохотала. – Вы напрасно об этом заявляете, Беленький, в этом и так никто не сомневается.
Лили не любит в своем “салоне” щекотливых тем, чуть что, она быстро и решительно меняет разговор.
– Какую я вам mesdames et messieurs, историю расскажу, начала она, – совсем анекдот! А между тем это факт. Я только не буду называть имен.
– Nomina sunt odiosa[63]63
Без упоминания одиозных личностей.
[Закрыть], – сказал Башевич.
– Ах, до чего вы банальны, – воскликнула Надя.
– Господа, я начинаю, – строго проговорила Лили. – Ну-с, вам, вероятно, известно, что я питаю пристрастие к разным talents d’agrement[64]64
Талантам.
[Закрыть]. Для выжигания по дереву мама пригласила француженку. Это соединение приятного с полезным: я выжигаю тарелки, ширмочки и упражняюсь во французской causerie[65]65
Болтовня.
[Закрыть], т. е. упражняется она, а я внимаю. Она преинтересная, моя mademoiselle: везде бывает, все знает и не делает никаких заключений. И, вот, она мне рассказала следующее: в одной полу-богатой семье имеются хорошенькие дочки. Их много вывозили и, чтобы утвердить свое положение в обществе, родители решили дать бал на славу. Истратили пропасть денег pour les закуски[66]66
На закуски.
[Закрыть], pour le cotillon[67]67
На танец котильон.
[Закрыть], разослали приглашения; барышни трепещут от блаженства. Вдруг накануне бала умирает бабушка, которая с ними жила. Переполох! Как быть!? Les закуски se gateront[68]68
Закуски испортятся.
[Закрыть] – да и бал придется отложить на год. Подумали-подумали да и заперли la grand’mere[69]69
Бабушку.
[Закрыть] в дальнюю комнату. Бал сошел блестяще, все остались очень довольны, et le lendemain on sortit la grand’mere de sa prison[70]70
На следующий день бабушку освободили.
[Закрыть] и похоронили честь честью. Каково?
– Мерзость, – сказала Надя.
– Свинство, – произнес Николенька.
– Tres fin de siecle[71]71
Хороший конец века.
[Закрыть] – заявил Башевич.
– По-моему, они поступили, как умные люди, – холодно возразила Юлия. – Скажи они своим гостям: бабушка нам надоела хуже горькой редьки! И умерла то она, словно нарочно, чтобы нам досадить – такая зловредная старуха… Ведь гости бы возмутились! А так они с аппетитом истребили закуски, поплясали, всем было весело… И бабушке никакого убытка. Не все ли равно трупу пролежать несколько часов в запертой комнате или на столе…
– Конечно, это предрассудок, – промолвила Варя Карцева и нерешительно прибавила: а все-таки…
– Ой, как страшно, – вдруг взвизгнул Беленький и закрыл лицо руками.
Его музыкальные нервы, очевидно, не могли перенести такого диссонанса.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































