Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
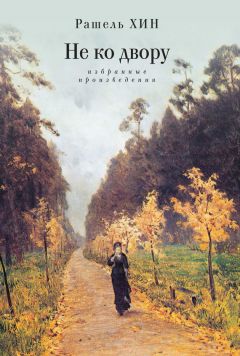
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
Александра Петровна гладила его по головке, целовала, клялась, что скоро сама за ним приедет. Потом она увела к себе в спальню мадам Пинкус. Там они о чем-то спорили. Яша слышал, как мать его рыдала и отчего-то отказывалась, а Александра Петровна ее убеждала: “пожалуйста, ну прошу вас…” Когда они вернулись в столовую, у обеих были заплаканные лица. Наскоро выпили чай. На Яшу надели новое пальто и шапку. Дуняша быстро уложила в корзинку его игрушки и вещи… На вокзал они приехали за полчаса до поезда.
Александра Петровна всячески утешала мадам Пинкус, обещала ей писать, просила беречь Яшу и повторяла, что много-много через год устроит ей это возмутительное “жительство”… Мадам Пинкус благодарила, но видно было, что она не верит ни одному слову – не потому, чтобы она сомневалась в добрых намерениях Александры Петровны, а потому, что “для евреев нет правды на земле, дорогая моя госпожа профессорша”. С помощью Дуняши, храбро протолкавшейся через плотную массу пассажиров, мадам Пинкус раздобыла себе местечко у окошка. Народу в III-ем классе было видимо-невидимо. Пробил второй звонок. Александра Петровна и Дуняша стояли перед тусклым окном вагона, откуда им кланялась мадам Пинкус. Вместе с нею кланялась и ее шляпа, на которой дрожал измятый огненно-красный цветок.
– Прощай Яша, до свиданья, мой милый мальчик, не грусти, мы скоро увидимся, – кричала Александра Петровна. Яша не отвечал. Его бледные губы были печально сжаты, а в его больших, не детских глазах точно застыл упрек… Поезд загромыхал и пополз, лязгая и пыхтя всем своим длинным, неуклюжим корпусом. Александра Петровна побежала было вперед, чтобы еще помахать платком уезжающим, но ее остановила Дуняша.
– Даже совестно, – сказала она строго, – словно кровных родных провожаете.
Макарка
Эскиз (из жизни незаметных людей)
…Весна в том году наступила рано. Лужи и целые ручьи грязи, ещё недавно широкой волной заливавшие улицы, сразу высохли под палящими лучами солнца, и вместо них уже завилась столбом пыль… По одной из кривых улиц Бабьего городка за Москвой-рекой шёл, согнувшись под ранцем и опустив голову, гимназист – черноватый юноша среднего роста, лет шестнадцати-семнадцати. Он был, по-видимому, сильно удручён, то и дело вздыхал, останавливался… Постояв минуты две на одном месте, он вошёл на церковный двор и в изнеможении почти упал на скамью. Кругом было совершенно тихо. Пахло талой землёй, свежей травкой… На нераспустившейся ещё берёзе, неутомимо чирикая, прыгали воробьи. “Не допущен, – прошептал гимназист, ломая руки, – не допущен, не допущен”, – повторял он ещё и ещё раз с возрастающим отчаянием. Губы его искривились, и слезинки быстро-быстро закапали из его уже заплаканных чёрных глаз. Всё его существо наполняла лишь одна мысль – как теперь показаться домой. Эта мысль сверлила в его мозгу с того самого рокового момента, когда до ушей его долетела ужасная фраза инспектора: “не допущены: Кабалкин Макар, Гаврилов Алексей” и т. д. Он отлично знал, что ничего не придумает, что идти домой нужно, и всё-таки ни о чём, кроме этого, думать не мог. “Нечего делать” – произнёс он вслух, встал, подтянул ранец и побрёл дальше медленным шагом, словно надеясь увеличить расстояние, отделявшее его от дома. Не глядя, завернул он в грязный переулок, весь угол которого занимал неуклюжий деревянный дом с мезонином. У открытых настежь ворот стояла женщина. Увидав гимназиста, она обратила к нему своё смуглое худое лицо с тонкими чертами и проговорила певучим гортанным голосом: “Что, Макарка, выдержал?” – Макарка ограничился кивком головы и молча прошмыгнул в калитку. Добравшись до своей комнаты, он с ожесточением сбросил с себя гимназические доспехи, дал тумака визжавшим и возившимся на полу братишкам и сестрёнкам и, сорвав таким манером сердце, бросился ничком на жёсткий диван…
Отец Макарки, Абрам Маркович Кабалкин принадлежал к тому довольно многочисленному разряду столичных евреев, которые слывут зажиточными, хотя зажиточность эта весьма проблематическая. Всю жизнь эти “богачи” бегают, хлопочут, суетятся, создают дела и – умирают нищими. Абрам Маркович торговал то мукой, то шерстью, то кожей, то дровами, заводил сыроварни и мыловарни, несколько раз прогорал до нитки и, точно по щучьему велению, опять всплывал на поверхность. Хитрый, пронырливый, вкрадчивый, он умел отгадывать слабые стороны нужных людей и бил на них. По роду своих занятий ему больше приходилось сталкиваться с мелким купечеством, аферистами, мещанами… Постиг он их до тонкости и презирал от всей души. При всём том ему не везло. Он часто жаловался на судьбу, и не без основания. Семья с каждым годом увеличивалась, потребности росли, и заработок поглощался с изумительною быстротой. Дома Абрам Маркович являлся безграничным самодуром и тираном. Он, казалось, хотел выместить на домашних те унижения и разочарования, которые ему приходилось выносить на рынке житейской суеты. После долголетней и упорной междоусобной войны он смирил жену, ревнивую, пылкую и очень неглупую женщину. Она опустилась, состарилась, охладела ко всему и выходила из себя только при слишком очевидной неверности супруга или особенно экстраординарных потасовках, которые он задавал детям. Сама она, впрочем, никогда не переставала бранить и щипать своих “разбойников”. Разбойники смотрели на эти проявления родительской нежности совершенно равнодушно, даже презрительно. Не то было с отцом. Его отношения к детям были чрезвычайно своеобразные. Пока они были малы – он их обожал и баловал самым бессмысленным образом; заливался от восторга, когда сынишка на его ласкательное: “ах ты, жулик”, шепелявил: “ти сам зюлик”, прославлял их необычайный ум, мечтал, что они покроют славой его имя. Но наступил школьный возраст и с ним целый ряд неудач, переэкзаменовок и всевозможных мучений. Бестолково веденные и не особенно способные дети учились вяло. Отец бил их беспощадно. Так было со старшим сыном, который, ожесточённый, сбежал из родительского дома в странствующую труппу акробатов и пропал без вести; так было со старшей дочерью, которую он безуспешно клялся “сгноить” в гимназии. Её выключили, и он в отместку выдал её замуж в захолустье за глуповатого парня, над которым, при редких посещениях, глумился всласть.
Теперь очередь была за Макаркой. Когда мальчик с грехом пополам выдержал экзамен в гимназию, отец подарил ему три рубля и заявил: “Ну, смотри у меня, умри, а будь доктором”. И потянулась для бедного Макарки целая вереница тяжёлых лет. Он был тихий, робкий, мечтательный мальчик, любил стихи, музыку, удачно подбирал на стареньком, купленном по случаю, фортепиано разные мелодии и даже решился однажды намекнуть отцу о консерватории, но, получив лаконичный ответ, что и без него много музыкантов в Москве, больше уж не заикался об этом предмете. Существование Макарки распалось на две половины: с утра до трёх часов он трепетал в гимназии, после трёх – трепетал дома. Учение ему не давалось. Он не питал ни малейшего интереса к гимназическим наукам. Греческий язык и латынь представлялись ему карой Божией, воплощённой в образе двух извергов-учителей. Особенно ненавидел он греческого учителя – рыжего, толстого немца, безбожно коверкавшего русский язык. Этот почтенный педагог любил поострить в классе и предметом своего остроумия охотнее всего избирал жидков.
– Господин Кабалкин Мордко – вызывает он, например. – Мордко или Мошко? – переспрашивает он как бы в недоумении. Макарка, весь пунцовый, молчит – А, мошет бить, ви Хаим или Шмуль, а по-русску это выходит Евгений – продолжает глумиться учитель.
Макарка по-прежнему безмолвствует.
– Господин Мордко-Хаим Шмуль, отшего ви молшить как отравленний крыса? Ушитель с вами разговаривайт, а ви мол-шит? Или ви приехал вчера из Бердичев и не умейт говорит по-русску?
– Лучше вас умею! – неожиданно выпалил Макарка
Учитель подымается на кафедре, дрожа от гнева.
– Што ти сказал? Du Taugenichts![248]248
Du Taugenichts! – Ты негодник!
[Закрыть] Што ти смел сказать? Ви не уважайт нашальство! Du Judenfratze[249]249
Du Judenfratze… – Еврейская рожа…
[Закрыть]…
Вышла целая история. Учитель требовал исключения Макарки из гимназии. Когда об этом казусе узнал Абрам Маркович, он выпорол сына до крови и собственною персоною потащил его в гимназию просить прощения у разъярённого немца. Немец смиловался, но при переходе из четвёртого в пятый класс срезал Макарку на экзамене. Макарка остался на второй год. Учился он из рук вон плохо. Он просиживал целые часы над учебниками, ничего не видя, ничего не понимая, в каком-то тупом отчаянии, с тяжёлою тоской, давившей его детское сердце. Локти его как-то сами собой упирались на замасленную, загнутую по углам греческую грамматику, на эти локти опускалась черноволосая голова Макарки, и… он отдавался мечтам. Воображение уносило его далеко-далеко от окружающей действительности, в уютную, чистенькую квартирку. На окнах дешёвенькие цветы, клетка с краснозобым снегирем; на полинялом диване шитая гарусом подушка; в переднем углу образок в венке из бумажных роз. На стуле сидит женщина с добрым, преждевременно поблекшим лицом, и шьёт что-то. Иголка быстро мелькает в её проворных пальцах. Рядом с ней два мальчика – один худой и жалкий – Макарка, другой русый и румяный – её сын – пишут, наклонившись над тетрадями.
– Дети, отдохните – говорит женщина, – ишь, заморились! Митя, прикажи самовар! Макарушка, куда ты? Погоди, с нами чаю напьёшься.
– Благодарю вас, Аксинья Ивановна, мне пора домой, – говорит Макарка, и так ему не хочется уходить из этого тёплого гнёздышка… Но он боится оставаться. Опоздаешь домой, начнётся брань: где таскался.
Ах, как Макарка любил Аксинью Ивановну, как плакал, когда она переехала в какой-то уездный город! И Митя тоже!..
Какой был славный мальчик, какой товарищ. Никогда его жидом не называл и в extemporale всегда помогал… А впрочем, ему немудрено быть хорошим – мать ласкает, ободряет… Бывало, он скажет: “Мама, ну как я срежусь?” А она ему: “Бог милостив, не срежешься, а случится грех – что же делать! Посидишь ещё годик”…
Был у Макарки ещё товарищ, или, вернее, друг, перед которым он благоговел – студент Давид Блюм. Родители Давида, богатые люди, были старинные знакомые Макаркиных родителей. Макарка с детских лет привык видеть, с каким подобострастием его отец и мать относились к Блюмам, как они готовились к их редким посещениям, что не мешало им, конечно, за глаза бранить их за непомерную гордость и важничанье. – “И чего они нос дерут? – говаривала его мать: – такие же евреи, как и мы, тоже в Шклове родились, не в Париже…” Но Макарка не верил матери. Он был влюблён в дом Блюмов, и ему казалось совершенно невероятным, чтобы джентльмен Блюм, у которого дети после обеда так чинно целуют руку, и его отец, раздающий направо и налево оплеухи – были одно и то же. Нет, Блюмы – настоящие аристократы. У них такая чудесная квартира, такая чистая, вежливая прислуга, учителя, гувернантки… Дочки, хоть и шалуньи, но такие прелестные, ласковые девочки, особенно Лина… и так хорошо говорят по-французски… Совсем, совсем не похоже на евреев… Правда, Макарка смущался, когда в детские апартаменты неожиданно входила мадам Блюм, и, поговорив с гувернанткой, скользила равнодушным взглядом по его робкой фигурке, точно он не живой мальчик, который так почтительно ей кланяется, а табурет или графин. То ли дело – Аксинья Ивановна! Всегда встречала его приветливою улыбкою: “Здравствуй, мой голубчик!..” Но ведь Аксинья Ивановна – простая акушерка, а мадам Блюм – такая важная богатая дама! Зато Давид! Макарка обожал его. Это был его идеал. Какой он умный, образованный, честный…Как он говорит! Как пишет! Какой он красавец! Макарка гордился им, был счастлив малейшим знакам его внимания. Ни тени зависти не питал он к своему блестящему другу. О, напротив! Он отдал бы всё-всё, пожертвовал бы жизнью, чтобы видеть его на вершине славы, почестей… Особенно блаженствовал Макарка, когда, благодаря какому-нибудь торжественному событию, вроде именин, его оставляли ночевать у Блюмов. Днём он бегал по поручениям всех членов семейства, в том числе и своего друга, который гонял его за перчатками, галстуками, духами… Зато ночи – ночи искупали всё! Только, бывало, разъедутся гости и он с Давидом улягутся по кроватям – между ними начинались бесконечные беседы. Говорил, конечно, Давид, а Макарка внимал. Давид говорил о еврействе и о том, что молодёжь еврейская должна посвящать все силы на служение своему несчастному гонимому народу, что в эпоху народного бедствия позорно думать о личной карьере, личном счастии… и ещё много-много хорошего говорил он. Макарка был пламенный патриот. Он весь дрожал, весь горел, слушая Давида, не сводил с его лица восторженных глаз; он упивался его словами и чуть не плакал от умиления, что такой возвышенный, такой бескорыстный человек удостаивает его, бедного Макарку, своей откровенности…
И ни разу не пришло ему в голову усомниться в Давиде; ни разу не задал он себе вопроса, насколько в этих красноречивых тирадах правды и насколько они – повторение того, что он нашёптывал за ужином хорошенькой барышне; ни разу не поставил он мысленно своего героя в неблагоприятную обстановку, подобную, например, его собственной… И теперь, замечтавшись о нём, Макарка забыл своё горе, свои неудачи, забыл о надвигающейся грозе… Раздавшиеся в соседней комнате шаги заставили его разом очнуться. Это пришёл отец обедать. Макарка вспомнил, что он “не допущен”, “не допущен на второй год” – и почувствовал, как у него по спине забегали мурашки. Что сказать отцу? Соврать? Сказать, что ещё не было совета? Нет, догадается… “Эх, кабы Давид тут был, выручил бы”, – подумал он, хотя Давид никогда ни из чего его не выручал… “А вдруг отец не спросит?” – мелькнуло смутной надеждой в его душе. Он присел на кончик стула и ждал, как приговорённый, что вот сейчас, сию секунду, дверь раскроется – и его поведут на расправу…
* * *
– Макарка, обедать! – прозвучал сиплый голос матери. Он не отозвался. Дверь скрипнула, и в отверстие просунулась взъерошенная голова семилетнего Лёвушки.
– Макарка, иди обедать – прошептал он фальцетом и скрылся.
Макарка с трудом поднялся. Семья уж была за столом. Лёвушка и Соня хлебали из одной тарелки, задевая друг друга ложками. Младшие дети сидели подле матери. Абрам Маркович углубился в еду, не обращая, по-видимому, никакого внимания на копошившуюся около него мелкоту. Макарка уселся за свой прибор и принялся машинально глотать жиденький суп. Отец бросил на него пристальный взгляд.
– Вызывали тебя сегодня? – спросил он.
– Да, – тихо ответил Макарка, не поднимая глаз.
– Из чего?
– Из математики.
– Сколько? – Тройка.
– Тройка! – презрительно повторил Абрам Маркович, – больше не мог, голова бы лопнула?
Макарка ничего не возразил, только ещё ниже наклонился над тарелкой. В эту минуту он пламенно жаждал лишь одного, чтобы обед поскорее кончился, и ему удалось улизнуть в свою комнату. Подали жаркое и кашу. Несмотря на полное отсутствие аппетита, он уписывал с таким усердием свою порцию, точно три дня голодал. Он надеялся, что так он будет менее подозрителен. И в самом деле, туча, казалось, на сегодня пройдёт мимо. У Макарки совсем уже было отлегло от сердца, он с облегчением стал оглядываться вокруг, как вдруг отец опять обратился к нему с вопросом.
– Что, Макарка, – спросил он, – перейдёшь в этом году?.. И странное дело, в суровом голосе Абрама Марковича точно дрогнула просительная нотка.
– Не знаю, папаша, – робко прошептал Макарка.
Лицо Абрама Марковича моментально приняло столь знакомое его семье деревянное выражение.
– То есть, как же это ты не знаешь? – произнёс он, отчеканивая каждое слово. – Кому же это нужно знать? Мне, что ли? Ведь я не спрашиваю у тебя, почём дрова или сколько звёзд на небе… Я спрашиваю: довольно ли для такого болвана, как ты, сидеть по два года в одном классе?
Макарка, побледневший как полотно, нервно вертел пуговицы на своём мундире и упорно глядел в пол. Отец подошёл к нему ближе.
– Ты чего молчишь, негодяй? Язык проглотил, оглох? Ты не слышишь, что я с тобой говорю?
– Слышу…
– А, слышишь? Слава Богу! Может быть, ты удостоишь ответить?
– Я не знаю, чего вы хотите, – растерянно пролепетал Макарка, озираясь как пойманный зверь
Абрам Маркович иронически засмеялся.
– Он не знает, чего я от него хочу! Слышишь, Хана, как твой милый сынок разговаривает! – обратился он к жене. – Он не знает, чего я от него хочу! Сумасшедший отец требует, чтобы он сделался профессором, а он не может! Бедняжка! – Абрам Маркович плотно придвинулся к сыну. – Я тебя в последний раз спрашиваю, – повторил он, схватив его за воротник, выдержишь ты экзамен или тебя выгонят вон?
Макарку вдруг будто толкнуло в голову и грудь. “Всё равно умирать”, – подумал он и, подняв свои чёрные глубокие глаза, казавшиеся ещё чернее на его помертвевшем лице, он тихо, но совершенно отчётливо вымолвил:
– Я не допущен.
– Что?! – вскричал Абрам Маркович, как ужаленный.
– Я не допущен, – так же тихо и так же внятно повторил Макарка.
На мгновение все застыли. Ещё мгновение, – и раздался оглушительный треск пощёчины. Дети залились плачем и прижались к матери. Она бросилась к мужу, стараясь освободить из его бешеных рук Макарку. Но он оттолкнул её одним взмахом кулака. Он бил Макарку, как исступлённый, по чём попало. Тот не издавал ни одного звука, ни одного стона, и только когда совершенно обезумевший отец стал таскать его за волосы по полу, он не выдержал мучений и, поймав его палец, впился в него зубами.
– Ах, ты щенок! Кусаться! Ах, ты мерзавец! Жена! – крикнул он, – зови дворника, мы сейчас его выпорем…
Макарка разжал зубы и одним прыжком очутился у двери.
– Ступай вон, подлец, ступай вон! – прохрипел Абрам Маркович. – Если придёшь назад, я тебе все кости переломаю.
Макарка обратил к нему своё истерзанное избитое лицо.
– Я вас ненавижу! – крикнул он надорванным, осипшим голосом и, раскрыв дверь, исчез.
Макарка бежал, точно за ним гнался легион демонов. Пробежав несколько улиц, он очутился в каком-то глухом переулке и, сообразив, что его здесь не поймают, остановился перевести дух. У забора какого-то строящегося дома возвышалась куча щебня. Макарка сел на эту кучу. Голова у него горела и кружилась, тело ныло от побоев. Он провёл рукой по спутанным волосам и тут только заметил, что он ушёл без шапки. Чувство оскорбления, злобы переполняло все его существо, душило его. Он ещё не мог разобраться в хаосе волновавших его ощущений. Его охватила неудержимая, жгучая, чисто физическая потребность, в свою очередь, сделать больно, раздавить, убить, уничтожить… Кого? – отца и всех, всех… Весь мир представляется ему жестоким, неумолимым врагом, созданным на его, Макаркину, погибель. Сдавленное обидой и негодованием сердце билось и замирало в его груди, как раненая птица. “Всё кончено, всё кончено, – шептал он, – после этого нельзя жить”. Ему стало страшно жалко самого себя, из глаз брызнули слёзы. Всё его избитое тело заколыхалось от рыданий… Сырая вечерняя свежесть охлаждала его пылающую голову. Безвыходность положения впервые предстала перед ним, и он содрогнулся. – Куда идти?.. К кому обратиться?.. К Давиду? Нет, нет… зачем ему видеть такого несчастного… Умереть!., ничего больше не остаётся… Но как?., броситься в воду?.. Макарке вспомнился один утопленник, которого он видел, синий, распухший, с стеклянным неподвижным взором… Нет, это слишком ужасно… Отравиться? – нечем… Вдруг его точно озарило… Простудиться. Да… это самое лучшее… Он подумал ещё немного, потом встал и решительным шагом отправился обратно к дому. Ворота были отперты. Он осторожно проскользнул за дровяной сарай, где, он знал, стояла кадка с водой. Тут же рядом стояла телега. Макарка влез в неё, разулся, подобрал штаны выше колен и опустил ноги в кадку. По пяткам, потом всё выше и выше точно забегали иголки. Макарка вздрогнул, но скрепился и ещё глубже опустил ноги в воду.
“Простужусь, – думал он, – простужусь и умру”. – И злоба к отцу всё разрасталась в его душе. Отомстить ему хоть своей смертью. Пусть радуется, одного сына уже загубил, теперь другого. И зачем жить!.. Вечная ругань, никогда доброго слова не услышишь, целый день будто в котле кипишь. Учиться не могу… Будет, намучился… Одну только мать жалко, не сладко ей тоже… Ну ничего!., поплачет и забудет. Ещё ведь целая четвёрка остаётся на утешение и на съедение.
У Макарки начали неметь ноги. Он их вынул на минуту, но тут же рассердился на себя. – Струсил, подлец, – процедил он сквозь стиснутые зубы, – холодно стало, домой, на кроватку захотелось – так вот нет! Околевай, коли жить не умел… – и он с остервенением заболтал ногами в кадке. А ноги коченели всё больше. Он уже не чувствовал холода и вообще переставал чувствовать и думать о чём-либо. Бесконечная усталость сковала его члены, глаза сами собой сомкнулись… Последним проблеском воли он сделал над собой усилие, чтобы их раскрыть, но утомление победило. Он свалился, как сноп, в телегу и моментально заснул глубоким сном.
И приснился Макарке сон. Он увидел большую, залитую огнями залу, сверкающую белыми мраморными колоннами, наполненную нарядной публикой. На обитой красным сукном эстраде разместился оркестр. Шум смолк. На эстраду вышел певец. И вот пронеслись первые звуки. О, какая чудесная мелодия! Нежная и могучая, жалобная и торжествующая… Вся зала притихла, как один человек, и жадно внимает каждому звуку, вылетающему из груди певца. И лицо у этого певца – как у Макарки, только никто его не знает… а он поёт всё лучше… Царственно-прекрасная женщина, вся в бархате, цветах и бриллиантах, и худенькая, бедная Аксинья Ивановна – прильнули друг к другу, как сёстры, и обе слушают умилённые, точно зачарованные, песню-молитву, поющую о вечной любви, для которой нет ни богатых, ни бедных. Во всей зале только одно лицо остаётся суровым и угрюмым – это лицо отца. Но Макарка теперь волшебник. Он ясно видит, как в сердце отца зияет рана, и из этой раны сочится тёплая кровь. Эта кровь сочится за потерянных детей… Он потерял всех детей, все его покинули… Он один, одинок. И Макарка запел для него одного! В песне послышался детский плач и детские ласки и смех… И рана в сердце отца стала исчезать, глубокие морщины разгладились у него на лбу, он поднял на Макарку радостные, просиявшие глаза, он узнал его и бросился к нему с восторженным криком… Но в этот миг разверзлась страшная, мрачная бездна, Макарка полетел туда с ужасной быстротой – и всё, всё пропало…
Макарку на рассвете отыскал работник, шедший за дровами в сарай. Ему почудился чей-то голос, он оглянулся и увидал Макарку, полусидевшего в телеге и оживлённо жестикулировавшего. Он подошёл к нему, заговорил с ним и, убедившись, что тот его не понимает, подумал: “уж не рехнулся ли хозяйский сын”, – и побежал будить хозяйку. Когда Хана увидела Макарку, у неё подосились колени. Он лежал, разметавшись в телеге, с голой грудь ю и ногами, и что-то быстро и невнятно бормотал. На его пылающих щеках виднелись следы слёз.
– Фёдор, неси его в дом, я тебе помогу, – приказала она работнику. – И один снесу, – возразил тот, взяв мальчика в охапку. – Ишь ты, как распалился, сердешный; аспид-то ваш совсем заел паренька, – прибавил он откровенно.
Хана не отвечала и вся в слезах поплелась за работником. У крыльца она наткнулась на Абрама Марковича. Он собирался уходить, но, увидев группу, невольно остановился. Жена повернула к нему искажённое гневное лицо.
– Радуйся, – проговорила она, – довёл ребёнка до могилы.
– Ладно, не подохнет, – отрывисто ответил отец, но на суровом лице его что-то дрогнуло, когда перед его глазами промелькнули бессильно болтавшиеся Макаркины ноги.
Эти бедные голые ноги полоснули его по сердцу, как ножом. Он прошёлся несколько раз по двору; валявшиеся возле кадки с водой Макаркины сапоги объяснили ему без слов, в чём дело. Он бросился на конюшню, сам заложил лошадь в шарабан и во весь дух помчался за доктором.
У Макарки открылся тиф. Несколько дней он беспрерывно бредил, никого не узнавая. Придя в сознание, Макарка очень удивился, увидав себя в своей комнате, в кровати. На столе горела лампа под бумажным колпаком. По стенам скользили какие-то тени. Мать наклонилась над ним.
– Макарочка, тебе лучше? – проговорила она, и её сухая, загорелая от работы рука, поправила на его голове пузырь со льдом.
Он вскинул на неё удивлённый взгляд, очевидно стараясь припомнить, что такое с ним произошло. И вдруг он вспомнил… Обглоданное жаром лицо изобразило испуг.
– Отец, – пробормотал он, – я боюсь его; зачем ты меня привела домой…
– Отец не сердится, – сказала она, – он жалеет, что погорячился, он тебя ведь любит, Макарчик…
– Оставь, оставь, – прошептал он, впадая в забытье.
Прошло ещё несколько дней. Макарка больше не бредил, он был в полном сознании, но страдал больше прежнего. Тиф осложнился воспалением лёгких. Пользовавший его доктор, смущённый таким оборотом болезни, предложил созвать консилиум. Пригласили двух знаменитостей, которые, заставив домашнего врача прождать два часа сверх назначенного срока, наконец приехали. Они помяли бедного Макарку на разные лады, выстукали его, выслушали, потом немножко поспорили между собой: одна знаменитость утверждала, что у больного обыкновенная чахотка, другая настаивала на просовидной бугорчатке. Обе, однако, согласились, что субъект безнадёжен. Когда об этом объявили Абраму Марковичу, он затрясся как лист.
– Умереть… скоро? – промолвил он, глубоко переводя дух.
– Нет, он может протянуть ещё пять-шесть недель, даже два месяца, – ответил доктор, стоявший за бугорчатку, пряча в боковой карман двадцатипятирублёвую бумажку.
Абрама Марковича точно ударили обухом по голове. Он отлично слышал медицинский приговор, но не поверил ему, не мог поверить. – Врут, врут они, – утешал он самого себя и побежал к сыну, как бы желая убедиться воочию, что доктора соврали. Макарка узнал шаги отца. У него упало сердце, и колючая боль в груди, которая его не покидала, сделалась до того невыносима, что он зажмурился и закусил губы. Отец присел на край кровати и осторожно взял его за руку. Макарка вздрогнул, раскрыл глаза и встретил прямо устремлённый на него взор отца. И столько было в нём нежности, горя, страха, что у
Макарки ещё сильнее сжалось сердце, но теперь уж от жалости к отцу. Ввалившиеся глаза налились слезами, а сухие истрескавшиеся губы прошептали:
– Простите меня, папаша.
– Не волнуйся, не волнуйся, – говорил отец, оправляя дрожащей рукою одеяло, – выздоравливай только, всё будет хорошо. Странное дело! И голос у Абрама Марковича был не тот, и лицо не то… Неужели же Макарка не знал своего отца? Неужели он ошибся? Ему вдруг представилась та минута, когда он, избитый, окровавленный крикнул отцу: “я вас ненавижу!” Где эта ненависть? Она растаяла, испарилась от одной неожиданной ласки отца. Как он благодарен ему за эту ласку. Макарка схватил его руки и покрыл их поцелуями.
– Простите меня, папаша, – зашептал он опять, – я буду учиться день и ночь, я ведь и прежде не ленился, но мне не давалось… Я попробую ещё раз…
И Макарка так горько разрыдался, что только с большим трудом удалось его успокоить.
Лето стояло в полном разгаре. Макарка лежал в своей постели и умирал – от обыкновенной чахотки или от просовидной бугорчатки – не всё ли равно… Его окружала нежность, к которой он совсем не привык. Мать не отходила от него, но особенно поражал его отец. Доктора, лекарства, лакомства, дорогие вина… Абрам Маркович ничего не жалел. Каждую свободную минуту он проводил у постели больного, разговаривал с ним, измерял температуру, и только по тому, как дрожали его руки, Макарка мог безошибочно судить, что жар увеличился… – “Вышло опять сорок” – думал он, и ему гораздо больше было жалко отца, чем себя, и всё яснее становилось ему, что он слишком поторопился его осудить…
О гимназии и обо всём, что предшествовало той ужасной ночи, не было помину. В доме царствовала тишина. Лёвушка и остальные дети возились в палисаднике, и никто их не бранил за бездельничайние. Иногда Макарка просил, чтобы их привели к нему. Они приходили, усаживались вокруг его кровати и боязливо глядели на него – такой он был худой и необыкновенный. Он ласкал их, отдавал им свои лакомства, прижимал их ручки к своим багровым красным щекам. Дети молчали: им было не по себе в этой комнате, пропитанной запахом лекарств. Макарка замечал это, вздыхал и отпускал их в сад.
– Ступайте, деточки, играйте, – говорил он им с грустной и нежной улыбкой.
Никто ни разу не слыхал от него ни одного стона, ни одной жалобы.
– Тебе хуже, Макарчик, – скажет ему мать, когда, обессиленный мучительным приступом кашля, он прислонится головой к высокоподнятым подушкам.
– Нет, мамочка, ничего, не беспокойся…
– Как бы мне хотелось видеть Давида, – сказал он однажды отцу. – Ты ему не писал, что я болен?
– Я сам ездил к Блюмам. Они ведь теперь на даче; Давид был тут раз, но ты в это время спал.
– Ах, зачем, зачем меня не разбудили! – воскликнул Макарка с невыразимой тоской. – Неужели я больше его не увижу? – прибавил он и, отвернувшись к стенке, заплакал.
– Не плачь, Макарчик, я тебе сегодня же привезу твоего друга, – утешал его отец.
* * *
Красивое свежее лицо Давида Блюма изобразило сильнейшее изумление, жалость и даже страх при виде ссохшегося маленького личика Макарки, с которым от радости сделался такой припадок кашля, что он не мог вымолвить ни одного слова. Наконец он успокоился, кашель стих, он взял в обе свои худенькие влажные руки белую, выхоленную руку Давида и произнёс:
– Спасибо, что приехал. Вот друг… а то бы и не увидались.
– Не говори, голубчик, тебе вредно.
– Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, позволь мне с тобой поговорить! – взмолился Макарка и значительно прибавил:
– Мне нужно с тобой поговорить
– Ведь ты задыхаешься!
– Ничего, ты только наклонись ко мне.
Давид почти приник к подушке.
– И как это ты так расхворался? – спросил он.
С остановками и перерывами Макарка рассказал историю своей болезни.
– Видишь, – закончил он тяжёлым шёпотом, – я сам во всём виноват.
– Ты?! Нет, не ты, а этот самодур, тятенька твой.
Макарка глубоко вздохнул.
– Вот, вот… я знал, что ты так скажешь, произнёс он горестно. – Я потому и хотел тебя видеть, чтобы попросить тебя… чтобы объяснить, что он совсем не так виноват. О, Давид! я теперь всё, всё понял… Нужно его пожалеть, а не унижать презрением. Иначе все дети погибнут! – воскликнул он.
Давиду показалось, что у Макарки начался бред.
– Бог с тобой, успокойся, какие дети?!
– Да наши! – нетерпеливо возразил Макарка. – Когда я умру, все скажут, что отец меня уморил, будут глядеть на него как на зверя… Он ещё больше ожесточится… и бедные Лёвушка, Соня, Лиза и Миша пропадут, и будет с ними то же, что и со мною. Заступиться некому, а когда они поймут, что отец не изверг, что он просто не знает, как сделать лучше – будет поздно. Я теперь всё понял. Разве он для себя желал, чтобы я был учёным? Ему хотелось, чтобы мне жилось полегче, чтобы я не гнул с утра до ночи спину, как он, чтобы какой-нибудь купчина не говорил мне, как ему: вы, жиды, с отца родного рады рубашку снять. Он мечтал, чтобы я был такой, как ты. Милый, милый! Нельзя же обвинять его в том, что он не понимает, что я тебе – не ровня, что одному Бог даёт всё, чтобы вознести его над толпой, а другой – весь век проживёт червяком… Он видел, как твой отец гордится тобой, и ему, бедному, было больно, что я такой неблестящий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































