Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
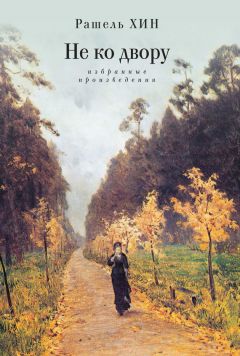
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
Софья Петровна с серьезным сосредоточенным видом пожимала руки своим гостям. В зеленоватом платье с широким кушаком, стягивающим ее тонкую талию, и гладко причесанными волосами, она казалась совсем молодою девушкой. Сидевшая неподалеку от нее Люсенька (мать, по ее настоянию, осталась дома) мысленно оценивала и примеряла на себя ее туалет. Коробьин сел за отдельный столик, на котором стоял графин с водой, стакан и две свечи и, окинув строгим взглядом собравшееся общество, стал читать громким, чересчур громким голосом, выдававшим то невольное волнение, которое овладевает автором, как бы мало он ни придавал значения своей аудитории. Впрочем, он скоро оправился, голос зазвучал увереннее. Он читал бы недурно, если бы не преувеличенные паузы, подчеркиванья и нюансы, которыми обыкновенно отличается дилетантское чтение. Роман был написан бойко. Действующие лица распадались на две категории – добродетельных и порочных. Добродетельные неуклонно стремились к идеалу и претерпевали… Порочные творили всякие бесчинства и наслаждались. Герой, современный человек, коварно предавший друзей молодости, бросивший на произвол судьбы обольщенную им девушку и ее ребенка, быстро поднимается по общественной лестнице и достигает “степеней известных”. Он не только ни разу в жизни не ощущает потребности оглянуться на прошлое, но даже не испытывает ни малейшего волнения при встрече, по прошествии двадцати пяти лет, с когда-то опозоренною им женщиной, со своим собственным сыном, которого мать – воплощение всех совершенств – воспитала идеалистом и энтузиастом, ежеминутно готовым на подвиг.
В общем, роман оставлял впечатление неопределенное и вялое, несмотря на слова бодрость, энергия, самодеятельность, уважение к личности, общественные интересы, которыми были уснащены все страницы. Все слушали с почтительным вниманием. Софья Петровна то опускала долу, то поднимала на автора свои удивительные глаза. Ее самолюбию льстило, что Коробьин, этот “известный”, “уважаемый”, “передовой” писатель – читал у нее и… для нее. Она знала, что от всех этих женщин-тружениц и святых матерей, которых он так трогательно описывает, – он побежит к ней, стоит ей только поманить его. Это сознание власти разнеживало ее, делало ее особенно мягкою и снисходительною. Она точно озаряла всем своим благоволением и с кроткой лаской усадила подле себя Елену Ивановну, которая затаив дыхание, с нескрываемым обожанием глядела на своего “великого человека”. По окончании чтения Софья Петровна рассыпалась в похвалах автору. Люсенька объявила, что роман – восторг, сравнила Антона Филипповича с Руссо, упомянула об альтруизме и свободе воли. Автор, занятый хозяйкой, отвечал рассеянно на все похвалы и обиженная Люсенька, с уязвленным выражением, обратилась к жене романиста, надеясь в ней встретить большее сочувствие. Но бедной Елене Ивановне было не до нее. Она смотрела, как муж целовал у Софьи Петровны руку, благодаря ее за внимание к его работе, смотрела как Софья Петровна, скромно улыбаясь, говорила, что напротив… это такой… такой жгучий вопрос… она так интересуется… так благодарна… И глаза ее, когда она это говорила, так неотразимо сияли из-под полуопущенных, длинных ресниц, что романист не выдержал и вторично нагнулся к ее руке. У Елены Ивановны сдавило сердце. “Мне он никогда так руку не целовал”, – подумала она, и вспомнилось ей, как она влюбилась в Антона Филипповича, увлеченная его горячими речами. Он был тогда молодым, подающим “блестящие надежды” сотрудником видного журнала. С первых же шагов их совместной жизни вся проза легла на ее плечи. Бессонные ночи за шитьем, за скучными переводами, у изголовья больных детей… томительная беготня за грошовыми уроками… лишь бы он не отвлекался от своей работы, не тратил своего таланта по мелочам. Как она радовалась его возрастающему успеху. А потом… когда случилась “история”. Сколько порогов она обегала, сколько слез пролила пред чиновничьими бесстрастными лицами… И все это забыто. Ему нравятся остроумные, изящные женщины, а она неуклюжа, больна, раздражительна. Он смотрит на нее как на обузу… Прежде хоть Лелей звал, а теперь Елена Ивановна.
Аграфена Ивановна внесла второй самовар. Наташа, до сих пор сидевшая в уголке, принялась за свои обязанности разливания чая. Люсенька, на которую никто не обращал внимания, подсела к Хомутову.
– Что же вы ничего не скажете о романе Антона Филипповича? – спросила она.
– Я слушаю вас и Софью Петровну. При таких очаровательных критиках я не смею иметь своего суждения. При том в романе всего больше трактуется о воспитании, а это для меня вопрос посторонний. Детей у меня, слава Богу, нет…
Софья Петровна возмутилась.
– Это вопрос общечеловеческий, – заметила она строго.
– Какой эгоизм, – воскликнула Люсенька. – Я всегда так думала…
Хомутов рассмеялся.
– Помилуйте, – возразил он, – вы хотите, чтобы я у Антона Филиппыча хлеб отбивал. Chacun son metier[195]195
Каждому свое.
[Закрыть], я торгую картинами, – он назидательными книжками
– Вы ошибаетесь, Хомутов, я своими книгами не торгую, – произнес Коробьин, значительно упирая на слово торгую.
– Извините, я не знал, что вы их пишете задаром.
– Не задаром. Я получаю гонорар за свой литературный труд, но я работаю лишь в органах, известного, симпатичного мне направления. В смысле “презренного металла”, – прибавил он шутя, – ваше положение гораздо выгоднее. Вы со спокойной совестью можете продать свою картину тому, кто больше за нее даст.
– Совершенно верно, я потому и сделался живописцем, а не сочинителем, – сказал Хомутов так серьезно, что Люсенька не без удовольствия подумала: “ага, брат, съел гриб”.
Но Софья Петровна, не любившая в своем “салоне” недоразумений, поспешила переменить разговор.
– Все это шутки, сказала она, – а я хочу знать ваше настоящее мнение о романе.
– Что ж! Роман хороший – измена, любовь, гражданская скорбь, все как следует… Только вот ангелоподобная героиня, вы уж простите, Антон Филиппыч, – немножко подгуляла.
– Сделайте одолжение, не стесняйтесь. Только чем же она подгуляла?
– Глупа очень, – пояснил Хомутов. – Мало ей, что она самим фактом рождения поставила сына, как бы это сказать, ну, в… неудобное положение, нет, она из кожи лезет, чтоб окончательно испортить ему жизнь бессмысленным воспитанием.
Каждому свое.
– Бессмысленным! – с изумлением возразил Коробьин. – Не потому ли, что она стремилась пробудить в сыне лучшие стороны человеческого духа?
– Именно. Мать, прежде всего, должна желать своему ребенку счастья. А для этого нужно, во-первых, – выучить его лгать, во-вторых, – пользоваться чужим трудом, ибо чужим трудом приобретается почет, положение и всяческие радости, собственный же ничего не дает, кроме унижения и рабства. А ваша героиня со своею вечною декламацией: работай, говори правду, служи делу, – с пеленок обрекла сына на страдание.
– Страдающий человек лучше, чем блаженствующая скотина, – возразил Коробьин.
– Все зависит от манеры выражаться, Антон Филиппыч. Скажите, вместо блаженствующая скотина, – трезвый практик, и выйдет очень прилично.
Люсенька всплеснула руками. Коробьин презрительно усмехнулся. Елена Ивановна с сожалением поглядела на художника. Даже Наташа, в своем уголке за самоваром, повела плечами с каким-то печальным недоумением. Софья Петровна нахмурилась
– Неужели вы совсем не умеете говорить серьезно? – произнесла она.
– Я и не думаю шутить, – отозвался художник. – Вольно же вам не верить. Да ведь в действительности все родители так и поступают, если не словом, то примером.
– Вы, вероятно, судите по собственному воспитанию, – с деланным смехом проговорила хозяйка.
– И по собственному тоже, – невозмутимо заметил Хомутов.
– Бывало, мать моя бранит бабушку и вдруг увидит меня. – Федя, милый, не говори бабушке, что я ее бранила, я тебе дам пряник, а скажешь – все уши отдеру. – Должен, впрочем, прибавить, что мать моя, как женщина необразованная, оставляла многого желать по части дипломатии.
– Так что по-вашему образование убивает искренность, – ядовито спросил Коробьин.
– Несомненно. Цивилизация учит человека скрывать свои чувства. И это очень хорошо. Искренность немыслима в культурном состоянии. Искренний человек – это дикарь, который лезет с дубиной на всякого, кто ему не по нраву.
– Вы невозможны сегодня, – сказала Софья Петровна, – я вас прогоню.
– Оставьте его, – миролюбиво промолвил Коробьин, – которому надоели эти прения, – знаете пословицу: чем бы дитя не тешилось, а Федору Алексеичу всегда нравилась роль enfant terrible[196]196
Возмутитель спокойствия.
[Закрыть].
Он тряхнул своею львиною гривой и, придвинув свое кресло к креслу Софьи Петровны, уселся в него с видом человека, которому очень хорошо.
Елену Ивановну всю передернуло.
– Антон Филиппыч, – обратилась она к нему – пойдем домой… поздно.
– Я еще посижу, – сказал он, – но если тебе хочется домой – я тебя не стесняю.
– Как же я одна, – проговорила она с возрастающим волнением, – поздно и темно…
– Что за институтство, Елена Ивановна. С каких это пор ты стала бояться ходить одна. Мать троих детей и боится пройтись вечером по улице. Ступай, ступай, дети, чай, заждались тебя.
Елена Ивановна еле сдерживала слезы.
– Право, Антон, пойдем, мне, право не по себе.
– Идите, идите, Антон Филиппыч, – сказала Софья Петровна. – Жена велит, надо слушаться.
– Елена Ивановна, разрешите мне остаться еще на полчаса, – улыбаясь попросил Коробьин, но улыбались только его губы, глаза холодно и строго смотрели на жену.
– Позвольте мне довести вас до дому, Елена Ивановна, – вызвался Хомутов
– Ну вот тебе и кавалер нашелся, – промолвил усмехаясь муж.
Елена Ивановна стала поспешно прощаться, ни на кого не глядя.
– И я с вами, – заявила вдруг Люсенька и тоже стала прощаться.
Возмутитель спокойствия.
XVIАгариной опять стало хуже. Лихорадка почти не покидала ее. Добрый Франц Адамыч забегал к ней по нескольку раз в день, уверял ее, что все идет “досконале, бардзо, добже”, пустяки, незначительное обострение; но наедине с Наташей доктор грустно покачивал головой, приговаривая: “Горит, бидачка, с двух сторон горит”. Наташа почти не отходила от больной. Софья Петровна заметила по этому поводу дочери: “Tu poses pour la soeur de charite”[197]197
Ты искала себе роль в филантропии.
[Закрыть] но этим и ограничился ее протест. Она была слишком занята в это время собой. Наташа ночевала у Агариной, чередуясь с Аграфеной Ивановной, которая, казалось, совершенно забыла свое недавнее предубеждение против “актерки”, – так терпеливо, ловко и спокойно она ухаживала за ней. Она же первая осмелилась заговорить с больной о священнике, о котором ни Наташа, ни доктор не решались даже упоминать. Примостившись как-то вечером у кровати Агариной, Аграфена Ивановна дипломатически стала бранить докторов и лекарства.
– Вот так-то, матушка, – рассказывала она, – и я год цельный провалялась в больнице, рана у меня в ноге открылась. И резали-то они меня, живодеры, и каленым железом жгли – ничего нет легче. Лежу я это и плачу… Не молоденькая, а умирать не хочется. Весь век мне за единый час показался, а пожить-то думаю и не успела. Вдруг наша нянька, умственная была женщина, и говорит: “Тебе бы, Аграфенушка, священника позвать”. И что же, матушка, послушалась я ее, исповедалась, приобщилась, и так мне после этого легко стало, ровно гора с плеч. Через неделю из больницы выписалась, а там меня простая девушка травами вылечила, вот и тут есть татарка, тоже травой лечит, очень, говорят, от груди помогает… Не позвать ли вам ее, Евгения Николаевна, а?
Девушка обратила к ней свое исхудалое лицо
– Что ж позовите, – промолвила она слабо.
– И батюшку уже заодно, – вкрадчиво вставила Аграфена Ивановна.
В глазах больной промелькнул испуг.
– Разве мне так плохо? – спросила она
– Ничего не плохо. А все-таки надо и о душе подумать. —
Хоть то возьмите, жили вы в актрисах, а уж актерская жизнь известно – один соблазн, и не хочешь, да согрешишь. Может, Господь и болезнь на вас наслал, чтобы вы покаялись. И чего вы, матушка, боитесь! Ведь поп не могильщик, с собой не унесет, придет и уйдет, – пошутила Аграфена Ивановна.
Больная отвернулась к стене и молчала.
– Аграфена Ивановна, чего вы к ней пристали, – сказала Наташа, которая тревожно прислушивалась к их разговору.
– Вовсе не пристала, – недовольно ответила Аграфена Ивановна. – Чай душа-то у нее христианская, а вам, Наталья Васильевна, довольно стыдно их смущать.
– Она права, оставьте ее, – заговорила Агарина. – Я согласна, Аграфена Ивановна, сходите за священником… да поскорей, хоть сейчас.
Ночь прошла спокойно. Наташа, совсем одетая, спала крепким сном на диване. Вдруг ей почудилось, что ее зовут. Она раскрыла глаза. Было еще очень рано, около четырех часов утра.
– Вам нужно что-нибудь, Женя – спросила она.
– Нет, я хотела только вам сказать, что мне в самом деле стало лучше после… вчерашнего (она не хотела сказать после исповеди)… Спите, голубушка, я вас разбудила. Какая вы добрая… какие все добрые.
Наташа закрыла усталые глаза, но не прошло и получаса, как больная опять ее окликнула.
– Посмотрите, какое утро – сказала она, и, протянув руки, прибавила: – Наташа, милая, хорошая, исполните мою просьбу.
– Что такое? – спросила та, подходя к ней.
Агарина обвила рукой ее шею, прижалась щекой к ее груди и робко зашептала:
– Я хочу встать… там в шкафу висит платье…белое. Я хочу одеться и походить по комнате… можно?
– Вы устанете, Женя
– Ну, пожалуйста, пожалуйста, не отказывайте мне, – говорила чуть не плача Агарина. – Я не устану, право, у меня есть силы. Наташа поняла, что противоречить бесполезно и чтобы успокоить больную, вынула из шкафа платье. Агарина обрадовалась, как ребенок, села на кровать, начала одеваться и причесываться, но сейчас же утомилась и покорно отдалась в руки Наташе. Та несколько раз останавливалась, чтобы дать ей отдохнуть, уговорила ее лечь, но она капризно твердила, не хочу, не хочу. Наконец, туалет был кончен. Наташа посадила ее в кресло и подкатила к окну. Солнце уже выплыло из-за гор и весело сияло на чистом прозрачном небе.
– Как хорошо, как хорошо, – блаженно улыбаясь, повторяла Агарина слабым, как шелест листьев, голосом. Тонкий румянец разлился по ее бледным щекам. Она закрыла глаза и затихла. Аграфена Ивановна, пришедшая сменить Наташу, ахнула, увидев Агарину одетую и в кресле. Та открыла глаза и улыбнулась своею прежнею плутовскою улыбкой, словно радуясь, что вот она всех перехитрила
– И какая же вы красавица, барышня, – воскликнула Аграфена Ивановна, – чистый ангел!
– Правда? – промолвила она, – дайте мне зеркало, я так давно себя не видала.
Аграфена Ивановна, не замечая строгого взгляда Наташи, сняла с комода зеркало и поставила перед больной. Она поглядела на себя долгим взглядом, потом сразу отшвырнула зеркало и заплакала…
– Какая я страшная стала, – прошептала она сквозь слезы, – а была хороша… все говорили – и точно устыдившись этой внезапной слабости, она нахмурилась, согнулась, съежилась и поникла головой, точно подстреленная птица.
Наташа посоветовала ей прилечь. Она безропотно позволила себя перенести на постель, и лишь, когда ее хотели раздеть, уцепилась пальцами за платье. Наташа ушла и вернулась только после обеда
– Что? – спросила она шепотом Аграфену Ивановну.
– Спит.
– Все время?
– Все время.
Наташа подошла к кровати. Больная лежала неподвижно и спокойно. Выбившийся из-под ленты темный локон еще более оттенял ее бледный лоб. Дыхания почти не было слышно, и только длинные, тонкие пальцы, тихонько перебиравшие платье, указывали, что жизнь еще не отлетела. Наташа испугалась этой зловещей неподвижности и отправила Аграфену Ивановну за доктором. Он явился, осторожно пощупал пульс и, нагнувшись к самому уху, Наташи, произнес:
– Агония, не мешайте ей…
Агарина умерла в тот же вечер, не выходя из своего тихого забытья…
XVIIДавно ожидаемый бал должен был состояться в конце февраля.
– И почему это ты не желаешь ехать? – обратилась Софья Петровна к дочери. – Вообще, я замечаю в тебе с некоторых пор что-то странное… держишься особняком, непонятою натурой. Если ты воображаешь, что тебе к лицу этот вид развенчанной королевы, то горько ошибаешься – ты просто смешна.
Наташа не отвечала. Софья Петровна, рассерженная этим молчанием, повелительно произнесла:
– Ты, кажется, не желаешь со мной разговаривать? Не собираешься ли ты поставить меня в угол за дурное поведение, – прибавила она, рассмеявшись коротким, нервным смехом. – Желала бы я знать, что значат эти мины?
– Бог с тобой, мама! Какие мины? За что ты сердишься, – промолвила Наташа, оглушенная этим потоком слов. – Я никогда не была особенно разговорчива, а теперь… Я все еще под впечатлением смерти Агариной. Куда ни пойду, все она, бедная, передо мной.
– Глупая сентиментальность, как и вся твоя возня с ней, – возразила Софья Петровна. – Je ne veux pas medire dune morte[198]198
Я не хочу говорить глупости.
[Закрыть], но все-таки скажу, что эта несчастная актриса имела на тебя самое дурное влияние. Ты стала похожа на какую-то нигилистку или курсистку, даже Коробьин мне говорил это.
– Вот как! И ты позволяешь этому господину делать тебе замечания на мой счет? – с горечью произнесла Наташа.
Софью Петровну немного смутил непочтительный тон дочери.
– Отчего же, – возразила она насмешливо. – Коробьин настолько порядочный человек, что с ним можно говорить обо всем. И чем он тебе не угодил! Ах, да! – воскликнула она таким голосом, точно ее внезапно озарила истина. – Хомутов к нему не благоволит. Кстати, этот интересный художник слишком явно за тобой ухаживает. Советую тебе быть осторожною. Он из породы мотыльков.
– За мной никто не ухаживает, мне этого не нужно, – угрюмо ответила Наташа.
– Ну конечно, – произнесла Софья Петровна тонким, протяжным фальцетом. – Мы так серьезны, так добродетельны, мы – выше мира и страстей. Одна беда – очень уж подозрительна эта наружная святость. Недаром ведь говорится, что в тихом омуте… ха, ха, ха!
Наташа не выдержала материнского пиления. На глазах ее сверкнули слезы.
– За что ты только меня мучишь? – проговорила она и отвернулась.
Софью Петровну так и повело от этих слов. Она была уже в той степени гнева, когда остановиться очень трудно.
– Мучу! Я тебя мучу! – воскликнула она, все больше и больше раздражаясь. – Еще бы! Дочка совершает геройские подвиги, а пустая кокетка-мать, изволите ли видеть, отрывает ее от болящих и страждущих… велит ехать на бал, где – о, ужас! будут танцевать, а не хныкать о суете мира сего. В самом деле! Какой позор для человечества!
– Мама!
– Я, право, удивляюсь твоему великодушию, – продолжала Софья Петровна, не слушая, – написала бы своему тятеньке, так и так, мол, chere maman[199]199
Дорогая маман.
[Закрыть] завертелась в вихре светских удовольствий, а меня держит в черном теле. Этот российский Шопенгауэр живо бы сократил непокорную супружницу. Впрочем, недолго я вам буду мешать… Очищу место… не бойтесь, – и бросившись на диван, Софья Петровна истерически зарыдала.
Дочь бросилась к ней.
– Мама перестань. Я поеду, куда хочешь, только, пожалуйста, перестань.
– О, я знаю тебя, – рыдала Софья Петровна. – Ты скрытная, но я тебя вижу насквозь. Вы оба с отцом ненавидите меня за то, что у меня в жилах кровь течет, а не кислая простокваша, как у вас.
– В том и горе наше, что ты не веришь, что у нас тоже есть кровь и нервы, – чуть слышно проговорила девушка, подавая матери воду.
XVIIIВ комнате было душно. Пахло духами и цветами. На столе, под голубоватым пламенем спиртовой лампочки, грелись щипцы; тут же стояли граненые флаконы, раскрытые футляры и плюшевые шкатулки с целым ворохом лент, перчаток, кружев. На диване и по стульям грудой валялись смятые юбки. Свет от двух ламп, висевших по обе стороны большого зеркала, падал на обсыпанное пудрой лицо Софьи Петровны. Она была в черном бархатном платье, с низко вырезанным лифом, эффектно выделявшим ее шею, плечи и руки. Наташа и Аграфена Ивановна ползали на коленях, в десятый раз перекладывая складки длиннейшего шлейфа. Софья Петровна находилась в предбальной ажитации.
– Это ни на что не похоже, – повторяла она капризно. – Не могли раньше позаботиться, чтобы все было в порядке.
– И то в порядке, – проворчала выведенная из терпения Аграфена Ивановна, – да разве на вас угодишь.
Наташа молчала. Она знала, что эта сцена повторяется каждый раз, когда мать одевается, и только пальцы ее еще проворнее забегали и замелькали по платью.
– Ай! – вскрикнула вдруг Софья Петровна, точно ее ужалила змея. – Ты меня всю исцарапала… Оставь меня… мне не нужно твоей милости… Все это нарочно, чтоб я осталась дома… Изволь, я останусь.
Она вырвала шлейф и, сев на диван, стала тихо и быстро барабанить ногой по ковру
– Мама, ведь я нечаянно тебя уколола, – проговорила Наташа звенящим от волнения голосом. – Как ты можешь думать, что я нарочно? Пожалуйста, встань! Сейчас будет готово, только в одном месте прикрепить. Уж поздно.
Софья Петровна не отвечала и продолжала стучать ногой. Аграфена Ивановна с сожалением посмотрела на измученное лицо своей барышни.
– Да что вы их упрашиваете, Наталья Васильевна, – сказала она грубо, – пущай куражатся, точно вы их характеру не знаете. Другие-то матери дочерей наряжают, а у нас…
– Этого только не доставало, – произнесла Софья Петровна, – вы уж на меня жалуетесь прислуге.
– Чего жаловаться! И так все видать, – возразила горничная.
– Молчите, Аграфена Ивановна, это не ваше дело, – заговорила Наташа. – Полно, мама, право, поздно. Ведь мне тоже еще нужно одеться. Шлейф лежит чудесно, посмотри, – и она взяла мать за руку.
Софья Петровна взглянула мельком на часы и как бы нехотя позволила дочери приподнять себя с дивана. Пальцы девушки опять забегали по платью. Аграфена Ивановна, стиснув зубы, угрюмо вынимала булавки из тех мест, которые Наташа скрепляла иголкой. Пригнув голову к бархату, она, наконец, откусила последнюю шелковинку. Софья Петровна приказала зажечь свечи у параллельного зеркала. Лицо ее прояснилось – платье сидело божественно. Мягкие складки так свободно драпировали ее фигуру, будто это не стоило никакого труда, будто Софья Петровна родилась на свет в этом роскошном одеянии. Дочь подала ей на блюде цветы. Софья Петровна выбрала перевитые зеленью камелии и туберозы, стряхнула блестевшие на них капли воды и умелою рукою приколола их к лифу и волосам. Потом взяла щипцы, подвила развившийся локон, старательно смахнула с лица пудру и, обвив шею двойною ниткой жемчуга, еще раз посмотрела на себя в зеркало. Глаза ее сверкнули торжеством.
– Одевайся скорей, – сказала она дочери.
– Какая ты красавица, мама, – с неподдельным восторгом произнесла Наташа. – Хороша ведь?.. – обратилась она к Аграфене Ивановне, желая ее смягчить.
– Хороши-с, – сухо процедила та.
Наташа оделась скоро. Она была очень мила, в своем белом газовом платье, легким облаком охватывавшем ее небольшую грациозную фигуру. Мать окинула ее критическим взором и воткнула ей в косу пучок маргариток.
– Это оригинально и главное молодо – молодо, в жанре твоей красоты – сказала она. – только ты очень бледна, выпей немного вина.
– Не надо, я согреюсь на балу.
– Ну, ладно, – согласилась Софья Петровна и с удовольствием подумала, что дочь смотрит совсем девочкой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































