Текст книги "Не ко двору. Избранные произведения"
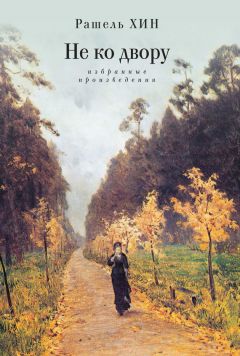
Автор книги: Рашель Хин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)
Auber отрекомендовал генеральше в гувернантки Сару. Мысль, что она еврейка очень смутила Серафиму Алексеевну и предоставленная самой себе, она, вероятно, не решилась бы на такой смелый подвиг. Но тут случились два побочных обстоятельства. Во-первых, рекомендуемая гувернантка вмещала в себе по отзывам швейцарца, сосуд всевозможных знаний и искусств за весьма дешевую цену, так что единственным пятном в ней являлось еврейство. Во-вторых, привезший эту новость Николай Иваныч Раздеришин заметил – “неужели у вас еще разделяют этот предрассудок” – таким тоном, как будто для него не только этот, но и вообще никаких предрассудков не существовало. Присутствовавшая при разговоре Ора Николаевна, не желая отстать от столичного гостя в либерализме, воскликнула:
– Полно, maman, что вы, точно не все люди равны!
Серафима Алексеевна, сбитая с толку, пролепетала, что она сама, конечно, ничего, но что вот другие могут осудить – сами знаете, у нас провинция.
– Да зачем вам всем докладывать, кто она, скажите француженка, и дело с концом, – посоветовал полковник.
Совет этот пришелся по душе Серафиме Алексеевне. Она даже подумала про себя, что, кто знает, пути Господни неисповедимы, может он нарочно посылает жидовку в генеральский дом, дабы она просветилась. Она даже повеселела от этой мысли, тем более, что Орочка, оставшись с ней наедине, заметила:
– Знаете, maman, даже лучше, что она жидовка: будет, по крайней мере, знать свое место и не важничать, а то с нашими ведь не оберешься претензий.
– Конечно, Орочка, конечно, – согласилась мать. – Ах, какой милый этот полковник, всегда все устроит, и право же, Орочка, мне кажется, что он к тебе неравнодушен.
Ора Николаевна покраснела. Ей очень нравился Раздеришин, и предположение матери было ей приятно. Она вообще стала гораздо мягче и кротко позволила перевезти себя в деревню. Гувернантку она приготовилась встретить снисходительно, взять ее под свое покровительство и вообще, так сказать, поразить ее величием своей души. Когда от Сары пришла телеграмма, что она едет, генеральша выслала за ней на станцию “плетенку”. Она хотела было послать коляску, но, рассудив, что жалко даром гонять туда и назад тройку, решила, что не беда, если евреечка прокатится на “плетенке”, и велела накласть побольше сена. Сара приехала ночью, совершенно разбитая. Все уже спали. Ее встретила сонная горничная, со свечою в руках, и отвела прямо в отведенную для нее на антресолях комнату.
– Прикажете поставить самовар, барышня? – спросила, громко зевая, горничная, стаскивая с Сары шубку.
– Нет, не надо, благодарю вас.
– Как же можно, без чаю; вы, небось, прозябли. Эко морозище какой! Господи, Боже мой!
– Ничего, я лягу спать и согреюсь.
– Как угодно-с, – сказала горничная и стала справлять постель. – В котором часу прикажите вас разбудить? – спросила она опять.
– А когда у вас встают?
– Да разно-с. Старшая барышня, Ора Николаевна, почивает до десяти, а то и до одиннадцати часов, ну а Ольга Николаевна с барчонком кушают чай вместе с барыней часу в девятом.
– Вот и меня тогда разбудите.
– Слушаю-с.
Сара села в продавленное кожаное кресло и стала оглядывать комнату. Комната была небольшая, с нависшим потолком, оклеенная простенькими обоями. У стены стояла железная кровать, покрытая темным байковым одеялом; старинный красного дерева комод, с полувыдвинутыми ящиками, припирал заколоченную стеклянную дверь, выходящую на балкон. Небольшое зеркало, с зеленоватым оттенком, кресло, два-три стула и стол довершали все убранство. Видя, что горничная стоит, переминаясь с ноги на ногу, и не уходит, Сара обратилась к ней.
– Как вас зовут?
– Дуняшей-с.
– Идите спать, Дуняша, мне больше ничего не нужно.
– Не помочь ли вам раздеться, барышня?
– Нет, благодарю, я всегда сама раздеваюсь.
– Слушаю-с, покойной ночи.
Сара осталась одна. Она подошла к окну и стала вглядываться в темное беззвездное небо. Оголенные деревья с распростертыми во все стороны сучьями рисовались какими-то гигантскими неопределенными тенями. Из-за огромного черного облака робко показался краешек луны и, словно испугавшись, опять потонул в густом мраке. Плохо спалось Саре в эту ночь на новом месте. Мучительные мысли, видения прошлого – не давали ей покоя. Выглянет один образ и стоит перед ней, как живой, она ведет с ним бессвязную речь; вдруг он пропадает и сменяется другим лицом, целым рядом других лиц… она делает над собой усилие, и ей удается забыться. Ей снится светлый, радостный сон. Забыты неудачи, печали, разочарования, их нет, их даже никогда не существовало; это был какой-то тяжелый гнетущий кошмар, а настоящая жизнь только теперь наступила. Всем хорошо и все такие хорошие, так понимают друг друга, никто никого не мучит, не пилит, не точит, не ненавидит, и она сама счастливая, любящая… ей хочется поделиться со всеми своим счастьем, раздавать его полными руками, чтобы нигде не осталось ни одного темного, унылого, заброшенного, забытого уголка. Да и зачем обделять, обходить… разве не все равны… разве не все братья… Чье это бледное лицо? Ах, это несчастный оборванный жид, истерзанный, отовсюду гонимый; его жалкая хата разбита, дочь обесчещена, жена изувечена, убогий скарб пущен по ветру… он в грязи, в крови… “Христопродавец”, гогочет толпа… “Эксплуататор”… “Скатертью дорога”, – кричат ликующие голоса, а он все стоит скорбный, пришибленный, с протянутой дрожащей рукой, почернелые губы его шевелятся… что это он бормочет?
– Да ведь это – стихи Гейне. Откуда ты их знаешь, несчастный! Теперь уж это не так, это давно, давно прошло…
– Барышня, а барышня, вы приказали разбудить вас, скоро девять часов, – раздался над самым ухом Сары громкий голос Дуняши.
Она раскрыла удивленные глаза. Сквозь оконные занавески глядело тусклое утро. В крышу мерно стучал дождь. Она быстро оделась, отклонив услуги горничной, пришедшей в детский восторг при виде роскошных, доходящих до колен, волос.
– Батюшки, вот волосы, – восклицала она, – какие черные, густые: неужели все ваши, барышня?
– Мои, Дуняша.
– Какая прелесть! У нас, чай, во всем городе таких кос не сыщешь.
Дуняша, вероятно, еще долго бы выражала свой восторг, если б Сара не вернула ее к действительности, сказав:
– Проводи же меня к барыне. Ее появление в столовой произвело некоторое смятение. Все встали из-за стола. Серафима Алексеевна пошла к ней навстречу и, протянув ей свою маленькую руку, добродушно проговорила:
– Милости просим, Сара Павловна. Уж вы извините, что вчера не встретили вас. Рекомендую: дочери мои и внук, прошу любить и жаловать.
Сара пожала всем руки и села на пустой стул возле генеральши. Она смутилась и покраснела, чувствуя устремленные на нее взгляды, и, чтобы придать себе храбрости, стала пристально всматриваться в окружавшие ее лица. Ее горячие черные глаза встретились с бледными глазами Оры Николаевны, глядевшие на нее с нескрываемым удивлением, и она рада была, что генеральша подвинула ей чашку чая, дала ей возможность отвернуться от неприязненного, как ей казалось, взгляда.
– Вы, должно быть, еще не отдохнули с дороги, – обратилась к ней Серафима Алексеевна.
– Меня утомила поездка на лошадях, но это скоро пройдет, – ответила Сара.
– Вы первый раз в деревне?
– Да, первый
– Как бы вы у нас не соскучились, – мы живем очень уединенно.
– Тем лучше, я не люблю общества.
– Ну, как же в ваши годы не любить общества, – усомнилась генеральша.
Сара промолчала.
– Этот молодой человек и есть, конечно, мой будущий ученик, – спросила она, указывая на Костю, который, забив за обе щеки по огромному куску хлеба с маслом, никак не мог его проглотить и стремительно спрятался за спину бабушки.
– Да, вот его надо в гимназию готовить, ну и вот с Оленькой, – генеральша кивнула головой на младшую дочь, – музыкой позаняться
– Вы уже давно играете? – спросила Сара Оленьку.
– Давно, только ужасно скверно, – ответила та, обнажая свои беленькие зубки.
– Это вы, конечно, скромничаете, – приветливо улыбнувшись, заметила Сара, которой понравилось открытое простое личико ученицы. – К сожалению, мы не страдаем скромностью, скорее излишней заносчивостью, – насмешливо вставила Ора Николаевна, вмешавшись в разговор, Сара перевела на нее свои глубокие глаза.
– Вы слишком строги, – сказала она, – самонадеянность вообще свойственна молодости, к этому следует относиться снисходительно.
Оленька искоса поглядела на сестру, закусила губы и ничего не ответила на ее колкость. Серафима Алексеевна беспокойно завозилась на стуле, не желая продолжения “опасного” разговора. Оленька схватила за руку Сару и потащила ее к роялю.
– Сыграйте что-нибудь, Сара Павловна, вот уж вы наверно отлично играете.
– Почему же это “наверно”, – усмехнулась Сара, садясь на табуретку и опуская руки на клавиши. Она заиграла какую-то бравурную пьесу, но вдруг, точно забывшись, наклонила голову и тихие, хватающие за душу, звуки поплыли из-под ее тонких пальцев, – то замирающие, то полные безысходной, щемящей тоски и муки о далеком, о безвозвратно утраченном, – звуки Шопеновской музыки.
– Ах, какая прелесть, вот чудо, вот прелесть! – затараторила Оленька, – да мне при вас стыдно одну нотку взять. Сара очнулась, и ей стало стыдно за свое невольное увлечение. Перед ней стояла Оленька и весело-беззаботно глядело ее пухлявенькое личико. Ора Николаевна молчала, плотно сжав губы и как-то грустно, недовольно смотрела в окно. Сару точно кольнуло. Ей показалось, что ее зарывают заживо в чужую землю. Ее леденила эта комната своей провинциальной обстановкой, зеленою, порыжевшею мебелью, вышитыми подушками на диванах, вязаными тамбуром кружочки на спинках кресел. На окнах – герань, плющ, бегония; на стенах – полинявшие, криворотые и пучеглазые портреты, произведения добросовестного, но – увы! – непризнанного художника. В углу висит в засиженной мухами раме пейзаж, изображающий малиновую пастушку, сидящую на малиновом берегу малиновой реки, а рядом с ней зеленый рыцарь на богатырском коне грозит кому-то кулаком. В кресле у окна генеральша вяжет чулок, равнодушно-лениво перебирая спицами…
– Не хочу ни о чем думать, – решает про себя Сара. – М-elle Ольга, теперь ваша очередь, – говорит она громко, – я хочу послушать как вы играете.
Ольга заиграла “Reveil du lion”. Играла она скоро, не выдерживая темпа, без оттенков, громко ударяя по клавишам, причем лицо ее, кроме напряженного страха пропустить какую-нибудь ноту, – ничего больше не выражало. Сара поморщилась, когда Оленька, разбудив наконец своего льва, поглядела на нее в ожидании одобрения.
– Недурно, – сказала она – но нам еще много придется заниматься. А теперь, Костя, пойдем-ка учиться.
Костя вздохнул, надул губы и, не глядя на гувернантку, повел ее, тяжело стуча сапогами, наверх.
XVIОднообразно потянулось для Сары время в генеральском доме. Она скоро присмотрелась к членам всей семьи и установила между собою и ими вежливые, но далекие отношения. Серафима Алексеевна, несмотря на свое желание выпытать что-нибудь у гувернантки относительно ее прошлого, должна была отказаться от этого намерения. Односложные и простые ответы Сары ее не удовлетворяли. И в самом деле, “родители умерли”, “воспитывалась у тетки”, “небогата”, “вдова”… Кто же этому поверит! Уж конечно не Серафима Алексеевна, которая, несмотря на свое видимое смирение, в глубине души считала себя женщиной очень проницательной.
– Понадеялась, должно быть на сою красоту и влюбилась в аристократа, а тот не обратил внимания, потому, что ни говори, все-таки – жидовка, – решила она про себя и успокоилась. Обходилась она с Сарой предупредительно, даже несколько подобострастно.
Положительно невзлюбила гувернантку Ора Николаевна. Она ожидала встретить некрасивое, робкое, постоянно готовое к услугам существо и не могла простить Саре, что та не оправдала ее ожиданий. Ее раздражала изящная, величавая фигура гувернантки, ее спокойные манеры, ее простое, скромное платье. Сара не сердилась на Ору Николаевну за ее враждебное отношение к ней. Она понимала это жалкое засохшее существование провинциальной старой девы, весь идеал которой – выйти замуж. И вот этот идеал рушится, заменить его нечем…
Более счастливые сверстницы устроились, обзавелись своим гнездом и с пренебрежительным сожалением, словно они Бог весть какой гражданский подвиг совершили, поглядывают на отставшую подругу. А тут вылетает целый рой молодых, беззаботных, цветущих подростков; с эгоизмом здоровых людей они проносятся резвой толпой перед бедной старой девой, унося ее последние надежды, вырывая из немощных желтеющих рук последнюю тень счастья и старая дева остается одна с затаенной завистью в несогретой груди, с глухою ненавистью к тем, которым посчастливилось. Позади у нее разочарования, впереди – пустота, которую по инстинкту самосохранения надо чем-нибудь наполнить. Одна наполняет ее хождением к обедне, вечерне и всенощной; другая всю душу свою кладет в любимую собачку или кошку; третья ни за что не хочет расстаться с призраком молодости и запоздалым кокетством доставляет обильную пищу остроумию местных beaux-esprits[40]40
Умников.
[Закрыть].
Оленька искренне полюбила Сару и откровенно восхищалась ею, а когда заметила, что это злит сестру, то в ее присутствии обыкновенно удваивала свои восторги. Музыкой она занималась усердно, но еще усерднее старалась подражать Саре в ее манере сидеть, перелистывать ноты, оправлять платье. Ора Николаевна с свойственною ей прозорливостью заметила эти невинные мелочи и, когда бывала не в духе, – что случалось довольно часто, – отпускала по этому поводу шпильки.
– Ольга, – говорит она, например, Оленьке, прилежно разбирающей затруднительный пассаж, – начни сначала, ты не так перевернула страницу. – Или: ты не так чихнула, как Сара Павловна.
Оленька, понятно, не остается в долгу и замечает что-то вроде:
– Нельзя же всем пятьдесят лет играть “Штендхен”. Между сестрами завязывается перепалка, обыкновенно оканчивающаяся тем, что Сара уводит в свою комнату Оленьку и начинает ей там читать продолжительное нравоучение. Оленька плачет и оправдывается тем, что не она начала. Пристыженная Ора Николаевна, сознающая в душе, кто начал, злится на весь мир, хлопает дверями и кричит на весь дом, что она никому не позволит себе импонировать. В продолжении двух-трех дней все ходят надутые, молчаливые, избегая глядеть друг на друга, но мало помалу горизонт проясняется и все входит в обычную колею до новой бури. Бури наступали периодически, так что их можно было предвидеть, а именно – после каждого визита полковника Раздеришина, привозившего раз в неделю своего сына в Дубки, где он брал у Сары уроки французского языка. Корень зла заключался не в уроках, которые проходили тихо и чинно, и даже не в учительнице, – полковник, хотя и находил ее красавицей, но говорил, что в ней есть что-то такое je ne sais quoi[41]41
Я не знаю, что…
[Закрыть], деревянное… Корень зла заключался в внутренности непостоянного полковника, перенесшего Бог весть почему все свое внимание с Оры Николаевны на Оленьку. Бедная Ора Николаевна! Она положительно не могла понять, как все это случилось, за что. почему: – “Ведь не хуже же она, наконец, этой индюшки – Оленьки”. Кажется все так хорошо шло, он по-видимому, так понимал ее, так сочувствовал ее мечтательным идеалам – и вдруг… однажды, среди какой-то заоблачной беседы, раздался его басистые голос:
– Ну, Ольга Николаевна, засмейтесь! Когда вы смеетесь, у вас такие ямочки делаются на щеках, что, глядя на них, точно молодеешь.
– Вот вы какой, – обиженно говорит Оленька, – вы меня считаете за маленькую! За то, что дразните меня, нарочно не буду смеяться. Я тоже могу быть серьезной. Она надувает губки, но не выдерживает роли и заливается звонким, бессмысленным, веселым смехом.
– Вот и прекрасно, ну еще немножко, – одобряет полковник. Ора Николаевна забыта. Полковник то просит Оленьку сыграть что-нибудь, то бегает с ней по комнате, то подсядет к ней близко и серьезно так скажет:
– Ну, давайте, Ольга Николаевна, толковать о важных материях.
Ора Николаевна страдала неимоверно. При полковнике она сдерживалась, и, хотя сердце у ней ныло и надрывалось с тоски, обдавала его высокомерным презрением, когда он, как ни в чем не бывало, вступал с ней в разговор. Всю накипевшую на душе горечь она вымещала на домашних; особенно доставалось матери, которую она пилила по целым часам за то, что она будто бы поощряла неприличное обращение полковника с Ольгой. Серафима Алексеевна пыталась убедить ее, что она ошибается, что Николай Иванович шутит с Оленькой, как с ребенком, но Ора Николаевна прерывала ее визгливым, язвительным хохотом.
– Оленька ваша ребенок! Она – ребенок! Да это самая пошлая кокетка! – кричала она, задыхаясь.
Оленька в отместку действительно кокетничала с полковником и общими усилиями они превращали дом в ад. Серафима Алексеевна перебегала от одной дочери к другой, стараясь их как-нибудь ублажить, наконец измученная, спасалась в комнате у Сары.
– Сара Павловна, я вам не помешаю? – жалобно спросит она, приотворяя дверь.
– Ничего, Серафима Алексеевна, пожалуйте.
Старуха входит, усаживается с чулком на стуле и то и дело поворачивает в сторону голову, стараясь незаметно смигнуть набегающие на глаза слезинки.
У стола сидит Сара и держит в руках карандаш; против нее на табурете помещается с нахмуренным лицом Костя.
– Отчего вы опять не приготовили уроков? – вопрошает Сара.
– Забыл, – лаконично ответствует ученик.
– Как же вы могли забыть, ведь я записала в тетрадку?
Костя на минуту задумывается и затем выпаливает с видом победителя:
– Я забыл, где вы записали
– Это неправда, Костя, зачем вы лжете? Костя смущается и начинает для коптепанса ковырять в носу. В разговор вмешивается бабушка:
– Как же ты это, Костенька, а? Не стыдно тебе огорчать Сару Павловну? Она тебя учит, старается; другая гувернантка тебя бы из угла не выпускала… Проси сейчас прощения у Сары Павловны! Скажи, что не будешь больше лениться, что это в последний раз…
Но тут поток красноречия Серафимы Алексеевны прерывается неистовым ревом Кости, который не вынеся оскорбления, опрокидывает стул, чернильницу, книги и обращается в бегство под спасительную сень кухни.
XVIIБывали, впрочем, и ясные дни. Ора Николаевна мирно читала какой-нибудь роман; Оленька погружена в вышиванье славянки; Костя возится с собакой; Сара исправляет запутанное, измазанное и перечеркнутое сложение Кости, а генеральша безмятежно дремлет на диване. На дворе стоит тихий зимний день. Снег огромными рыхлыми хлопьями заносит двор и сад. Волга совсем спряталась под пушистой белой скатертью. Ора Николаевна открывает глаза от книги и устремляет взгляд на расстилающуюся бесконечно вдаль, словно саваном окутанную, степь.
– Господи, какая тоска, – вздыхает она громко, – хоть бы какая-нибудь собака забежала.
– Вот, погоди, может быть, Николай Иваныч приедет, – утешала ее Оленька.
– Ужасно какое от него веселье, от твоего Николая Иваныча: только отдувается и отпускает глупые остроты.
– Ты, однако, Орочка, прежде не находила его таким уж дураком.
– Конечно, пока не разглядела хорошенько, что он за птица. Ведь в нашей берлоге каждому свежему человеку обрадуешься.
Оленька готовится возражать, но Ора Николаевна не дает.
– Да вот Сара Павловна, вы наверно со мною согласитесь, что Раздеришин просто олух, – обратилась она к Саре.
– Я его совсем почти не знаю, – отозвалась та, – но он мне кажется самым обыкновенным человеком: ни особенно умен, ни особенно глуп…
В эту минуту Костя взвизгнул: “Колокольчики! Кто-то едет!” и, не внимая отчаянным возгласам проснувшейся Серафимы Алексеевны, что он простудится, пустился стремглав по лестнице.
– Бабушка, Аполлон Егорыч приехал и Анфиса Ивановна тоже, – кричал он уже снизу.
Через несколько минут в залу ввалился гость – Аполлон Егорович Филатов, известный всему Энску делец и сплетник. Это был почти шарообразный человек, лет пятидесяти. Массивное жирное туловище его покоилось на коротеньких, тонких ногах, исчезавших под непомерным животом. Совершенно лысая голова с толстой бурой складкой вместо шеи, казалась неподвижно прикрепленной к плечам, так что, когда ему нужно было повернуть ее, он оборачивался обыкновенно всей особой. Круглый, мягкий нос, толстые красные губы, скрытые огромной седеющей бородой, начинавшейся чуть не на висках и зеленые глазки с отвислыми голубоватыми мешочками под веками, плутовски блестевшие в своих узеньких щелках – довершали эту оригинальную фигуру.
Он вошел в залу, держа в руках меховую, уже облезлую шапку и пестрый шелковый платок; вытер им мокрую бороду и затем уже приложился к ручке хозяйки, поздоровался с барышнями и, тяжело пыхтя, опустился на диван.
– Здравствуйте, Аполлон Егорыч, что вас давно не видать? Совсем нас забыли… Оленька, прикажи самовар и закусить… Да где же Анфиса Ивановна? – говорила, суетясь во все стороны генеральша.
– Чай, еще разоблачается; напутала, небось, на себя воз целый фуфаек да юбок, вот и не может сразу опростаться… Вы матушка, Серафима Алексеевна, не извольте беспокоиться, да вот и она на лицо. Ты чего там копалась – обратился он к показавшейся в дверях жене. Раздались новые восклицания. Дамы обменялись звонкими поцелуями, осведомились взаимно о здоровье; генеральша пожелала узнать, – здоровы ли детки Анфисы Ивановны, и получила в ответ, что, слава Богу, ничего; только у Машеньки была свинка, да Ванечка все животом бьется…
Наконец, все пришло в порядок, все успокоились и уселись, на столе появился самовар и обильная закуска. Анфиса Ивановна вытащила из ридикюля длиннющий деревянный крючок, на кончике которого висела вытянутая петля косынки из мегеровой шерсти и принялась вязать. В противоположность своему супругу, она была очень высока и худа; платье на ней висело мешком, что ей, впрочем, очень нравилось: она всегда строго наказывала домашней портнихе Агафьюшке, чтобы на груди непременно “набегало”, на что Агафьюшка, с видом знатока кивала головой, с достоинством замечая: “Понимаем, сударыня, понимаем, чтобы, значит, неглижа”. Волосы Анфиса Ивановна носила спереди пышными бандо[42]42
Бандо – пряди волос в дамском головном уборе из природных волос, закрепленных определенным образом.
[Закрыть], а на затылке закручивала их в маленькую кучку, в которую втыкала огромную черепаховую гребенку. Прическа эта очень шла к ее добродушному лицу, удивительное напоминавшему печеное яблоко.
Анфиса Ивановна была в самом деле очень добра, но. К сожалению, обладала не совсем приятной особенностью: она не могла просидеть часа, чтобы не икнуть или не чихнуть.
– Что нового? Кого видели из знакомых? Что в городе слышно? – посыпались со всех сторон на гостей вопросы.
– А вот дайте маленько согреться, все расскажем, – отвечал Аполлон Егорович, наливая густые сливки в крепкий как пиво чай. – Это вы, Серафима Алексеевна, сами крендельки-то пекли? – спросил он.
– Нет, Аполлон Егорыч, повар; перед отъездом в деревню нового взяла. А что, нехороши разве?
– Чудесные, прелесть какие, – с чувством произнес Аполлон Егорыч. – А у меня, – продолжал он, приходя в волнение, – представьте какая гадость вышла! Дьявол этот старый, Андропыч, напился шельма, как стелька, да и подай при гостях к чаю какие-то угольные сосульки; так меня, скажу вам, взорвало, – взял я блюдо да к нему на кухню. – Это что? спрашиваю, – а он бестия: заварной крендель, говорит, Палон Ягорыч. – Ах ты… это заварной крендель. Заварной крендель должен таять во рту, как сахар, как масло, а это, говорю, не заварной крендель, а солдатское голенище!.. Бросил ему, идолу, в рожу все блюдо и ушел. Рассказ Аполлона Егоровича, приправленный соответствующими движениями, произвел различное впечатление на слушателей. Костя и Оленька хохотали во все горло, – им ужасно нравилась манера Аполлона Егоровича подчеркивать самые крупные словца. Ора Николаевна улыбалась самыми кончиками губ, а генеральша, заметив, что Анфиса Ивановна усиленно молчит и моргает глазами, собираясь чихнуть, – лепетала приличные случаю утешения. Затем перешли к городским новостям. Аполлон Егорович сообщил злобу дня, – что Анна Сергеевна Загорская убежала от мужа к шалопаю этому Коломину, а он возьми да и отвези ее назад.
Новость произвела сенсацию. Все сдвинулись ближе, чтобы лучше слышать; раздались восклицания, вздохи, осуждения.
– Помилуйте, как это можно! Мать троих детей… Семейная женщина! Да как она могла решиться на такой поступок! И для кого! Забыть мужа для вертопраха… какого-нибудь, для которого и святого ничего не существует…
– Верьте, – не верьте, как хотите, а дело было так; вот хоть ее спросите, – для большей убедительности Аполлон Егорович ткнул пальцем на жену.
– Правда, правда, – подтвердила Анфиса Ивановна, – попутал грех Анну Сергеевну; просто смотреть на нее жалко, такая она стала худая да печальная. И что она в нем нашла, чем он ее мог прельстить, решительно не понимаю!
И чтобы выразить всю глубину своего непонимания, Анфиса Ивановна растопырила пяльцы и даже спустила несколько петель с своего вязанья.
– Ну уж это ты, Анфиса Ивановна, оставь. Не твоего это ума дело, – заметил Аполлон Егорович. – Скажите пожалуйста, тоже рассуждает: чем прельстил! – Вот тебе бы, небось, не прельстил.
Анфиса Ивановна мгновенно съежилась.
– Опасный человек, – сказала Серафима Алексеевна.
– Нет! да вы послушайте, как этот разбойник сух из воды вышел, – воскликнул Аполлон Егорович. – Ездил к ним, почитай, каждый день, с мужем первый друг-приятель, выдумал теперь благотворительный спектакль устраивать. Да и преподнес Анне-то Сергеевне первую роль – какой-то там драматической любовницы… Каков?!
– Что вы, неужели! ну и как же она?
– Отказала, само собой… К вам теперь собирается, хочет Ору Николаевну просить; вчера у меня был, все разведывал, когда к вам удобнее заехать.
Ора Николаевна вспыхнула до ушей, сердце у ней сильно забилось; тем не менее, она сухо произнесла
– Напрасный труд. Я не буду играть.
Аполлон Егорович глянул на нее сбоку своим прищуренным заплывшим глазом.
– За что же такая строгость, Ора Николаевна? Ведь не съест он вас, а с благотворительною целью – отказать, знаете, неловко.
– И я думаю, Орочка, что неловко, – заметила генеральша.
– Это уж мое дело, maman, но я с такими господами ничего общего не имею.
На самом деле Оре Николаевне очень хотелось играть; отказ у ней сорвался с языка как-то бессознательно, а потом уж самолюбие не позволяло ей уступить. Сара поняла ее чувства и решилась придти к ней на помощь.
– Послушайте, Ора Николаевна, отчего бы вам в самом деле не сыграть, – сказала она, – вам скучно, вы несколько раз, помнится, говорили, что любите театр; представляется случай развлечься – зачем же от него отказываться?
Ора Николаевна взглянула на гувернантку признательными глазами.
– Ах, Сара Павловна, вы не знаете, что за человек этот Коломин
– Что же он за человек?
– Фат, гордец, хвастун, считает себя выше и умнее всех, бросает пыль в глаза своим богатством, воображает, что он петербургский аристократ и потому может всем говорить дерзости, а на самом деле его из Петербурга выгнали за какую-то грязную дуэль…
– Портрет не особенно привлекательный, – сказала Сара, – но какое нам до всего этого дело? После спектакля ничто нам не мешает порвать с ним все отношения.
– Вы находите, что я могу играть?
– О, с совершенно спокойной совестью.
– Хорошо. Я соглашусь, но с условием, чтобы вы ездили со мной на репетиции.
Сара растерялась от такой неожиданности.
– Не требуйте этого Ора Николаевна, вы знаете, как я не люблю общества, – сказала она.
– Иначе не соглашусь
– Ну хорошо, там посмотрим…
На том и был покончен важный вопрос.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































