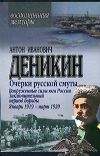Текст книги "Сергей Николаевич Булгаков"

Автор книги: Сборник статей
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
«Предестинация» и «судьба» в работе прот. Сергия Булгакова «Иуда Искариот – апостол-предатель» (К реконструкции булгаковской метафизики истории)
А. И. Резниченко
I
У работы Булгакова «Иуда Искариот – апостол предатель» странная судьба. Она не столь известна, как тексты, вошедшие в так называемую малую и тем более «большую» богословские трилогии – и практически не рассматривалась как философское сочинение[320]320
Разве что Л. А. Зандер в своем фундаментальном исследовании «Бог и мир» вскользь говорит о ней да идеологические оппоненты Булгакова конца 1920-х – начала 1930-х годов – карловчане упоминают ее, правда, исключительно в полемическом контексте. См., например, довольно позднюю реминисценцию: Григорий (Граббе), еп. Иуда: предатель или избранник Божий? (по поводу статьи прот. С. Булгакова «Два избранника», Вестник Русского Христианского Движения, № 123, 1977 г.). // Григорий Граббе, еп. Церковь и ея учение в жизни. Собр. соч. Т. 3. Джорданвилль, 1992.
[Закрыть]. И вместе с тем работа эта очень важна. Прежде всего потому, что она является текстом, в котором наиболее ясно и отчетливо запечатлен переход Булгакова от философского способа построения мысли, дискурсивного сцепления понятий, характерного для философских текстов вообще, к способу рассуждения богословскому, с постоянной апелляцией к Писанию и Преданию, точнее, к конструированию Булгаковым особой, философски-богословской языковой реальности, вне уяснения характерных особенностей которой вряд ли понятны тексты «большой» трилогии.
Версия работы Булгакова об Иуде, опубликованная при жизни, включала в себя два раздела: «Иуда Искариот – апостол-предатель. Часть первая (историческая)» и «Иуда Искариот – апостол-предатель. Часть вторая (догматическая)»[321]321
Первая публикация: Иуда Искариот – Апостол-предатель // Путь. 1931. № 26. С. 3—60; № 27. С. 3—42. Эта статья была практически сразу же частично (догматическая часть с небольшими сокращениями и заключение) переведена на немецкий (Orient und Occident.1932. № 11. S. 8—24) и английский с характерным изменением названия (Judas or Saul? Thoughts on the Russian People. Trad. by B. Pares // The Slavonic and East European Review. 1931. № 27. P 525–535) языки. См. об этом в письме Булгакова швейцарскому исследователю русской философской традиции и редактору журнала «Восток и Запад» Фрицу Либу: «По поводу статьи об Иуде могу сделать Вам предложение использовать вторую часть, а именно либо первую (догматическую) часть (сокращенно), либо последнюю (русскую) часть, уже вышедшую по-английски (оттисков я не получил). Посылаю Вам на всякий случай обе статьи. К сожалению, первая слишком длинна для сокращений, хотя можно сделать об этом краткую заметку в примечании» [С. Н. Булгаков. Письма к Фрицу Либу (1929–1938) / публ. и пер. Вл. Янцена// Исследования по истории русской мысли [5]. Ежегодник 2001/2002. М., 2002. С. 410–411. Письмо от 02.11.1931]. Характерно, что ни один из русских корреспондентов Булгакова этого периода, как показывает тщательный анализ короба XIII (переписка) архива проф. прот. С. Н. Булгакова в Православном Богословском институте св. преп. Сергия Радонежского (Париж), не упоминает об «Иуде».
[Закрыть]. Архив Булгакова в Православном Богословском институте св. преп. Сергия Радонежского в Париже до поры хранил еще два отрывка на ту же тему: «Экскурс 1. Сын Погибельный (ό υiος της àπωλεiας)» и «Послесловие. Иоанн и Иуда, “возлюбленный” и “Сын погибели”. Два избранника». Судьба их значительно сложнее. Однако смысловое единство, продуманность и логическое развитие основных сюжетных линий как богословского, так и философского плана (судьба Иуды и учение о предопределении; судьба Иуды и судьба России) позволяют рассматривать опубликованную в начале 1930-х годов часть «Иуды Искариота», «Экскурс» и «Послесловие» как целостное произведение.
Сложно сказать, является ли «Иуда Искариот» произведением богословским или философским по стилю и жанру (особенно в первой, исторической своей части). Однако следует задать себе вопрос: не является ли тема предопределения – одна их центральных тем богословских сочинений, в частности богословских сочинений латинской языковой традиции (об этом речь пойдет чуть ниже), – вместе с тем и философской темой, темой судьбы – личной и исторической, восходящей к античной парадигме «фатума-мойры». Конструкции Булгакова, его понимание и чувство судьбы и фиксация этого понимания в «Иуде Искариоте» – есть результат переосмысления уже готовых парадигм, уже готовых конструкций. Наша задача – восстановить результаты той интеллектуальной работы, которую проделывает Булгаков. Забегая вперед, скажу, что эта тема оказывается теснейшим образом связанной с темами греха, зла, предательства[322]322
То, что тема предательства как философского явления актуальна и поныне, свидетельствуют международные научные конференции, проводимые по этой теме (сообщено Вл. Яценом). Например: Янцен В. Предательство как проблема индивидуальной памяти и исторической традиции. Доклад на Мюнхенской конференции «Предательство» Международного кружка литературы, искусства и психопатологии 19 сентября 2009 г.
[Закрыть] и покаяния, которые также оказываются темами не только богословского дискурса.
II
Внимательно вчитываясь в текст, мы с достаточной легкостью обнаруживаем по меньшей мере две причины, по которым Булгаков интеллектуально мог и был должен обратиться к этой теме. Прежде всего это тема «судьбы России», тема переосмысления марксистского прошлого. Известно, что Булгаков начинал как марксист. Менее известно, что именно Булгаков был назван Плехановым «надеждой русского марксизма», правда, надеждой (в смысле марксизма), не оправдавшей себя. Трагическое осознание результата собственных марксистских действий в прошлом происходило для Булгакова через лицезрение осуществившегося практического результата теоретических построений. Иуда для Булгакова – это «пролетарий», «экономический материалист» и один, если так можно выразиться, из «внутренних смыслов» его предательства – это отнюдь не корыстолюбие (и в этом Булгаков идет вразрез не только с доксографической, но и отчасти и Евангельской традицией), но именно ложно понятая идея всеобщего спасения путями национального мессианизма и социально-распределительного, социалистического благоустройства общества. Из «Заключения» к «Иуде Искариоту»:
Экономический материализм есть ведь не что иное, как миросозерцательная транскрипция первого искушения хлебами. В нем есть своя суровая и честная правда жизни, плененная стихиями мира вследствие первородного греха, и она должна быть изжита и изведена человеком, хотя, если он на ней остановится, он приходит к потере человеческого образа, п<отому> ч<то> искренний и последовательный экономический материалист есть уже просто животное, а в действительности ниже его, поскольку раньше он был человеком[323]323
Этот же мотив человека, который «во грехе» есть хуже животного, т. е. создания, лишенного разума и свободы воли, присутствует в текстах ежедневного молитвенного обихода. Ср.: «И прости вся, елика Ти согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольныя моя грехи и невольныя» (Молитва третья св. Духу из вечернего молитвенного правила).
[Закрыть]. Но став экономическим материалистом, впавши в искушение, человек открывает в себе подполье, в котором, среди всяких смертных грехов, живет змея Иудина сребролюбия. Она подымает голову и кольцами своими сжимает сердце, и жертва ее становится «вором», а жизнь его являет торжество низких чувств и страстей. Экономический материализм становится уже страшной практикой жизни, бытом, – в нем разнуздывается самая низменная звериная стихия, гаснет природный идеализм человеческой жизни. Это мы и видим теперь в России[324]324
Булгаков С. Н., прот. Иуда Искариот – апостол предатель // Булгаков С. Н. Труды о Троичности / сост., подг. текста и примеч. А. Резниченко (Исследования по истории русской мысли. Т 6). М.: ОГИ, 2001. Далее страницы этого издания даются в квадратных скобках.
[Закрыть] [С. 259].
Эта трактовка историко-культурных экспликаций Иудина греха, а то, что путь социалистического строительства к 1931 году является для Булгакова именно такой экспликацией («носитель и хранитель “святой Руси”, страж светлого града Божиего, умопостигаемого Китежа, это он ныне занял место Иуды, апостола-предателя» [С. 254]), допускает и две возможности поведения для исторического субъекта, в этом грехе пребывающего. Первая и самая очевидная возможность – это сохранение существующего положения вещей, т. е. «Иуда, который на сребреники приобрел себе дом и завел собственное хозяйство с свиноводством и цветоводством» [С. 264][325]325
Любопытно, что среди большевистского перечня памятников, которые должны быть поставлены наиболее значительным персонам в истории человечества, под номером вторым – вслед за Марксом – шел памятник Иуде, и он действительно был поставлен, кажется, в Калуге. Люцифер (сатана) тоже был в этом списке, однако не до Иуды и даже не в первом десятке.
[Закрыть]. Однако евангельский Иуда «раскаявся шед удавися». Внезапное осознание собственного греха и трагическая невозможность жить более в таковом состоянии – есть единственный выход для Иуды.
Надо сказать, что булгаковское «гуманное» отношение к Иуде Искариоту имеет вполне самобытные и русские корни: Иуда, как и «благочестивый разбойник», как и «христиане одиннадцатого часа», как и богоборец Иаков, – частый сюжет русской культуры рубежа XIX–XX веков; и культурная традиция вполне позволяет перечислять их в одном ряду, через запятую. Так, живопись второй половины XIX века устойчиво связывет «доброго» разбойника Евангелия от Луки с разбойником Матфея, распятым «одесную»; по словам самого художника: «И вот я нашел способ выразить Христа и двух разбойников вместе без крестов на Голгофе, только приведенных. Все три страдальца, всех громко и страшно поражает молитва самого Христа. Одного разбойника бьет лихорадка, другой убит горем, что жизнь своя погана, и вот до чего довела»[326]326
Ге Н. Н. Письмо Л. Н. Толстому от 26.10.1893 // Ге Н. Н. Письма. Статьи. Критика. Воспоминания современников. М.: Искусство, 1978. С. 183.
[Закрыть]. Визуальное решение этой темы – картины Н. Н. Ге «Голгофа» (1983) и «Распятие» (1894), а также подготовительные к ним «Христос и разбойник» (1893) и «Голова распятого Христа» (1892–1893)[327]327
См., например: Даниэль С. М. Библейские сюжеты. Священное писание в русской живописи Нового времени. СПб., 1994. Ил. 83–85, 87.
[Закрыть].
Психологическая интерпретация Иуды, кающегося и исповедующего (т. е. открыто признающего даже ценой жизни) Христа-Бога, впервые в русской культуре Нового времени была дана С. Я. Надсоном («Иуда», 1879):
Прочь, непорочное виденье,
Уйди, не мучь больную грудь!..
Дай хоть на час, хоть на мгновенье
Не жить, не помнить, отдохнуть.
Смотри: предатель твой рыдает
У ног твоих. О, пощади!
Твой взор мне душу разрывает.
Уйди, исчезни. не гляди!..
Ты видишь: я готов слезами
Мой поцелуй коварный смыть.
О, дай минувшее забыть,
Дай душу облегчить мольбами.
Ты Бог. Ты можешь все простить
Дальнейшее развитие этого сюжета – повесть Л. Андреева «Иуда Искариот и другие» (1907), отрецензированная близким другом Булгакова на протяжении многих лет А. С. Глинкой:
…кажется, вот-вот почувствует Андреев около чего стоит, к чему бессознательно близится, движимый сильным и темным ему самому инстинктом художественного чутья, религиозного чутья. Здесь чуткость неверующего отчаяния заставляет Андреева вдруг коснуться тончайших душевных струн веры, той веры, которая в правде религиозного опыта раскрывается только в глубине глубин христианской психологии. Это вера в правду жизни за смертью <…> Андреевский Иуда <…> обнимает Христа в тайне смерти, в таинстве смерти, в этом таинстве всех таинств христианства. Через Христа, в своем сильнейшем ощущении Его, доступном в повести только одному Иуде, – это Андреевский Иуда трагически проникновенно соприкасается таинственному иному миру, и, в конце концов, Иуда у Андреева исповедует Господа «яко разбойник», тот разбойник, который с креста своего молил Распятого: «Помяни, мя Господи, егда приидеши во царствие Твое»[328]328
Волжский. «Иуда» Леонида Андреева // Живая жизнь. 1907. № 2. 20 декабря. С. 36–37.
[Закрыть].
«Касание мирам иным», тот опыт, который недоступен для простого смертного, становится возможным для Иуды благодаря близости тайны предательства – таинству смерти. Такая постановка вопроса осталась актуальной и для Булгакова, отчасти еще и поэтому он обращается к этой теме, но сам сюжет внезапно меняет курс, становясь из локального – универсальным, из живописно-поэтического – философским: сюжет обретает глубину.
* * *
Известно, сколь трагически воспринял Булгаков всю ту смуту, которая захватила Россию после революции и предшествовала его экспатриации. Этот трагизм присутствует в дневниковых записях тех лет:
…для меня революция именно и была катастрофой любви, унесшей из мира ее предмет и опустошивший душу, ограбивший ее Я никого почти не знал, с кем бы мог разделить это чувство мистической любви. Но у меня было на душе так, как бывает, когда умирает самое близкое, дорогое существо, после безнадежной продолжительной болезни[329]329
Сергий Булгаков, прот. Агония // Автобиографические заметки. Париж, 1947. С. 73.
[Закрыть].
Россия, как ты погибла? Как сделалась жертвой дьяволов, твоих же собственных детей? Что с тобой? Никогда не было загадки загадочнее, непонятнее. Загадку эту загадал Бог, а разгадывает дьявол, обрадовавшийся временной и кажущейся власти[330]330
Курсив мой. – А. Р.
[Закрыть]<…> В Россию надо верить и надеяться, но то, что я вижу, знаю и понимаю, не дает ни веры, ни надежды. Я не могу даже любить ее <…> Вернее сказать, то, что лежит между Северным и Черным морем и занимает шестую часть света, не есть Россия, по крайней мере для меня, я даже не чувствую русскую землю, даже от нее без боли отрываюсь, а не по большевистской только бумажке экспатриируюсь. Но где же Россия и есть ли она, если в себе ее не чувствуешь? Есть ли и я сам? <…> Боли нет, как не болит отрезанная нога, отекшее тело, утратившее чувствительность[331]331
Булгаков С. Н., прот. Из дневника // Вестник РСХД. 1979. № 129. C. 238–239. Это онтологическое отсутствие телесного ощущения еще возникнет в булгаковской дневниковой записи 1926 года «Моя болезнь» и будет знаком начала умирания.
[Закрыть].
Если в 1922 году судьба, грех и спасение России воспринимаются эмоционально, а мыслятся только лишь как чудо[332]332
«Россия спасена, родилось в моем сердце перед большевистским переворотом в 1917 г. как откровение Богоматери (во Владычной ее иконе), и я верен и верю этому завету. Но в ответ на это исторически Россия погибла, значит, она спасется через гибель и смерть, воскресая, но воскресение нам непонятно, оно – чудо. Так толпятся в уме и сердце неисходные противоречия. Она потрясена смертельно и навечно разорвана и ранена. Она исцелится? – благодатью Духа св., но тоже чудом, новым созданием, а это цельно неисцельно ранено и болит. Конечно, на крайний случай можно обойтись и без родины <…> но и от родины я не должен, не могу и не хочу никогда отказаться и, значит, умираю всю оставшуюся жизнь, пока Господь не исцелит бесноватую Россию» [Дневник от 18 (31) декабря 1922 г. // Булгаков С. Н. Из дневника. C. 239]. Далее «Константинопольский дневник» цитируется по этому изданию без указания страниц, но с указанием даты записи.
[Закрыть], то в концу 1920-х – началу 1930-х годов у Булгакова уже достаточно концептуальных и вербальных средств для анализа и интерпретации этой ситуации, для разрешения «загаданной Богом загадки», правда, для этого Булгакову потребовался иной, несводимый к дореволюционному язык описания предмета и, в частности, переосмысление таких понятий, как «временность», «видимость (“кажимость”)», «грех» и «судьба».
Однако следует вспомнить еще кое-что: ту ситуацию, которую удобнее всего было бы обозначить как «католический соблазн православного священника». Зависимость философских построений Булгакова крымского периода от католической теологии и догматики сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений. Сошлюсь только на работы крымского периода «Трагедия философии», «Мужское и Женское в Божестве» и «Мужское и Женское», где Булгаков прямо пишет о том, что Дух св. исходит не только от Отца чрез Сына, но и от Сына[333]333
См.: Сергий Булгаков, прот. Мужское и Женское в Божестве. Мужское и Женское / публ. А. П. Козырева, Н. Ю. Голубковой; коммент. и предисл. А. П. Козырева // С. Н. Булгаков: Религиозно-философский путь: Международная научная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения / науч. ред. А. П. Козырев, сост. М. А. Васильева, А. П. Козырев. М., 2003. С. 333–395.
[Закрыть], и на знаменитое письмо о. Павлу Флоренскому «Jaltica» от 01.09.1922, так и оставшееся без ответа.: «И по существу я пришел к заключению, что filioque – истина, и во всяком случае третья Ипостась в исхождении связана не только с Первой (что и утверждает однобоко Фотий), но и со Второй»[334]334
Переписка священника Павла Александровича Флоренского со священником Сергеем Николаевичем Булгаковым / Архив свящ. П. А. Флоренского. Вып. 4. Томск, 2001. С. 181–182.
[Закрыть]; наконец, известен цикл диалогов «У стен Херсониса», где последовательно проводится трактовка верховной первосвященнической власти папы. Отмечу, что именно прокатолические симпатии Булгакова значительно осложнили его отношения с эмиграцией, особенно с молодым поколением эмигрантов, в среде которых Булгаков как мыслитель рассчитывал найти наиболее доброжелательно настроенную к себе аудиторию, а как священник – свою паству[335]335
«Мое положение сугубо трудно: я со своими идеями попадаю в атмосферу доносов, сыска, атеизма, национализма и враждебности к католичеству» [Дневниковая запись от 23 февраля (8 марта) 1923 года. Курсив мой. – А. Р.].
[Закрыть].
Рассматривая в начале своих странствий по Европе унию с Римом как акт прежде всего патриотический, необходимый для спасения России, Булгаков прекрасно отдавал себе отчет в том, что его идеи вряд ли будут адекватно восприняты, однако «натиск воинствующего католицизма, уверенного, умного, сильного, победа которого так же неотразима, как дреднотов над ручными триремами», представлялся ему неизбежным и спасительным: «остров Православия смывается, и всякая попытка его оградить только свидетельствует никчемность», и тяга к кафоличности как к универсальности есть только попытка преодоления всего «ущербного, провинциального в историческом Православии». Причина любви к католичеству православного священника С. Булгакова достаточно прозрачна – это поиск той гармонии и цельности, которая заложена в идее Рима как католической, т. е. всеобщей церкви, вместо утраченной гармонии и утраченного единства церкви кафолической – Православной; причина, во многом заимствованная у своего онтологического предшественника – Вл. Соловьева, однако с учетом тех поправок, которые были внесены историей начала ХХ века. Поэтому логично рассматривать активную роль Булгакова в эйкуменическом движении в последующие годы как своего рода отзвуки прокатолических идей – это тот же поиск единства, попытка разрушить конфессиональные «перегородки, которые не доходят до неба».
Однако столкновение Булгакова с реальным, а не чаемым католицизмом в значительной степени умерило связываемые с ним надежды. «Ко мне ходит о. Глеб В.[336]336
Глеб В. – свящ. Глеб Верховской (Верховский) (1888–1940), католик восточного обряда. Родился в Санкт-Петербурге, в 1915 году в Болгарии принял священство, но затем вернулся в Петербург. В 1921 году эмигрировал; с июля 1922 по февраль 1923 года находился в Константинополе. См. о нем: http://krotov.info/history/20/1920/1922verh.html#_ftn1 (режим доступа: свободный).
[Закрыть], католик, я ему не верю, инстинктивно сжимаюсь перед ним, как перед змеей, чувствуется какая-то лживость, задняя мысль, лукавство, “иезуитизм” во всей его повадке, а в то же время в церковном сознании я с ним. Я к нему ближе, чем ко всем нашим»[337]337
Константинопольский дневник. Запись от 10 (23).01.1923.
[Закрыть]. Запись от 4 (14).03.1923: «Познакомился с иезуитом гр. Тышкевичем. Это было одно из моих поражений, невидимых миру. <Он> мне определенно не понравился: нечто карикатурное, “иезуитское”, приторное, фальшивое в нем было”». И далее: «У меня был гр. Тышкевич (иезуит) и произвел совершенно отрицательное впечатление <…>. И снова мучительно встает вопрос: почему же папство исторически равно иезуитству <…> почему? А это, при всей грандиозности своего духовного замысла и силе, это <…> не христианство, это – умовая и волевая энергия, направленная к высокой цели, но ставшая механизмом, словом, это уже государственность духовная, в которой нет личного Христа, но выработался волевой, напряженный идеализм».
Эти столкновения, понятно, нисколько не отрицают ценности и духовного смысла католицизма. Они лишь ставят под сомнение всю утопичность осуществления теократического идеала по соловьевскому типу (католичество – «вселенская церковь» – Церковь) в сфере реального исторического бытия. Резкая оценка католической тринитарной теологии, данная во второй части «Глав о Троичности» (опубл. в 1930 г.), в определенной степени связана с этим ранним разочарованием и есть, по сути, результат анализа его оснований: неудовлетворительность для Булгакова католической онтологии и послужила толчком к конструированию собственной онтологической модели. И если «Главы о Троичности» есть попытка прояснить сущность католической тринитарной онтологии, то догматическая часть «Иуды Искариота» является попыткой пересмотреть историософские основания католицизма и прежде всего католическое учение о предопределении, столь важное для них.
III
Тема предопределения – это еще античная тема. В античной культуре понятие судьбы имеет тотальный характер; личное противостояние судьбе невозможно. Такая трактовка феномена судьбы фундируется в характерном для античности истолковании мирового процесса, когда, начавшись от некоего единого источника, мировой процесс должен вернуться к нему. Примечательно, что многие богословские конструкции, генетически связанные с античными онтологическими моделями (в частности, учение Августина о предопределении и в целом августинианская линия в христианском учении о спасении; в определенном смысле и софиологическая модель, разработанная Вл. Соловьевым), зачастую используют именно такую концепцию мирового процесса. Именно эти модели и подвергаются анализу и критике в «Иуде Искариоте», и выбор таких имен, как Августин, Пелагий, Янсений, Кальвин, Луис де Молина, для Булгакова вовсе не случаен, так как именно в их сочинениях дана историософская модель, с которой он пытается спорить. Различие в их богословских мнениях задает некоторое «проблемное поле», в рамках которого уместно будет выделить несколько оппозиций (крайних мнений), важных для последующего анализа.
1. Августин – Пелагий. Начнем с Августина, точнее, с его учения о предопределении (предестинации), поскольку в нем наиболее четко зафиксированы понятия и определения, с одной стороны, важные для католического и отчасти протестантского учения о предопределении, которые пытается переосмыслить Булгаков. Учение о предестинации (предопределении) у бл. Августина появляется уже в достаточно ранних работах (например, «О различных вопросах к Симплициану»), однако наибольший вес и значение приобретает в поздний период, в период так называемых пелагианских споров («О природе и благодати», «О благодати Христа и первородном грехе», «О деяниях Пелагия», «О предопределении святых» и многие другие). Сущность этого учения такова: Бог пред-знает то, что он совершит по отношению к твари (собственно «предестинация», или, точнее, «предестинация» (praedestinatio)), и имеет некий «план» или «пред-решение»[338]338
Перевод термина Зои Комлевой. См.: Комлева З. В. Свобода воли и предопределение у Аврелия Августина в его полемике с пелагианами: Дис… канд. филос. наук (09.00.03). М., 2000.
[Закрыть], являющееся основанием для избрания святых и для отвержения грешников (propositum). Оба эти понятия фундируются в божественном разуме и обусловлены всеведением, «пред-наукой» (praescientia) Бога. С учением о предопределении теснейшим образом связано учение о свободе воли: так как Бог еще до начала тварного времени предопределяет и то, что будет им обязательно совершено, и то, что им совершено никогда не будет, все люди оказываются заранее классифицированными либо как праведники («призванные» или «избранные»), либо как грешники («отверженные»).
В процессе реализации божественного замысла (в тварном времени) свободная воля человека, являясь со-работницей Бога в деле благодатного воплощения, может уклониться от Божьей воли (что есть грех), но не сможет противоборствовать божественному замыслу, или плану. Согласно учению Пелагия, понятие первородного греха не имеет ни метафизической, ни реальной силы, поэтому грех есть проявление единичной воли. Вследствие этого спасение мыслится как возможное без благодатного вмешательства; благодать трактуется только как позитивный проект и пример действования Божия в мире. Деятельность и учение Пелагия осуждены Карфагенским Собором, а указом императора Гонория от 418 года признаны ересью. Промежуточную позицию в пелагианских спорах заняли так называемые мессилианцы (по названию места распространения еретического учения – монастыри в районе г. Массилии (современный Марсель).
2. Кальвин/Янсений и Лувенская школа – Луис де Молина. Этот спор, до поры почти забытый, оказался чрезвычайно важным в период Реформации (и, соответственно, контрреформации), когда большую роль стала играть идея личного спасения и свободы воли. Крайними точками в этой бинарной оппозиции являются суждения по этому вопросу, с одной стороны, Кальвина и Янсения, а с другой стороны, испанского иезуита Луиса де Молина (молинизм). Так, для Кальвина предопределение носит тотальный характер, и ни подвигом (молитвенным или послушническим), ни даже верою, как для Лютера, человек не в состоянии изменить Божий промысел. Отсюда характерные для протестантизма в целом и особенно для кальвинизма ориентация на мирской аскетизм и фактически сакрализация трудовой деятельности; а также крайняя резкость и нетерпимость по отношению к идеологическим противникам. В связи с этим любопытно вспомнить теоретические и политические установки раннего Булгакова – не случайно эпиграфом к «Двум Градам» (двухтомный сборник статей с характерным названием – августинианские реминисценции очевидны – и с не менее характерным подзаголовком «о природе общественных идеалов») стала латинская фраза «laborare est orare» – труд есть молитва. Границы влияния протестантской трудовой этики на теорию «общественных идеалов» – тема отдельного исследования; во всяком случае, даже сейчас можно утверждать, что знакомство с трудами М. Вебера и Э. Трельча лишь инициировало, но не исчерпало полностью булгаковский интерес к протестантизму. От интеллектуального обаяния протестантизма Булгаков отходит полностью, судя по всему, лишь к середине 1920-х годов, хотя в качестве точки размежевания следует упомянуть и конец 1910-х (статья «Современное арианство» в «Тихих думах»).
Позиция Янсения, как и общая позиция богословской школы города Лувен во Фландрии (в частности, Михаила Байлоса и Иоанна Хессельса), в рамках которой был создано основное его сочинение – трактат «Августин», чрезвычайно близка кальвиновской[339]339
Несмотря на всю близость к кальвинизму в вопросе о предопределении, янсенизм всегда оставался течением в рамках католицизма. Наиболее известной и значимой считается французская версия янсенизма, разработанная Антуаном Арно и членами его семьи («богословие Пор-Рояля»); последователями янсенизма были Блез Паскаль и Жан Расин, с богословием же Пор-Рояля связаны основные положения философии Декарта, в частности основные положения картезианской этики, сформулированные в пятой части «Рассуждения о методе». Правда, полностью поддерживая идею о внешней зависимости человека от его судьбы, по отношению к которой возможен только один способ должного поведения – это способ ее мужественного приятия, Декарт – впервые в истории философии – конструирует территорию разумной человеческой субъективности как территорию подлинной свободы.
[Закрыть]: спасение человека возможно только по божественной милости, всецело дарованной и непосредственно действенной только в отношении предызбранных, и никаким человеческим усилием самим по себе нельзя ни достичь благодати, ни сопротивляться ей. Позиция богословов лувенской школы формировалась в полемике с молинистами, для которых характерно преуменьшение значения первородного греха (характерно название работы Луиса де Молина: «Согласие свободной воли с дарами благодати»): человек способен сделать действенной благодать, получаемую от Бога, чрез само ее принятие.
Как видим, во всем этом разнообразии, во всем континууме различных идей и взглядов, столь полярных различных конфессионально (скажем, позиции Кальвина и Молины), можно вычленить нечто общее, и это общее – как раз проблема предестинации. Действительно, всюду здесь мы встречаем понятие о некоем домирном предрешении, в определенном смысле фатальном для судеб мира, и степень личной свободы человека – это лишь степень следования или не-следования некоему пред-существующему пути. Даже в точке зрения Молины, понятно, гораздо более близкой Булгакову конца 1920-х – начала 1930-х годов, чем, скажем, позиция Кальвина, можно проследить именно этот оттенок – оттенок некоей линейной направленности мирового процесса от начальной точки к финальной. Эта позиция отчасти связана с августинианской концепцией времени, изложенной в 11-й главе знаменитой «Исповеди», где время описывается как единый и целостный процесс, начальная точка которого – творение мира, конечная – Страшный суд, а настоящее – лишь математическая точка на этой линии, постоянно уходящая, сдвигающаяся в прошлое. Подлинными наследниками этой традиции являются, по всей видимости, Гегель со своей «хитростью разума» [(List der Vernunft) – термин, обозначающий особое свойство мирового разума, который, являясь и началом, и одновременно целью собственного диалектического движения, использует в своих интересах индивидуальные устремления людей, зачастую не совпадающие с ним], соловьевское учение о Софии периода «России и вселенской Церкви», когда София есть трансцендентная альфа и омега наличного и исторического бытия, и отчасти трактовка Софии как трансцендентального субъекта хозяйства в «Философии хозяйства» и парадигмы, предпроекта, разворачивающегося в истории, в «Свете Невечернем».
Все эти точки зрения, несмотря на всю их полноту и убедительность, не в состоянии ответить на один вопрос: как быть с Иудой? С одной стороны, его роль не может быть случайной, поскольку без этого предательства не было бы распятия, а значит, и воскресения, то есть Иуда безусловно играет чрезвычайно важную роль в реализации Божьего промысла, с другой же стороны, это безусловно есть грех, да еще такой, совершив который человек жить более не может, «шедудавися». В рамках трактовки предопределения, изложенной выше, этот парадокс практически неразрешим.
Но Булгаков предлагает совершенно иную модель. Вся проблема заключается в том, что вместо того чтобы вести речь о промысле, то есть совокупности судеб, гораздо более запутанных и сложных, нежели простое следование линейному времени, и включает в себя всю совокупность возможностей, в том числе и неосуществившихся или недоосуществившихся, западное (и не только западное) богословие ведет речь о спасении, о реальности мира только как совокупности реализованных событий. Это такой опыт онтологии, согласно которому Бог остается трансцендентным миру и действует на него как на объект, «во славу Божию». Об этом как раз и пишет Булгаков в «Иуде Искариоте»:
…мир есть вещь в руках божественного мастера, так же как и человеческая душа. Вся активность и вся свобода остается на стороне Бога, а вся пассивность и пластичность на стороне мира, который не имеет свободы в себе, вообще своей собственной активности, как и способности сопротивления. Но эта трансцендентность Бога миру последовательно отнюдь не выдерживается, потому что Бог поставляется в одну логическую плоскость с миром во времени, в качестве предшествующей первопричины, откуда и само понятие предопределения. Нужды нет, что сопоставляются несоизмеримые между собою величины: Бог и мир. Тем не менее соотношения между ними определяется так, что Бог своею волей в качестве первой причины определяет пути мира, заводит его механизм. Тем самым Бог входит во временное бытие, в мировой процесс, как определяющий его агент. Получается противоречие между сверхмирной трансцендентностью Бога и этим Его космизмом. С другой стороны, – и в этом новое противоречие, – здесь устанавливается совершенная внебожественность мира и внемирность Бога, так что действие Бога в мире понимается как сверхприродное или «благодатное» вхождение в него божественных сил и божественной жизни. Это еще соответствует благодати, которая есть, действительно, божественное, сверхприродное начало в природе, сверхтварное в твари» [237–238].
Позиция самого Булгакова совершенно противоположна:
Как предмет промысла Божия, мир не есть только вещь или объект в руках Божиих, – он имеет свое собственное бытие, данное ему Богом при сотворении, свою собственную природу, свою собственную жизнь. И в то же время эта тварная природа не остается вне Бога, потому что онтологически внебожественного бытия вообще не существует. Мир пребывает в Боге, хотя и не есть Бог, и отношение Бога к миру в промысле Божием определяется не как одностороннее действие Бога навне Его лежащий и Ему чуждый мир, но как взаимодействие Творца с творением. Для этого взаимодействующие стороны должны обладать, прежде всего, собственной реальностью и самобытностью <…>.
Для того чтобы стать самобытным, мир должен быть божественным в своей положительной основе. Он и является им, поскольку мир есть тварная София, полнота божественных идей-сил, которые, будучи погружены в небытие в божественном акте творения, приобрели для себя инобытие в мире. Единая София и единый божественный мир существуют и в Боге, и в творении, хотя и по-разному: предвечно и во времени, абсолютно и относительно (тварно). <…> Бог дал миру при сотворении подлинную реальность[340]340
Курсив Булгакова.
[Закрыть], которая положена Им на века и для самого Творца. Силою этой божественной реальности, как и силою этого непреодолимого различия, мир существует и для себя, и для Бога, и отношение между ними может быть только в порядке взаимодействия, как бы оно ни было глубоко, интимно и всесторонне, вплоть до соединения двух природ, Божественной и тварной, и обожения человечества во Христе и Церкви» [С. 239–240].
Однако и это еще не все:
Для того чтобы взаимодействие это было полным, необходимо, помимо реальности обеих сторон, еще их подобие или соответствие. Бог сотворил в человеке Свой собственный образ во всей реальности его, дал ему жизнь, сделав его для себя другим[341]341
Курсив Булгакова.
[Закрыть] (другом). Но в то же время этот тварный мир не способен к самостоятельной внебожественной жизни, он содержится в руке Божией[342]342
Курсив мой.
[Закрыть], и при всей самобытности свой он не может отпасть от Бога, сохранив полноту своего бытия [C. 240].
Другими словами, если в традиции предестинации свобода – это лишь линейная величина, степень ослабления результатов первородного греха с помощью благодати, когда человек по отношению к Творцу выступает как объект, который может принять или не принять благодать, но сущность его жизни (а зачастую его спасения) фактически не меняется от этого принятия, то для Булгакова свобода – это модус данности, а не заданность. Бог для Булгакова – это Вседержитель, он как бы «держит» мир в своей руке, и точка этого касания, «точка держания» есть София. Мы видим, что София здесь – уже не «вечная женственность», не рецептивное, пассивное женское начало, как было еще в середине 1920-х годов в «Ипостаси и ипостасности», пассивность мира относится теперь к числу упреков католической догматике. Это скорее сретение, «место встречи» Бога и мира. Онтологически – через Софию – связанный с Богом мир именно по этой связи обретает свободу. Согласно тринитарной онтологии Булгакова конца 1920-х годов, человек есть отнюдь не объект (объект творения), а со-равнодействующий субъект, и именно поэтому религия есть всегда личное дело: дело двух личностей, Абсолютного субъекта-Троицы и человека, Личности и личности. И если по этой модели мир есть совокупность предикатов по отношению к Абсолютному Субъекту, совокупность сказуемых-сказываемых мира, то именно в человеческом «я», репрезентирующем Я Абсолютное, Бог может услышать ответное слово. Идеальный диалог человека с Богом – это диалог-согласие. Когда этот диалог прерывается или искажается, наступает диссонанс.
IV
В этом смысле ситуация Иуды – это ситуация абсолютного диссонанса. В модели Булгакова зло и грех появляются не только тогда, когда человек уклоняется от божьего промысла, – это частный случай чего-то более общего. Дело в другом. Дело в вопросе о природе зла – вопросе, традиционно трудном для большинства теологически ориентированных систем. Для Булгакова начала 1930-х годов, как раньше и для католика Аквината, зло не имеет сущности, но лишь существование. Именно поэтому оно так многолико. Зло не есть само по себе, не есть реальность. Но «реальность» Булгакова – это вовсе не ens realissimum Фомы. Мир равнореален Богу, и человек, как равнореальный субъект, вполне способен эту реальность уничтожить, хотя бы в возможности: не всю полноту Божия творения, но, по крайней мере, тот мир, государственность, культуру, которую творит он сам, – история первой половины ХХ столетия показала это со всей очевидностью. Подобная возможность в истории может осуществиться как бунт, «бессмысленный и беспощадный», или принять какие-либо иные формы. В конце концов, человек, будучи творцом, является творцом и своей собственной судьбы; если Бог видит мир в полноте всех возможностей и реализаций этих возможностей, человеку дано реализовать лишь одну – вся совокупность «несбывшихся событий» так и остается лишь в потенции.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.