Текст книги "Родом из Переделкино"
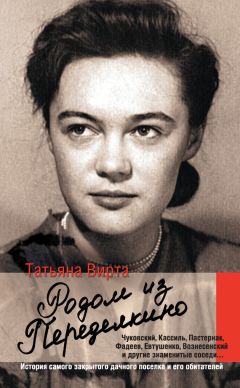
Автор книги: Татьяна Вирта
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Да ты тридцать раз все исчеркал бы и нашел правду. Измучил бы бывалых солдат, собеседников, выжал бы нужное» (письмо от 7.10. 1947 г.).
Литературный вкус В. Вишневского не изменил ему и на этот раз, и фальшивые ноты показной бравады, наигранной бодрости, топорная натянутость некоторых диалогов резали ему слух.
Однако голос его не был услышан, и за недостатком времени пьеса не была переосмыслена и доработана автором.
Точно так же, много лет назад, писатель оставил без внимания голос другого критика, не менее доброжелательного по отношению к нему, чем Вс. Вишневский.
Имеется в виду Е. Усиевич, которая писала после выхода в свет второго романа Н. Вирты «Закономерность» («Литературный критик», 1939 год):
«...Будем надеяться, что эта линия подмены образного мышления... образным изложением готовых, но недостаточно продуманных выводов является лишь легким головокружением от первого успеха. Надо думать, что Н. Вирта вернется к глубоко продуманным и пережитым темам, и мы снова будем иметь возможность отметить его новые удачи и новые достижения...»
* * *
Такой заветной темой для моего отца была Земля, деревенская жизнь, которую он знал не понаслышке. На ней он вырос, на ней получил первые впечатления юности – светлые и трагические. Такое генетическое понимание деревни остается в человеке навсегда.
В начале своего творческого пути, когда Николай Вирта столь блестяще заявил о себе, опубликовав свой первый роман «Одиночество», в его жизни произошло знаменательное событие. Его пригласил к себе корифей театра В.И. Немирович-Данченко и предложил написать пьесу для МХАТа по мотивам романа «Одиночество». В беседе с писателем было найдено и заглавие к будущей пьесе – «Земля». Пьеса была поставлена в 1937 году и многие годы не сходила со сцены, вписав яркую страницу в историю МХАТа и упрочив положение моего отца как одного из признанных советских драматургов, чье имя критики тех лет ставили в один ряд с К. Треневым, Н. Погодиным, А. Корнейчуком, Вс. Ивановым.
После войны Н. Вирта снова возвращается к той же близкой и болезненной для него теме Земли. Разумеется, отец прекрасно знал о плачевном состоянии послевоенной деревни – большинство мужчин не вернулось домой, кругом была тотальная разруха, нищета. На трудодни ничего не платили. Кормились исключительно со своих огородов, скрываясь от местных властей, косо смотревших на это явное проявление мелкособственнических «пережитков прошлого». Вдобавок ко всему крестьяне не имели паспортов – этот великий жест выдачи документов, удостоверяющих личность человека – «И людям все права людей, По царской милости моей, Отдам из доброй воли», – сельским жителям бывшего СССР пришлось ждать целую вечность, процесс затянулся до середины 70-х годов...
Новая пьеса Н. Вирты, носившая символическое название «Хлеб наш насущный», была поставлена в 1947 году Московским театром драмы, где только что прошла премьера «Великих дней», а вслед за ним многими театрами по всей стране, и шла в течение нескольких лет. Основная коллизия в этой пьесе, игнорируя вопиющие проблемы колхозного строя, устремляется в идеалистическую сферу подбора «правильных» кадров на селе. Если раньше здесь орудовали всякие ловкачи, то теперь после того, как в колхоз пришли фронтовики, здесь решительно все изменилось. «Положительный» герой пьесы, фронтовик Рогов, разоблачает «отрицательного» героя, Силу Силыча Тихого, этакого кулака советского разлива, который пускался на всякие махинации и приписки, лишь бы втереть глаза районному начальству и любой ценой удержаться на посту председателя якобы «передового» и якобы «показательного» колхоза. Волевой и целеустремленный, Рогов искореняет порочные методы ведения хозяйства в селе и направляет деревенских тружеников на подъем колхозного строительства в нашей стране.
Надо отметить, справедливости ради, что местный колорит и в этом произведении Николая Вирты воссоздан с профессиональным мастерством и правдивостью: описание деревенской жизни – это был его конек, им он безошибочно пользовался во всех своих вещах, связанных с сельской тематикой.
К сожалению, созданная по трафарету социалистического реализма, когда по его законам полагалось, чтобы «хорошее» начало непременно побеждало «плохое», и эта пьеса Н. Вирты была обречена остаться в той эпохе, в которую была написана, и если сохраниться в памяти, то лишь как пример поспешного отклика ее автора на самые актуальные запросы текущего момента.
Трудно утверждать однозначно, чего было больше в такой пьесе, как «Хлеб наш насущный», – искреннего самообмана или умышленного искажения и сокрытия правды?!
По этому поводу в умной книге Д. Данина «Бремя стыда» приводится следующее интересное мнение. Рассуждая о преуспевании в жизни как таковом, Д. Данин вспоминает высказывание Б. Пастернака по поводу поэзии Н. Асеева – «выразителя романтической героики революции», как говорится о нем в Большой Советской энциклопедии издания 1989 года. «Эпоха, – писал Б. Пастернак, – поставила Н. Асеева перед выбором «...страдать ли без иллюзий или преуспевать, обманываясь и обманывая других». «Н. Асеев, – говорится дальше в книге Д. Данина, – выбрал преуспеяние. И трагизм его решения, по мысли Пастернака, состоял в измене серьезному отношению к миру. Такая серьезность – врожденное свойство природного поэта. И легкомысленные сделки с эпохой трагичны для его пера» (Д. Данин «Бремя стыда», стр. 213).
В этом смысле судьба многих писателей советской эпохи, равно как и их произведений, поистине трагична – ныне они преданы забвению скорее всего навсегда.
Пьесу «Хлеб наш насущный» одобрили «наверху». И отец получил за нее свою третью Сталинскую премию, а Сталинские премии, как известно, давались по непосредственному распоряжению Хозяина. За его творчеством, по всей видимости, по-прежнему следили из Кремля и все еще считали его полезным и нужным.
* * *
Еще одно произведение Н. Вирты, написанное им в послевоенные годы, приносит ему успех. Это пьеса «Заговор обреченных», которая стоит особняком в творчестве писателя. Если отвлечься от политической подоплеки этой пьесы и рассматривать ее с точки зрения остросюжетного жанра, то она в полной мере ему соответствует: яркие характеры, интриги, антигосударственный заговор с участием «иностранных приспешников» – все это составляет основное содержание пьесы, действие которой развивается стремительно и динамично.
Что же касается политической подоплеки, то в пьесе отражается ситуация, сложившаяся в странах Восточной Европы, где нарастал протест против давления на них со стороны СССР, всеми силами пытавшегося насадить там социализм советского образца. Когда-то, еще до войны, в ночной беседе с писателями Сталин пообещал им объединить всех славян в единую семью. Теперь, после одержанной в войне победы, политика «большого брата» по отношению к странам «ближнего зарубежья», как их тогда называли, красноречиво свидетельствовала о серьезности намерений Сталина осуществить на практике свою идею.
В таком политическом климате в 1948 году появляется пьеса Н. Вирты «Заговор обреченных».
Пьеса стала сенсацией дня. Многочисленные журналы и газеты высказывались о ней в духе дня, отмечая смелую политическую направленность и актуальность нового произведения драматурга.
В самом начале 1949 года ее поставил Театр им. Вахтангова, а вслед затем в Москве: Малый театр, Театр транспорта, МХАТ; в Ленинграде – Академический театр им. Пушкина и по провинции многие ведущие театры страны.
В Театре им. Вахтангова пьесу ставит Рубен Николаевич Симонов и занимает в ней первый состав актеров, в спектакле на сцене появлялись одни только звезды того времени. Так, блестящую и коварную Христину Падеру, министра продовольствия, играла выдающаяся актриса Ц. Мансурова. Материал пьесы давал ей возможность создать образ обольстительной и опасной интриганки, плетущей нити заговора против коммунистов и Советского Союза. Сэра Генри Мак-Хилла, американского магната, выразительно играл М. Астангов, с присущим ему мастерством используя для создания образа сатирические, а подчас и гротесковые краски. В роли фермера Косты Варры выступал А. Горюнов – простоватый и добродушный крестьянин в его исполнении пользовался неизменной симпатией зрителей, и его появление на сцене сразу же встречали дружные аплодисменты.
В пьесе был еще один блестящий дуэт двух молодых и необычайно красивых артистов – это были Ю. Борисова, исполнявшая роль Магды, и Ю. Любимов в роли привлекательного рабочего паренька, в которого была влюблена Магда.
В театре был постоянный аншлаг, цветы, аплодисменты.
* * *
Еще более популярным был фильм, снятый по пьесе «Заговор обреченных» режиссером М. Калатозовым. Выше я уже писала о том, что в роли кардинала Бирнча в фильме снимался недавно вернувшийся из эмиграции А. Вертинский.
Можно подумать, что эта роль была написана специально для него – он был в ней поистине великолепен и своей игрой наверняка способствовал тому, что этот фильм пользовался таким успехом у зрителей.
Самое интересное заключается в том, что многие люди, видевшие этот фильм в те допотопные времена, до сих пор его помнят. Недавно Виктор Суходрев рассказывал нам с мужем, что он молодым парнишкой с друзьями несколько раз бегал в кино смотреть фильм «Заговор обреченных», который молодежь воспринимала как детектив: в нем есть крутые повороты сюжета, подспудные интриги, действие, драйв, если говорить на современном жаргоне, которого не было в большинстве застывших советских кинолент.
Отмечу еще одно поразительное обстоятельство. Само это произведение, написанное в 1948 году, явилось своеобразным предупреждением о том, что ждет нас впереди. В то время никто еще не знал, что в недалеком будущем в Будапешт войдут колонны советских танков, а затем будет безжалостно подавлена Пражская весна. С легкой руки отца название этой пьесы – «Заговор обреченных» – стало чуть ли не именем нарицательным.
За фильм «Заговор обреченных» Н. Вирта получил свою последнюю, четвертую Сталинскую премию.
* * *
Умер И.В. Сталин.
Сложилось так, что накануне похорон я увидела его с близкого расстояния лежащим в гробу.
В детстве отец не раз брал меня с собой на парады на Красную площадь. Мы стояли в толпе приглашенных у подножия мавзолея и оттуда могли видеть Сталина. Но что можно было разглядеть с такого расстояния? Осанистая фигура, шинель, фуражка, усы – плакатный образ вождя.
И вот за день до похорон с семьей одних моих высокопоставленных знакомых мы вышли из подъезда их дома № 9 на улицу Горького, совершенно пустынную, и стали спускаться вниз к гостинице «Националь», после чего свернули к Колонному залу Дома Союзов. При этом глава семьи показывал всем постовым, расставленным на каждом шагу, зеленую книжечку кандидата в члены ЦК КПСС, и нас беспрепятственно пропускали дальше. Улица Горького была абсолютно безлюдной, все боковые переулки были блокированы бронетанковой техникой, и за ней слышался гул и рев обезумевших толп, прорывавшихся в Колонный зал, чтобы, наконец, воочию увидеть своего любимого вождя. Где-то там, в гуще этого столпотворения в этот самый час душилась моя бабушка – полная решимости исполнить свой гражданский долг, как она тогда его понимала, она вырвалась из дома, несмотря на все попытки моей мамы ее удержать, и у Болотного сквера слилась с толпой, устремленной к центру. Ее сейчас же закрутило и понесло, как щепку в бурной реке. Напротив Александровского сада, где тогда еще были жилые постройки, бабушку притерло неуправляемым людским потоком к какой-то подворотне, и в проломленную калитку, обдирая одежду и лицо, вдавило во внутренний двор. Это ее и спасло. Задними дворами ей удалось вернуться обратно к Москворецкому мосту, откуда она стала пробиваться домой. Все остальное происходило как в тумане. Она не помнит, как проталкиваясь, просачиваясь, пролезая сквозь спрессованное людское месиво, она выбралась на набережную и, свернув в Лаврушинский переулок, явилась домой с расцарапанным в кровь лицом, без единой пуговицы на пальто и в одной калоше.
Наутро стали собирать трупы людей, оставшихся лежать на московских мостовых, висящие на решетках и заборах, припечатанные к стенам домов. Их свозили к моргам, где началось опознание неузнаваемо обезображенных жертв этого чудовищного жертвоприношения, принесенного народом в дни похорон тирана. В стране тотальной секретности эти цифры, естественно, были строжайшим образом засекречены, однако слухи о произошедшем очень скоро стали проникать в массы. Были семьи, находившие своих родных под номерами, близкими к полутора тысячам. А об остальном можно было только догадываться.
* * *
Наконец наша маленькая группа из четырех человек, под зловещий и все нараставший по мере нашего продвижения к Охотному ряду гул оказалась возле массивных дверей – вход был оцеплен двойным или тройным кольцом военного патруля, поскольку допуск рядовых граждан для прощания с И.В. Сталиным в настоящее время был закрыт, и патруль с трудом сдерживал натиск толпы, напиравшей со стороны Большой Дмитровки.
Мы вошли в зал, где кроме нас было совсем немного народа, и сели на стулья, двойным рядом расставленные вокруг гроба.
И вот он лежит перед нами. Никакие устроители ритуала, конечно, не могли скрыть физические недостатки вождя – его несоразмерно малый рост, усохшую левую руку, изъеденное глубокой рябью лицо. Весь этот облик был столь не похожий на мое представление о нем. Зрелище было жуткое...
Я вернулась домой вся в смятении, заливаясь слезами.
– Нечего тебе рыдать! – такими словами встретил меня отец. – Туда ему и дорога!
– Как ты можешь так говорить?!
– Побольше узнаешь – все слезы высохнут!
– Папа, но он больше суток пролежал без всякой медицинской помощи, к нему вообще боялись подходить... – Я уже была посвящена в обстоятельства этой смерти.
– Это Бог покарал его за все злодейства, которые он совершил!
Я онемела – что я слышу?! И это после «Сталинградской битвы», недавно вышедшей из-под его пера, где генералиссимус представлен в ореоле величия?! Казалось, этот сценарий отец писал от чистого сердца, с подлинным порывом и вдохновением! Возможно, так оно и было в эйфории Победы, но внутренняя гармония длилась недолго. Вскоре к нему вернулось понимание окружавшей его действительности, и он не видел для себя иного выхода, кроме как писать заведомо проходные вещи. Вопрос заключался лишь в том, был ли он несчастен от этих, по выражению Б. Пастернака, «легкомысленных сделок с эпохой»? Или это был сознательный выбор человека с запятнанной биографией, постоянно боявшегося расплаты?! Теперь нам уже никогда не узнать, что творилось в его душе – мучила ли его совесть художника или он перестал терзаться проблемами нравственности, закалившись в борьбе за выживание?!..
* * *
В начале 50-х годов в нашей семье произошла катастрофа. Иначе это событие никак не назовешь – отец ушел из дома к одной даме, которая в те годы слыла одной из самых первых красавиц в Москве. Примечательно, что когда-то, еще до войны, отец спасал от ее чар своего близкого друга Евгения Петрова, срочно вывезя его из Ялты в Переделкино, поближе к детям и жене.
Мы все очень страдали от того, что наш дом без отца как будто опустел – для чего нужен кабинет, если за столом никто не сидит?! В особенности страдал мой брат Андрюша, который тогда был совсем еще маленький.
Союз со второй женой продолжался у отца недолго, оставив в память о себе лишь горечь унижения и досаду.
Вскоре отец женился в третий раз, но и этот брак как-то не сложился. По существу, они с его третьей женой разошлись. Отец безвыездно поселился в Переделкине на своей новой даче, где прожил до самой смерти. Его жена оставалась в Москве и к отцу не приезжала.
* * *
Женившись во второй раз, отец решил начать жизнь с чистого листа. И с этой целью на некоторое время обосновался на жительство в своих родных местах на Тамбовщине. Для него Тамбовщина была тем же самым, что для Шолохова – Вешенская, Дальний Восток – для Фадеева или Саратов – для Федина.
В селе Горелое Тамбовской области, на высоком берегу реки Цны, неширокой, но полноводной, он построил красивый бревенчатый дом, из окон которого открывался прекрасный вид – на заливные луга внизу, у реки, тенистые вековые дубравы на противоположном берегу и бескрайние волнистые просторы полей, уходящие до самого горизонта.
Я навещала его в то время в Горелом. Отец вел кипучую деятельность: с раннего утра на своем вороном жеребце – отец был отличным наездником – он объезжал колхозы, поля, МТС и возвращался к ночи. А иной раз, засидевшись у кого-нибудь из местного начальства до темноты, оставался там ночевать и являлся домой на следующий день.
Положение в деревне в начале пятидесятых годов было критическим.
Истощенное войной хозяйство, голодная скотина уже устала реветь и к весне висит, подвешенная на веревках. Дома, сложенные из самана – смеси глины с навозом, – рушились, соломенные крыши прорастали мхом и травой, стены заваливались набок и, если бы не подпорки, давно бы уже рухнули на землю. Мужиков в колхозах почти нет, вместо них на полях работали женщины, старики и подростки. Нужда была решительно во всем, в МТС – отсутствие запчастей, горючего и вообще какой бы то ни было материальной базы.
Оптимизм можно было черпать только в планах на будущее.
В этих условиях районное начальство выкручивалось как могло: подавало рапорты наверх о выполнении различных обязательств – показателей, поставок, заготовок... Эта показуха приводила в бешенство моего отца. Он воспринимал досрочные запашки, рекордно ранний сев и ускоренные темпы уборки урожая как чистое надругательство над землей и не мог с этим смириться. Он кричал по телефону до хрипоты, спорил, убеждал, в очередной раз кидался сражаться с обкомом, райкомом, МТС. Надо предполагать, что он был как кость в горле у многих местных руководителей, которые предпочли бы, чтобы столичный и весьма влиятельный наблюдатель столь дотошно, а главное со знанием дела, вмешивающийся во все перипетии колхозной повседневности, умерил бы свой пыл и отбыл, наконец, в Москву. Но Николай Евгеньевич все не отбывал и просидел в Тамбовской глубинке целых пять лет подряд.
С некоторыми людьми из местного начальства он, конечно, дружил. Помню, нас принимала Агриппина Тихоновна Титова. Радушная хозяйка и незаурядная личность, она тогда была первым секретарем районного комитата партии. Как говорили про нее в районе – мало того, что баба ходит в чине столь высокого начальства, так еще и по характеру – «сущая тигра».
Стол в ее гостеприимном доме был уставлен яствами: рыба из Цны, пареная репа из русской печки, оттуда же пышные пироги с морковью, чай с душистым медом из своих ульев. Приусадебные клочки земли, о которых в те времена старались помалкивать, и уж тем более партийные боссы, давали возможность людям кое-как перебиваться на подножном корму.
В автобиографических записках «Как это было и как это есть» («Советская Россия», Москва, 1973 год) у отца есть юмористическое описание своеобразной обстановки в доме у Титовой:
«Жила она в доме, по наследству переходившем от одного секретаря райкома к другому. Некий секретарь, любитель зеленого убранства, обзавелся фикусами. В течение последующих лет они превратились в огромные ветвистые деревья. Выдворить их можно было, либо уничтожив, либо разрушив стену. Так и жила Титова в фикусовом лесу, негодуя на эти фикусы, но и жалея их, и посылая проклятия в адрес того, кто их разводил».
Из-под своих развесистых фикусов Агриппина Тихоновна Титова шагнула прямо на страницы романа Н. Вирты «Крутые горы», а впоследствии и на сцену спектакля «Дали неоглядные», где выступала под именем Анны Павловны Ракитиной. Образ этой женщины с ее сомнениями, с ее душевным неустройством – самый убедительный и жизненный как в романе, так и в пьесе. Понятно, однако, что одного удачного образа совершенно недостаточно для прозаического произведения, названного «романом».
Сложно сказать однозначно, чего больше всего недостает в романе «Крутые горы». Обобщенных образов, поэтического мышления, переплавляющего реалии бытия в ткань художественного повествования?! Так и кажется, что толстый том романа представляет собой «сырые», необработанные заметки писателя, которые он ежедневно делал в своем дневнике все пять лет, проведенные в Горелом. Взявшийся его читать наверняка найдет в нем полезные советы и рекомендации по самым актуальным вопросам ведения сельского хозяйства, но не обнаружит в нем только одного – писательского вдохновения, а без него страницы книги оставались неодушевленными, как страницы какого-нибудь счетного талмуда.
По поводу владения фактическим материалом творцом художественных произведений в «Дневниках» К.И. Чуковского есть полуироническое-полусерьезное замечание. В своих записях, относящихся к 1942 году, Корней Иванович пишет об А.Н. Толстом:
«Самое поразительное в нем, что он совсем не знает жизни. Он работяга: пишет с утра и до вечера, отдаваясь всецело бумагам. Лишь в шесть часов освобождается он от бумаг. Так было всю жизнь.
* * *
Откуда же черпает он свои образы? Из себя. Из своей нутряной, подлинно русской сущности. У него изумительный глаз, великолепный русский язык, большая выдумка, а видел он непосредственно очень мало. Например, в своих книгах он описал 8 или 9 сражений, а ни одного не видел. Он часто описывает бедных, малоимущих людей, а общается с очень богатыми. Огромна его интуиция. Она-то и вывозит его».
Этот важнейший инструмент художественного творчества – интуиция, – не поддающийся рациональному объяснению, лишь своим очевидным отсутствием свидетельствуют об оскудении таланта.
Роман «Крутые горы», написанный отцом по свежим следам его пребывания на Тамбовщине, был выпущен издательством «Молодая гвардия» в 1956 году, но не имел такого резонанса, как предыдущие его произведения, ни в прессе, ни в читательской аудитории.
* * *
Наверняка за пять лет сидения в сельской глубинке отец смог окончательно убедиться в том, что колхозы не в состоянии вытащить деревню из нищеты, и никакие меры репрессивного, а также морального воздействия здесь не помогут. Нужны были коренные перемены.
Но не пришла еще пора заговорить об этом вслух. А когда это стало хотя бы отчасти возможным, мой отец был настолько подавлен и растерян, что по сути дела исчерпал себя как творческая личность с независимым мышлением и своим собственным видением мира.
* * *
После смерти Сталина и выступления Н.С. Хрущева на ХХ съезде партии Н.Е. Вирта, считавшийся одним из любимчиков вождя, хотя в действительности был, скорее всего, поднадзорным, стал расплачиваться за этот миф. Пресловутый фельетон, появившийся в «Комсомольской правде» 17 марта 1954 года, представлял собой типичный пасквиль, в котором завистники изобличали писателя – в чем?! В том, что его домашний уклад в деревне отличается от быта аборигенов?! Читателю преподносилась красочная картина всевозможных излишеств, в которых погряз писатель Николай Вирта, – дом с удобствами, гараж с машиной, да еще и верховой жеребец!.. Все это, конечно же, заслуживало самого сурового осуждения и порочило образ советского писателя.
Оглядываясь назад из дальнего далека наших дней, так и хочется посокрушаться – построил бы себе вместо какого-то шаткого забора из голубого штакетника трехметровую стену, которые возводятся ныне вокруг солидных особняков, – сквозь нее уж в щелочку не подглядишь...
Трудно с достоверностью утверждать, от кого исходил заказ на этот неприличный донос – из Тамбовской губернии, от кого-то из обиженных отцом местных начальников или из недр Союза писателей, оскорбленных его позицией «независимого», которую он с подчеркнутым вызовом занимал.
* * *
Для отца это был жесточайший удар, подрывавший его престиж известного писателя, привыкшего пользоваться почетом и уважением. Самое парадоксальное заключалось в том, что удар этот рикошетом сильнейшим образом ударил и по мне, чуть было не испортив всю мою дальнейшую жизнь. Мне предстояло на собственном опыте испытать незыблемость одного из наиболее гуманных постулатов нашей советской Родины, гласящего, что «сын за отца не отвечает». В это время я как раз закончила пятый курс филфака Московского университета, и Государственная распределительная комиссия должна была решать вопрос о моем трудоустройстве.
Под пологом цветущей липы в начале июня 1954 года мы с моей мамой сидели на скамье во дворе старого здания университета на Моховой и проливали горькие слезы.
Конечно, наши невзгоды на фоне масштабных катаклизмов, потрясавших страну, могли бы показаться незначительными, но мы с мамой чувствовали себя несчастными и беззащитными. Отец к тому времени окончательно ушел из семьи, да и у меня на личном фронте дела обстояли не лучше – молодой человек, который вроде бы до этого меня очень любил, после злосчастной публикации в «Комсомольской правде» исчез с глаз долой и не появлялся. И тут до нас доходит слух, что меня хотят направить учителем начальной школы куда-то в провинцию.
Для мамы, как и для меня, это была бы трагедия – я никогда не питала склонности к преподаванию, а поскольку уже вступила на литературный путь, начав печататься как переводчик, будучи еще на студенческой скамье, то именно с литературой связывала свои надежды на будущее.
И вот мы с мамой сидим на скамье под липами и рыдаем, и тут из дверей филфака появляется наш незабвенный Илья Ильич Толстой, руководитель нашей группы по изучению сербскохорватского языка и литературы, раздраженный и суровый до крайности, что делало его еще больше похожим на его великого деда, и говорит:
– Вам придется подписать направление, которое дает госкомиссия, иначе они вас изничтожат. Устроят грандиозный скандал, исключат из комсомола и выгонят из университета с волчьим билетом. Никакие мои доводы относительно ваших литературных способностей не помогли. Председатель госкомиссии так и сказал: «Яблочко от яблоньки недалеко падает! Вот пускай ваша такая способная выпускница и едет под Барнаул в начальную школу учить детишек русскому языку. Как вы думаете, справится она с этим почетным заданием?!»
Словно во сне, по крутой лестнице старого здания МГУ кое-как доползла я до третьего этажа, где заседала госкомиссия, ответила на какие-то вопросы и подписалась под всеми бумагами – «Т. Вирта».
* * *
С некоторых пор, в какое бы окошечко ни сунула я свой студенческий билет с этой фамилией, на меня пялились квадратные глаза, как на какое-то пугало...
Конечно, у нас в стране сын за отца ни в коем случае не отвечал, это хорошо усвоили себе тысячи и тысячи сосланных детей и жен репрессированных, вот и я попала в их число...
До начала учебного года, когда я должна была отбыть под Барнаул и приступить к своим обязанностям, оставалось совсем немного времени. Не сомневаюсь, что там я бы встретила прекрасных отзывчивых людей и сумела бы как-то приспособиться к своей новой жизни, однако в те годы разлука с моими близкими и отъезд из дома в неведомую даль представлялся мне каким-то ужасным наваждением, грозившим захлестнуть меня с головой.
К счастью, друзья не оставили меня в беде.
– Это что же такое получается! – кипела негодованием Эстер Давидовна Катаева, мать моей подруги Жени. – Мужики будут б...вать, а над нашими детьми будут издеваться?! (Эстер Давидовна, конечно же, имела в виду моего отца, который ушел из семьи и тем самым, по ее мнению, навлек на себя все последовавшие за этим беды.)
Возмущение своей жены разделил Валентин Петрович Катаев. Он отправился к Вадиму Михайловичу Кожевникову – в то время главному редактору журнала «Знамя» – и убедил его послать запрос в Министерство просвещения РСФСР, где находились мои документы, с просьбой направить на работу в редакцию такую-то и такую-то выпускницу МГУ младшим литературным сотрудником.
В Министерстве просвещения в то время состоял в наблюдательной комиссии член-корреспондент АН СССР Андрей Владимирович Щегляев, известный ученый, отец моей подруги Тани и муж Агнии Львовны Барто. Я была тогда самым тесным образом связана с этой семьей и пользовалась ее покровительством и поддержкой. Андрей Владимирович извлек мои документы из недр Министерства просвещения, и я была отозвана оттуда на работу в столичный и в то время весьма популярный журнал.
Так я оказалась в редакции «Знамени». Можно сказать, удача мне не изменяла, поскольку на своем новом рабочем месте я попала под начало одной легендарной женщины – Софьи Дмитриевны Разумовской, жены Даниила Семеновича Данина, знаменитой «Туси», как некоторые избранные любовно ее называли. «Туся» была выдающимся литературным редактором и славилась тем, что умела выгребать все лишнее из литературного текста, а остальному, пользуясь своим безошибочным вкусом, придавать надлежащий, удобочитаемый вид. Кто только – от начинающих авторов и до маститых корифеев – ни мечтал попасть на аудиенцию к «Тусе», с царственным видом восседавшей на нашем ободранном редакционном диванчике, где она принимала бесчисленных посетителей... Разговаривать с ней было все равно что держать экзамен по литературе – Софья Дмитриевна цитировала классику целыми абзацами и в своей речи употребляла возвышенные выражения и слова, придавая их пафосному звучанию какую-то особенную мягкость и очарование. Она была неотразима в своей неподражаемой женственности и совершенно сознательно пускала ее в ход для укрощения особенно строптивых авторов. Ее боялись, но и боготворили, если кому-то с ее легкой руки удавалось быть опубликованным в «Знамени».
Я знала Софью Дмитриевну и Данина с детства, они часто наведывались в Переделкино к кому-нибудь из знакомых – к Треневым, к Павленко – и там встречались с моими родителями. Тогда я еще и представить себе не могла, какую роль сыграет эта пара в моей личной судьбе. Но пока что мне предстояло под руководством Софьи Дмитриевны сделать первые шаги на литературном поприще.
Прежде всего она обучила меня черновой работе – проводить рукопись по всем этапам подготовки к набору, а затем и к выпуску в свет в очередном номере журнала. Через некоторое время меня допустили к величайшему таинству – редактированию принятых к печати произведений.
Первым автором, которого я должна была редактировать, был Ю. Нагибин, но что, кроме своего преклонения перед его талантом, могла я сказать ему, блестящему беллетристу! Я страшно волновалась в преддверии нашей встречи – редактора и автора, – и, помню, Юрий Маркович также был несколько смущен моим в то время, должно быть, слишком юным видом для доверенной мне миссии. Прервав мои восторги относительно прочитанных мной рассказов, он стал расспрашивать меня, когда же это я успела закончить университет и что собираюсь делать в дальнейшем. Я рассказала ему о том, что вначале увлекалась переводом. А вот сейчас пробую себя в журналистике.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































