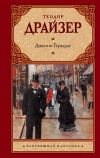Текст книги "Оплот"
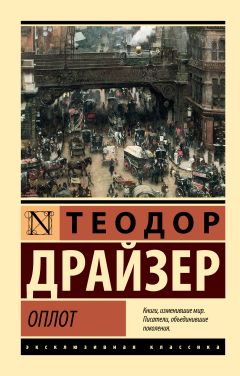
Автор книги: Теодор Драйзер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Свои причины расположить к себе Солона имел и Сэй. Вскоре после утверждения его кандидатуры в совете директоров эта необходимость сделалась ему очевидна – к Солону прислушиваются, смекнул он, а значит, надо добиться, чтобы этот человек из личной симпатии поддерживал на собраниях решения, выгодные ему, Сэю. Он стал играть на высокой нравственности Солона – обсуждал с ним квакерскую веру, всегда превознося ее над другими религиозными течениями, а однажды пригласил Солона с Бенишией к себе отужинать. Еще раньше в разговорах он называл свой особняк скромным, но, когда автомобиль, любезно присланный за Барнсами, привез их в День седьмой на Мейн-лейн, им предстала целая резиденция, претенциозная донельзя. Солона, который был столь привержен простоте, покоробило в доме Сэя буквально все – псевдоитальянский фасад, ландшафтный парк в английском духе, огромный холл, загроможденный мебелью в стиле эпохи Возрождения и увешанный картинами ей под стать. Позднее, обсуждая с Бенишией визит к Сэю, Солон припечатал его дом вместе со всей обстановкой словом «мишура».
Однако все три новых члена правления были людьми влиятельными; Солону льстило их внимание, и вот он решил – как уже делал прежде – наблюдать и слушать, не раскрывая собственных мыслей, пока нет гарантии, что мнение его верно. Ибо сказано в Библии: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».
Глава 23
Гринвич-Виллидж, этот далеко не самый престижный район Нью-Йорка, в начале двадцатых дышал атмосферой, стимулирующей всякую творческую деятельность. Едва ли не каждый обитатель Гринвич-Виллиджа попал сюда в уповании, что сумеет сделаться писателем, художником, танцовщиком, задаст новый тренд в театральном искусстве или учредит журнал, цель которого – доносить до публики взгляды редактора, полагающего, что заявленные взгляды у него есть, и по этой причине он достоин славы на всю страну. Здесь обретались газетчики и адвокаты, что весьма преуспели у себя на Среднем Западе, но бросили нажитое и налаженное с целью попробовать себя в литературе – ведь Гринвич-Виллидж, по их мнению, вдохновлял куда сильнее, нежели родное захолустье. Были молодые южанки – эти приехали ради учебы, приключений, приобщения к миру искусства, хотя бы минимального.
Гринвич-Виллидж поистине был центром творческой активности, причем от этого центра расходились круги, и ближе к краям помещались персонажи, не способные ни к какому виду искусства, но жаждущие ассоциировать свои имена с именами творцов. Многие поменяли жилье в других, более престижных и удобных районах (а то и целые загородные дома!) на тесные полуподвальные комнатки или мансарды. Здесь царил дух приключений, романтики; он-то и притягивал мужчин и женщин со всей страны. Одни намеревались работать, другие – просто жить в таком месте, где может случиться буквально что угодно. Здесь на дрожжах творческой мысли вырастали порой настоящие писатели, драматурги, критики, художники, музыканты – одаренные, нестандартные, они добивались известности и превращали ее в звонкую монету.
Изрядная роль в жизни Гринвич-Виллиджа принадлежала многочисленным ресторанчикам и подпольным барам, где можно было хлебнуть спиртного (в Штатах тогда действовал сухой закон). Отдельные заведения предлагали приличный обед за двадцать пять центов при условии, что едок мыл посуду, помогал повару или на время становился официантом, – преимущество, которым активно пользовались многие обитатели Гринвич-Виллиджа. Одним из самых популярных заведений считался «Синий гусь». Располагался этот ресторан в полуподвале; потолок был низкий, с обнаженными балками, у стены просторного обеденного зала пылал камин, на каждом столике имелась свечка, на окнах висели темно-красные шторы, а за угловым столиком, как правило, сутулилась пара шахматистов.
Однажды теплым сентябрьским вечером в «Синем гусе» было особенно оживленно. Ради большой компании несколько столиков составили вместе по центру. Чествовали молодого человека – несколько неопрятного, а впрочем, недурного собой. У него, во-первых, был день рождения, а во-вторых, аккурат в этот день его роман приняло одно известное издательство. Поздравления так и сыпались на юношу. Кроме друзей именинника, в «Синем гусе» ужинали и обитатели Гринвич-Виллиджа, не причастные к этому торжеству. Кто-то из них был предметом обсуждений, кто-то успел прославиться, остальные просто наблюдали местные нравы.
За столиком, что стоял под самым окном со щелястой рамой, расположились две девушки. Между ними подрагивало от сквозняка пламя свечи, и юные лица словно излучали внутренний свет. Одна из девушек – круглощекая, стриженая – больше напоминала рослого, пышущего здоровьем мальчика. Другая – хрупкая, как статуэтка, бледненькая, со светло-пепельными, гладкими блестящими волосами, то и дело обводила помещение взором синих глаз, что сияли, казалось, в предвкушении чуда. Это были Волайда Лапорт и Этта Барнс.
Летние курсы завершились в первых числах этого же месяца, но прежде произошла череда событий, в результате которых подруги и очутились в Гринвич-Виллидже. Об этом районе они узнали от сокурсниц, приехавших в Висконсин именно отсюда и осенью намеренных вернуться. Две девушки уже пробовали себя в журналистике и изобразительном искусстве; обе были в восторге от уклада жизни в Гринвич-Виллидже, каковой уклад и живописали, найдя в Этте и Волайде восторженных слушательниц. Вторым фактором стал вот какой: за лето Волайде расхотелось поступать на медицинский факультет. Ей передался интерес Этты к английскому языку и литературе, она посещала лекции по этим дисциплинам, о мире же периодических изданий говорила с возбуждением – дескать, вот где надо делать карьеру. В Этте желание связать свою жизнь с литературой только крепло; вдобавок несколько рассказов, ею написанных, удостоились похвалы; неудивительно, что Этта очень радовалась перемене в планах Волайды.
– Мы поедем в Нью-Йорк и поселимся в Гринвич-Виллидже, чтобы изучить тамошнюю жизнь, – заявила Волайда ближе к концу курсов. – Иначе нам никак нельзя! Гринвич-Виллидж – идеальное место. Только представь: каждый там старается выразить себя в том или ином виде искусства! И некоторые добиваются успехов!
– Нас ждут невероятные впечатления, – подхватила Этта. – Может, мы даже сумеем подыскать студию вроде той, о которой рассказывала наша знакомая танцовщица.
Этта говорила об одной южанке, что приехала в Висконсин посещать лекции по истории искусств; как-то эта девушка описала подругам свое жилище. В Нью-Йорке она оказалась почти без денег и сняла просторную, совершенно пустую комнату в мансарде. Угол этой комнаты имел возвышение, нечто вроде подиума, что идеально соответствовало планам будущей танцовщицы. Она притащила в мансарду несколько упаковочных ящиков, обтянула их кретоном, повесила черные шторы, а одну стену полностью заняла огромным зеркалом. И вот теперь к ней запросто заглядывают единомышленники, она перед ними танцует, они ее хвалят. Амбиции этой девушки поистине не знали границ: она заговаривала уже и о Париже – вот где, у русских эмигрантов, можно постичь искусство балета…
– Разумеется, мы найдем жилье; главное – оказаться на месте, – заверила Волайда. – Кстати, Этта, в Гринвич-Виллидж наведываются настоящие знаменитости; глазом моргнуть не успеешь, как тебе встретится человек, который устроит тебя на работу твоей мечты!
Разочарование кольнуло мистера Лапорта, когда он узнал о перемене в планах Волайды. До сих пор он тешился мыслью, что его старшенькая выучится на доктора. Впрочем, мистер Лапорт давно привык считать Волайду здравомыслящей и самостоятельной девушкой, поэтому дал согласие и выделил дочери деньги на билет и на первое время. Солон также смирился с тем фактом, что контролировать действия Этты в полной мере не может. Этте уже было восемнадцать, и он не имел права удерживать ее доходы с тетушкиного наследства. Из этих денег Солон еще раньше вычел сумму, что пошла на выкуп драгоценностей, и решил ежемесячно посылать дочери чек на семьдесят пять долларов. Солона томили предчувствия, и первый чек он сопроводил пылким отеческим наставлением. Этта не сомневалась, что с финансовыми проблемами покончено раз и навсегда. Уж наверное, семидесяти пяти долларов в месяц им с Волайдой хватит – и потом, они ведь найдут работу.
После завершения летних курсов девушки прожили в доме Лапортов всего неделю. Отец Волайды отпускал их в Нью-Йорк с одним-единственным условием – что поселятся они у дальней родственницы, которая держит приличный пансион для молодых работниц. Пансион этот находился в Гринвич-Виллидже, на Хорейшо-стрит, и девушки охотно согласились. Теперь, когда цель была так близка, они пообещали бы мистеру Лапорту все, что угодно. К тому же пансион оказался недурным местечком – комнаты располагались в большом каменном доме, что стоял в ряду таких же домов, плотно примыкая к ним боковыми стенами. На первое время сойдет, решили подруги. Ужинали они, как правило, здесь же, у хозяйки, ведь уже через пару недель выяснилось, что на выделяемые им деньги не очень-то разгуляешься. Впрочем, периодически сытному и недорогому пансионскому ужину Этта и Волайда предпочитали постный сандвич в каком-нибудь кафе – по их представлениям, атмосферном, колоритном, пронизанном духом творчества.
«Синий гусь» нравился им больше прочих заведений, а нынче здесь было особенно славно – все благодаря пирушке. Гости втягивали в свой веселый круг обычных посетителей, и скоро потребовали, чтобы за начинающего писателя выпили и подруги. У них на столике появились два бокала красного вина, и девушки со смехом их осушили. Опуская свой бокал, Волайда повела глазами в сторону столика, что находился прямо напротив, и вполголоса произнесла:
– Замри, Этта, замри и ответь: ты заметила мужчину вон за тем столиком? Он крупный, темноволосый, красивый. С тех пор, как мы вошли, он с тебя глаз не сводит.
– Глупости! Ничего подобного! – Этте сама мысль показалась смешной. – Это тебе мерещится!
– Вовсе не мерещится! – с жаром возразила Волайда. – Он, похоже, решился к нам подойти.
Ответить Этта не успела: рослый широкоплечий мужчина – Волайда не преувеличила, он и впрямь был хорош собой – уже стоял возле их столика, нависая над нею. Этта подняла вопросительный взгляд, и незнакомец улыбнулся.
– Позвольте представиться – Уиллард Кейн, – чуть смущенно заговорил он. – Я художник. Я хотел узнать – быть может, вы согласитесь мне позировать? Понимаю, мое предложение кажется вам несколько дерзким, но… – Тут он обратился к Волайде: – У вашей подруги тот тип лица, который я давно и безуспешно искал.
– Не желаете ли присесть? – Волайда говорила дружелюбно, одновременно освобождая стул от сумочки и нескольких свертков. – Я всегда надеялась, что Этта привлечет внимание художника, и вот, кажется, моя мечта готова исполниться. – Она рассмеялась, быстро взглянула на Этту и добавила: – Этта Барнс, моя подруга. А меня зовут Волайда Лапорт.
Ободренный застенчивой улыбкой Этты, Кейн пустился в объяснения: он работает над серией, которую условно назвал «Американские мужские и женские типажи». Ему хотелось бы сделать набросок с Этты – тогда будет видно, впишется ли она в его серию.
– Откуда вы приехали, барышни? – как бы невзначай поинтересовался Кейн.
– Из Висконсина; мы учились в тамошнем университете, – ответила Волайда. – Я и сама оттуда родом, а вот Этта у нас из Пенсильвании.
– Ну а я из штата Мэн, – сказал Кейн. – Надоело, знаете ли, рисовать уроженцев Новой Англии, я и подумал: поеду в Гринвич-Виллидж – может, попадутся другие типажи.
Он не сводил глаз с Этты, и она почувствовала, что должна сказать хоть что-нибудь.
– Мой отец тоже из Мэна, мистер Кейн. Он родился в городке под названием Сегукит.
– Я проезжал через этот город, – с чувством произнес Кейн. – Но мой дом находится на севере штата.
Теперь уже было очевидно, что девушки заинтересованы в продолжении знакомства, и Кейн пустился рассказывать о тенденциях в современной живописи. Этту и Волайду равно впечатлили как его непринужденность, так и самокритичность.
– Думаю, Этта будет рада вам позировать, – сказала Волайда, когда в разговоре возникла пауза.
Этта сильно смутилась.
– Волайда, я вовсе не уверена, что это прилично. Видите ли, – обратилась она к Кейну, – я никогда ничего подобного не делала, и…
– Я намерен изобразить только вашу головку, мисс Барнс, – поспешно перебил Кейн. – Едва ли вам это покажется трудным; я даже почти не сомневаюсь, что вы получите удовольствие от процесса. – И он заискивающе улыбнулся.
Этта была в смятении. Сама мысль о том, чтобы сделаться моделью художника, пойти к нему в мастерскую, казалась ей дикой. С другой стороны, она ведь уже нарушила столько условностей – не прозвучит ли ее отказ ребячески глупо? Кроме того, предложение ей чуточку польстило.
Кейн по ее лицу догадался, что она близка к капитуляции.
– Вы ведь согласны, не так ли? – поднажал он.
Этта кивнула.
– Вот и отлично! Завтра и приступим – ровно в два часа. – Кейн вручил Этте визитку, на которой черкнул адрес своей мастерской.
– Это всего через три дома от «Синего гуся», – добавил он, поднимаясь. – Не забудьте! Завтра в два часа!
И, помахав на прощание, он вернулся к своему столику, к своему приятелю.
Следующий день явил очередную вариацию на вечную тему. Художник, как ему и полагалось по сюжету, нашел в модели совершенство форм и убедительность женского начала. Кейн успел завершить пять или шесть портретов, на которых изобразил типичных американцев, но портрет Этты Барнс, думалось ему, всей серии придаст особое значение. Вдобавок Этта взбудоражила чувства Кейна, едва он ее увидел, и аналогичный эффект он сам произвел на нее, хотя она пока этого не осознала.
Придя к Кейну, Этта сразу поняла: ее ждали. Поверх мешковатых твидовых брюк на Кейне была заляпанная красками синяя блуза, на ногах – коричневые кожаные сандалии. Волнистая темная прядь нависла над правой бровью. Небрежность в одежде, впрочем, как и сама рабочая обстановка, лишь добавили Кейну привлекательности в глазах Этты. Кейн сердечно ее приветствовал, стал благодарить за то, что она пришла. Этту вдруг охватило ощущение, что ее место – именно здесь, в этой пустой комнате, где в углу стопкой лежат холсты. Торнбро, Чаддс-Форд, безжизненный покой прежних дней навсегда остались в прошлом: Этта вступила в новый мир и была им принята.
– Снимайте шляпку, и начнем, – распорядился Кейн.
Он подвел Этту к невысокому подиуму, где стояло массивное кресло, сработанное в колониальном стиле, и она уселась. Ей было немножко неловко, и она спросила, не повернуть ли голову к окну.
– Пожалуй, да, – согласился Кейн. – А впрочем, устраивайтесь как вам удобнее. Поза предпочтительна непринужденная. Ваша головка должна была правильно освещена, а кресло установлено как раз с расчетом поймать нужный свет. Смотрите в окно. Воробышки весьма потешны; или, может, вас больше позабавят кумушки из дома напротив? Вон одна как раз свесилась через подоконник, в руках тряпка – то-то пыли сейчас напустит!
Этта рассмеялась. Кейн приступил к работе. Рисуя, он время от времени бросал своей модели вопрос: что она изучала в Висконсине? Чем намерена заняться теперь? Когда приехала в Гринвич-Виллидж? Так, незаметно, пролетело около часа. Кейн, кажется, наконец-то довольный результатами, испустил глубокий вздох и сказал, что на сегодня достаточно.
– Я вам больше не нужна? – спросила Этта, собираясь шагнуть с подиума.
Кейн молчал, пристально глядя на нее. Она улыбнулась. Не отводя глаз, он подал Этте руку и произнес полушепотом:
– Как вы прекрасны! Едва ли наступит время, когда вы не будете мне нужны. – И добавил уже без интимности: – Я всегда делаю два, а то и три наброска, прежде чем определиться, с какого именно стану писать портрет красками. Если вы не против, я бы продолжил работать с вами. Разумеется, я буду вам платить как профессиональной натурщице. Согласны? Тогда дайте мне ваш адрес и телефон.
Кейн умолк и снова уставился на Этту. В его глубоких серых глазах была искренняя заинтересованность, крупный рот красивой формы так и манил.
– Вас устроит, если я назначу сеанс позирования на завтра в это же время? Вы сможете прийти?
Этта поняла: ничто в мире не удержит ее, она придет непременно. Так, на почве любви к изобразительному искусству, началась их связь.
Глава 24
В течение шести недель Этта почти ежедневно позировала Уилларду Кейну; взаимная привязанность постепенно крепла. Однако этих очень личных эмоций, даже дополненных общей восхитительной новизной жизни в Гринвич-Виллидже, было недостаточно – тоски по родному дому они не вытесняли. Этта рвалась к матери, но ее останавливал страх, что, вернись она в Торнбро, отец станет на нее давить. Ни до чего, конечно, они не договорятся, ничего друг другу не докажут – только поссорятся, огорчат домашних. Солон был непоколебим в намерении и дальше контролировать своих детей, постоянно звал Этту домой, однако она не соглашалась приехать хотя бы на выходные.
Неоднократно Солон заговаривал о том, чтобы самому отправиться в Нью-Йорк, но всякий раз Бенишия убеждала его повременить, опасаясь, как бы в Этте не усугубилось чувство протеста. Этта писала матери, уверяла, что у нее все хорошо, что она занята учебой и не желает бессмысленных сцен с отцом. Наконец было решено, что в Нью-Йорк поедет Бенишия, и вот однажды она появилась в доме на Хорейшо-стрит – скромное серое пальто, квакерский капор, любовь и надежда во взоре. Потрясенная до глубины души, Этта недоумевала: неужели она сознательно заставила страдать это существо – воплощение нежности и сочувствия, да как же она могла? Мать и дочь упали в объятия друг другу; с минуту ни та ни другая ни словечка не могла вымолвить. Бенишия заговорила первой, выдохнув:
– Деточка моя! Неужели я снова тебя вижу, снова обнимаю? Знала бы ты, как я по тебе соскучилась! Ну, рассказывай – как, чем живешь?
– Ах, мамочка, до чего же славно снова с тобой говорить! – Этта с нежностью поцеловала мать. – Конечно, я тебе все расскажу.
Она усадила Бенишию в лучшее кресло, сама устроилась на полу, обняла материнские колени и, разомлев от дочерних чувств, поведала Бенишии обо всем, что случилось после ее побега из Торнбро: об университете, о решении ехать в Нью-Йорк, о желании стать писательницей и вообще личностью. Когда же Бенишия осторожно спросила, почему бы ее девочке не писать в свое удовольствие под родным кровом, Этта пустилась в объяснения: для творчества ей просто необходима атмосфера свободы, а дома… дома у них такого не будет. Для нее, утверждала Этта, желание учиться и добиваться успехов столь же серьезно, как для отца серьезна квакерская вера, но она по-прежнему очень-очень любит и его, и мамочку, и братьев с сестрами.
– Что ж, родная – заговорила Бенишия, выслушав Этту, – надеюсь, ты рассказала мне все, что следовало. Или, может, умолчала о чем-нибудь? Волайда, к примеру: не оказалась ли она на поверку легкомысленной особой? А другие люди, которые тебя окружают – достойные ли это знакомства для девушки твоего воспитания? Есть ли среди твоих друзей мужчины? А как насчет Волайды – она с мужчинами общается?
– Не сомневайся, мамочка: Волайда – преданная подруга. Мы с ней усиленно занимаемся. А до мужчин нам дела нет. Хотя кое о чем я действительно не упомянула. – Этта замялась и продолжила едва ли не с придыханием: – Несколько недель назад я повстречала одного человека… Он художник, работает над галереей портретов типичных американцев, и я ему позирую. Он очень серьезный человек, мама, и хорошо известен в мире искусства. Я хожу к нему в мастерскую, и он мне платит за каждый сеанс позирования, как натурщице. Эти деньги вовсе не лишние, ведь процентов с наследства тетушки Эстер на жизнь в Гринвич-Виллидже точно не хватило бы.
Бенишия насторожилась:
– Ты уверена, что не совершаешь ничего дурного, посещая мастерскую художника-мужчины?
– Конечно, уверена, мамочка. Этот человек ведет себя безукоризненно, и вдобавок он весь поглощен работой. Хочешь, я вас познакомлю?
– Не сегодня, Этта. Мне нужно домой. Папа очень о тебе волнуется, совсем извелся. Кроме того, со Стюартом сейчас уйма хлопот, да и на службе у папы, кажется, не все ладно. Вот если бы я могла заверить твоего отца, что переезд в Нью-Йорк для тебя не был блажью, у него бы сразу от сердца отлегло. Ответь, Этта, вправе я так сказать или не вправе?
– Конечно, да, мамочка, – пролепетала Этта, едва сдерживая слезы.
Они еще поговорили: об Изобель, о Доротее, о Стюарте, а потом Бенишии настало время уезжать.
Эмоциональный эффект от свидания с матерью был столь велик, что еще много дней Этта мучилась сомнениями – не бросить ли все, к чему она столь горячо стремилась, и не вернуться ли домой. Если бы ее не подзадоривала неуемная Волайда, Этта бы точно сбежала из Гринвич-Виллиджа. Другим сдерживающим фактором была подспудно растущая одержимость Уиллардом Кейном. Короче, Этта осталась, а вскоре отношения между ней и Кейном перешли на ту стадию, когда отступление невозможно.
Как-то холодным ноябрьским днем Этта, войдя в студию, обнаружила Кейна созерцающим ее изображение. Этта тихонько приблизилась, встала рядом. Портрет буквально дышал ощущением, что художник вполне постиг натуру своей модели – и глубоко потрясен открывшимися ему тайнами. Этта была польщена. Мало того – все ее чувства всколыхнулись от чудесной догадки: портрет есть не что иное, как признание в любви. Этта повернулась к Кейну, встретила его взгляд, поняла, что сопротивление бесполезно. Медленно, словно повинуясь непреодолимой силе, она сделала шаг вперед. Кейн обнял ее и крепко прижал к себе.
В результате этого безмолвного объяснения Этта оказалась втянута в любовную связь, которая, даря ей блаженство, денно и нощно терзала ее страхом – а вдруг все откроется, вдруг об ее отношениях с мужчиной прослышат родители? Однако дни текли за днями, событий, могущих вызвать разоблачение, не происходило, и Этта, по-прежнему ведомая силой чувства, все больше углублялась в новые для себя любовные и эстетические переживания. Кейн же, до мозга костей будучи человеком искусства, считал, конечно, любовь и красоту неотъемлемыми частями жизни, но отнюдь не рассматривал их как стихии, способные кардинальным образом повлиять на него самого или на его творчество. К Этте он проникся нежностью и благодарностью: она вдохновляла его, в нем говорило также естественное влечение к ее свежей прелести, но Кейн не понимал, что, доведя их отношения до последней черты, он, возможно, погубит ее. Он упивался ее юностью, ценил ее, вожделел; порой она вызывала в нем приступы восторга, но настоящей любви со стороны Кейна не было. К тому же он понятия не имел об условностях и запретах, в атмосфере которых Этта росла, не догадывался, насколько глубокий след они оставили в ее душе. Она никогда и ничего не рассказывала, не упомянула даже, что происходит из семьи квакеров. В любом случае с самого начала Кейн не настраивался на прочный союз с этой девушкой.
К концу осени Этта настолько освоилась, что уже запросто заглядывала к Кейну каждый день после занятий в университете, а он старался освободиться к ее приходу. Портрет был готов, но Кейн делал все новые эскизы. После сеанса позирования он вел Этту в ресторан, откуда она очень часто возвращалась не к себе, а к нему домой.
Именно в один из местных ресторанов однажды занесло приятеля Орвилла, который, будучи женат, наведывался в Гринвич-Виллидж из Трентона к бывшей любовнице. Человек этот знал Кейна; увидав его за столиком, он, несколько рисуясь (как-никак Кейн – художник с именем), подошел засвидетельствовать почтение. Кейну ничего не оставалось, кроме как представить Этту.
– Познакомьтесь, – сказал Кейн. – Мисс Этта Барнс – мистер Ранс Кингсбери.
Кингсбери задержал на Этте взгляд несколько дольше, чем, по мнению Кейна, следовало бы. Кейну было известно, что за тип этот Кингсбери: женился, а прежние отношения не разорвал; хорошо помнил Кейн и женщину, которая притягивала Ранса Кингсбери в Гринвич-Виллидж. Теперь Кингсбери рассматривал Этту с явным любопытством: надо же, что-то новенькое, такие особы ему в здешних местах еще не попадались.
Уже собравшись откланяться, Кингсбери огорошил Этту вопросом:
– Мисс Барнс, а вы, случайно, не родня Орвиллу Барнсу – тому, который живет в Трентоне?
Не успев собраться с мыслями, Этта ляпнула:
– Это мой брат.
– Что вы говорите! Я ведь неплохо знаю Орвилла, а на прошлой неделе дивно провел время у него в гостях. Но вас там не было, не так ли? Если бы были, уж я бы заметил.
Этта успела не на шутку испугаться и поспешно ответила:
– Я не виделась с Орвиллом с тех пор, как приехала в Нью-Йорк. Здесь я учусь в университете.
Впрочем, было поздно. Кингсбери, вернувшись в Трентон, не замедлил проинформировать Орвилла о том, что встретил в Гринвич-Виллидже его сестру в компании известного художника Уилларда Кейна. Орвилл притворился, что новость его ничуть не тронула, но на самом деле был почти взбешен. Недопустимо, чтобы имя солидного человека, каковым Орвилл себя считал, так или иначе ассоциировалось с Гринвич-Виллиджем. И без того с отъезда сестры вся родня жены, да и сама Алтея изводит его расспросами, где да чем она занимается. Сообщение Кингсбери стало последней каплей – Орвилл, которого давно уже точила вся эта неопределенность насчет Этты, решил поехать в Гринвич-Виллидж и во всем разобраться на месте.
В ближайшее воскресенье он прибыл в Нью-Йорк и, невзирая на ранний час, прямиком направился на Хорейшо-стрит. В пансионе ему сказали, что его сестра уехала на все выходные. Подробностей узнать не удалось, тогда Орвилл напряг память. Ранс Кингсберри назвал ведь кавалера Этты по имени. Как бишь его? А, вот: Уиллард Кейн. Адрес его обнаружился в телефонном справочнике. В нужном подъезде заспанный лифтер по настоянию Орвилла позвонил по внутреннему телефону и спросил, дома ли мистер Кейн.
– Кто желает с ним говорить? – послышалось в трубке. Голос звучал очень четко. Сомнений не осталось: принадлежит этот голос его родной сестре. Не дав лифтеру ответить, Орвилл крикнул из-за его плеча:
– Этта, послушай, это я, твой брат. Можно подняться в квартиру?
После минутного замешательства Этта ответила:
– Нельзя. Подожди, я сейчас сама к тебе спущусь.
Минут десять Орвилл мерил шагами холл. Наконец вышла чуть смущенная Этта. Перемены, с ней случившиеся, потрясли Орвилла: младшая сестра как будто стала выше ростом, посвежела лицом, ее движения обрели уверенность. В общем, Этта превратилась в красавицу, однако ярости его эта трансформация не смягчила.
– Ну и где же ты живешь – здесь или на Хорейшо-стрит? – с сарказмом осведомился Орвилл.
– Разумеется, на Хорейшо-стрит. Я просто зашла к мистеру Кейну.
– Сомнительное время для визита, – процедил Орвилл.
– Это время выбрано не мной. Я позирую мистеру Кейну, а он назначает сеансы, когда ему удобно. Потому что он знаменитый художник.
– Даже для знаменитого художника подозрительно пригласить модель в воскресенье в десять утра.
– Не понимаю, Орвилл, какая муха тебя укусила, – рассердилась Этта. – Мы столько не виделись, а ты, не успел приехать, подозрениями меня изводишь.
Орвилл на это замечание не отреагировал:
– Если в этих твоих сеансах позирования нет ничего дурного, отведи меня к мистеру Кейну, я с ним потолкую.
– И не надейся. По утрам мистер Кейн работает. Он очень занят и говорить не станет – ни с тобой, ни с кем другим.
– Так я и думал. – Орвилл огляделся: где лифтер, не подслушивает ли? – Что происходит, Этта? Ты влюблена в этого Кейна или у тебя с ним банальная интрижка?
Глаза Этты засверкали.
– А вот это уже не твое дело!
Других слов она не сумела подобрать.
– Ну, понятно: репутация семьи для тебя звук пустой. – Орвилла почти трясло от ярости. – А вот для нас она имеет огромное значение. Ты в курсе, что про тебя сплетни расползаются? Допустим, тебе собственная честь безразлична, но ты хоть об отце с матерью подумай.
– Зато ты, Орвилл, трепещешь перед общественным мнением. Сам-то ты думаешь о папе, маме и остальных? То-то и оно, что нет! Следовательно, и мне ты не судья. Живи своей жизнью, а в мою не вмешивайся.
Этта развернулась, намереваясь шагнуть вверх по лестнице.
– Погоди, настанет день, когда ты об этом пожалеешь! – предрек Орвилл.
В это мгновение приехал лифт, и Этта поспешила скрыться в кабине. Дверцы закрылись – только Орвилл и видел свою сестру.