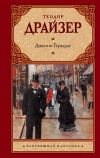Текст книги "Оплот"
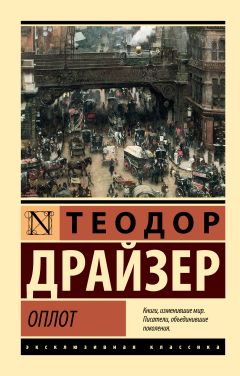
Автор книги: Теодор Драйзер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Глава 11
Со стороны членов даклинского Общества друзей ни Солон, ни остальные Барнсы не видели ничего, кроме вдумчивого внимания и сочувствия. Каждому квакеру помнилось, с какой похвальной регулярностью появлялось все семейство в молельном доме в День первый: приезжали Барнсы в старом экипаже, ни Бенишия, ни дети не пропускали собраний. Оба мальчика сидели с отцом на мужской половине зала: Орвилл не шалил, но и не слушал толком откровений, а Стюарт вертелся, навострив ушки. Обсуждались теперь и дела Солона Барнса на благо общины, и его обыкновение принимать проблемы и нужды Друзей близко к сердцу.
В тот день, когда стал известен прискорбный итог жизни Стюарта, в Торнбро приехали два старейшины. Они хотели выразить соболезнования, а если возможно, то и помочь как-нибудь Солону и Бенишии. Ни словом не упомянув о трагических обстоятельствах, что довели Стюарта до самоубийства, старейшины заверили, что юноше будут оказаны все почести, каких удостаиваются лучшие из почивших членов общины, и на прощание с покойным в родном доме, равно как и на сами похороны на общинном кладбище, будет допущено столько Друзей, сколько позволяет квакерский обычай. Разумеется, Солону не стало от этого легче, но он растрогался, видя такое понимание со стороны братьев по вере.
Покидая Торнбро, один из старейшин вручил ему небольшой томик. Там уже была закладка, и Солон чуть позднее прочел следующее наставление одного из первых квакеров, Джона Крука:
«Подымите головы ваши, вы, которые, совершив внешние омовения, явились ко Агнцу Господню, дабы отмыть добела и одежды свои в Его крови и чистыми воссесть в Царстве рядом с утомленным Авраамом, испытанным в смирении Исааком и Иаковом, который боролся с Ангелом. О, сколь многочисленны козни врага… разве мы не пылали в горниле, так что не осталось от нас ничего, кроме золота? Но враг солгал нам… и мы видим, что вновь должны шагнуть в горнило, и пребывать в оном, сколько завещано Отцом нашим, покуда не изменимся и не уподобимся сынам Сиона, сравнимым с чистым золотом».
Поистине жизнь бросила Солона в горнило – именно так он сам себе и сказал. Возможно, душа закалится в огне – да только ведь зло уже свершилось, обожаемого сына не вернуть. Горе утраты, и так огромное, делалось почти невыносимым от мыслей о жене, бедной его Бенишии: сердце ее было разбито, а разум, словно перепуганная птичка, метался от самого Солона к Стюарту, от Стюарта к заблудшей Этте. Орвилл и Доротея держались внешне спокойно, однако невозмутимость отдавала обидой – еще бы, ведь их положение в обществе оказалось под ударом. Настроения своего они не скрывали в том числе и от матери, и несчастная тянулась к самой старшей дочери – именно Изобель понимала ее лучше, чем кто бы то ни было. Она приехала из Лувеллина, едва получив прискорбное известие, и с тех пор внушала матери, что вину за ужасные события нельзя целиком и полностью возлагать на Стюарта или Этту, ведь оба так молоды. Сама испытавшая немало разочарований, Изобель говорила убедительно. Ей удалось отчасти утешить мать, заверив, что у нее предчувствие: Этта вернется домой, и куда скорее, чем можно ожидать. Однако, чтобы это предчувствие сбылось, Изобель написала Этте письмо, сообщила, что родители раздавлены горем, и что возвращение Этты должно это горе рассеять.
Рода Уоллин, желая хоть немного утешить Солона и Бенишию – их отчаяние она искренне разделяла, – приехала из Нью-Брансуика в Торнбро, окутанное мраком скорби, и рассыпалась в уверениях: Стюарт, дескать, был чист и прекрасен душой, что бы там о нем ни говорили. Просто он – очаровательный, добрый, неопытный мальчик – угодил в ловушку, стал жертвой обстоятельств, а зла никому не желал и своей смертью явил глубину раскаяния. Именно таким Солону следует помнить младшего сына, подытожила Рода и добавила:
– Учитывай, Солон: с тех пор, как мы были молоды, очень многое изменилось. Современная жизнь предлагает юношам и девушкам такие развлечения и соблазны, какие нам с тобой и не снились.
Неделей раньше Солон нашел бы доводы кузины пустыми, но теперь они и впрямь дали ему капельку утешения.
Однако предстояло еще выдержать церемонию прощания и сами похороны. Тело доставили в Торнбро еще днем, а ночью Солон, который видел и гроб, и цветы – но только не своего мальчика, – дождался, пока в доме все затихнет, взял свечу и на цыпочках спустился в комнату, где лежал мертвый сын.
Вот, значит, как: его дитя вернули ему из адской бездны так называемых удовольствий. Там смотрели на него блестящие глаза – но блеск их ничего общего не имел со священным экстазом; там его манили алые губы – но оттенок их был фальшив; там тела дрыгались и сплетались, одурманенные ритмом танца; там насмешничали и сквернословили, презирали невинность и добродетель – во всех этих театрах, барах, дансингах и борделях (да, Солону мерещились даже бордели). Его сын! Жизнь жестоко обошлась с его любимцем, с его Стюартом – белокурым ясноглазым мальчиком, которого Солон лишь несколько лет назад держал на коленях, который лепетал вслед за отцом святые слова молитв. Проклятый мир соблазнов и разнузданных наслаждений свершил ужасное над его сыном, обольстил и Стюарта, и Этту, отторг обоих от отца, несмотря на все старания, на все наставления и личный пример! Увы! Вот он, Стюарт, вытянулся в гробу, окоченевший, холодный; не кто-то посторонний, а его родное ненаглядное дитя.
Оцепеневший от неизбывного горя, Солон склонился над гробом. Кругом царил мрак. Свеча жалко помигивала, и в неверном этом сиянии Солон стал всматриваться в правильные черты любимого своего мальчика. Высокий округлый лоб – такой бывает у людей необузданных; запавшие глаза – не далее как вчера они отражали боль, ужас и отчаяние; тонко обрисованные губы – даже сейчас от них, бледных, веяло двусмысленной прелестью; наконец, прекрасно вылепленные кисти с нервными пальцами – вот они сложены на груди в знак успокоения, которое все-таки наступило.
Еще недавно жизнь ключом била в этом теле, энергия искала выхода, а теперь силы ушли, красота загублена. Разве это не чудовищно, разве несчастному отцу не послано страданий больше, чем он способен снести? Солон впивал каждую дорогую черточку, каждую выпуклость и вогнутость, малейший намек на печаль и былую прелесть – и плакал: беззвучно, бесслезно, глаза его были сухи. Внезапно его потрясла мысль: а что, если в неколебимом стремлении наставить сына на путь истинный он не до конца был верен своему родительскому долгу? А может (догадка вызвала сердечную боль), ему следовало выказывать Стюарту больше нежности и любви, как учит «Квакерская вера и практика»? Разве не в том состояла его прямая отцовская обязанность, чтобы до последнего, всему вопреки, убеждать сына лаской и безоговорочным доверием, вместо того чтобы вечно понукать, контролировать каждый шаг, оскорблять бесконечными допросами, на правах сильного навязывать свою волю? Определенно куда лучших результатов он добился бы любовью, разумеется, подкрепленной молитвами. Ведь собственная матушка явила Солону замечательный пример – так почему же он сам не справился? С другой стороны, временами со Стюартом бывало очень трудно – и много ли проку от нынешнего понимания, что и как следовало сделать в том или ином случае?
– Мальчик мой! Мальчик мой! – наконец смог вымолвить Солон.
И тут осознание трагедии накрыло его. Стюарт погиб: наложил на себя руки, следовательно, до конца постиг греховность своего поступка, степень позора, глубину разочарования, принесенного им семье, и в первую очередь отцу и матери. Горе Солона усугубилось внезапным и полным духовным смятением, и он рухнул на колени, опустил на пол свечу, не будучи в силах долее держать ее, и едва слышно начал молиться:
– Отец наш на небеси, помоги мне, наставь меня! – Слезы наконец прорвались, закапали из глаз, и мысли начали, хоть и с трудом, облекаться в слова: – Я старался, но не знал, что правильно, а что нет. Прости меня, Господи, и мальчика моего прости, ибо я хотел поступать по воле Твоей, но запутался. Да, да, я запутался, пошел не тем путем. Я не ведал, что творил; я был слишком суров… – И Солон разрыдался.
В это время Бенишия, которая не спала и слышала, как Солон выходил из супружеской спальни, которая поднялась и последовала за ним, приблизилась к нему. Глаза ее были влажны, сердце изныло от жалости к мужу, к Стюарту и к себе самой. Она обняла мужа и сказала:
– Пойдем со мной, Солон, пойдем, мой возлюбленный! Не надо плакать – ты ни в чем не виноват. Ты делал все, чего требовал от тебя отцовский долг, – так было всегда. Никто в этом не сомневается. А сейчас тебе нужно отдохнуть. Не плачь. Пойдем со мной.
Бенишия обнимала его столь нежно, что он нашел в себе силы встать с колен, и вместе они вернулись в спальню, где Солон еще долго лил тихие слезы, оплакивая родительский их удел.
А внизу, в просторной гостиной, лежал его мальчик, любимейший из всех детей, погибший от собственной руки! Какое горе! Какой позор! Солон, подобно распятому Иисусу, готов был вскричать: «Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня?»
Глава 12
Последний долг покойному был отдан, многочисленные добрые друзья, выразив соболезнования, разъехались, и Солону осталось лишь одно – перетряхивать мучительные воспоминания. Отрешившийся от действительности, он пробивал свое душевное оцепенение лишь изредка и ненадолго, если того требовали домашние мелочи, от которых нельзя было отмахнуться: например, старик Джозеф являлся к нему и спрашивал, не угодно ли будет мистеру Барнсу взглянуть, какого славного жеребеночка принесла гнедая кобыла Бесси, или Изобель входила в отцовский кабинет, чтобы предложить выпить чаю. Время от времени Солон бродил по саду или отправлялся к Левер-Крик, но очарование пейзажа только острее давало ему почувствовать, что Стюарт, павший жертвой собственной глупости, уже никогда не будет здесь гулять.
Постепенно, впрочем, к Солону возвращалось осознание, что рано или поздно придется ему вернуться в банк, возобновить выполнение своих обязанностей. Даже мысль эта вызывала отвращение: сам институт банка, представлялось теперь Солону, был создан, чтобы с холодной расчетливостью искать личной выгоды. О, как растлевает людей корыстолюбие, как оно разрушительно, как несовместимо с нормальной человеческой жизнью! И ведь он, Солон Барнс, виноват ничуть не меньше остальных. Он сидел с мошенниками за одним столом – равный им по статусу, тоже член совета директоров; он если не продвигал, так одобрял их безумные схемы накопления капиталов – словно забыл, что деньги тянут за собой излишние роскошества и удовольствия. А не они ли затуманили взор Стюарту, не они ли сгубили его мальчика?
Солон припомнил пассаж из «Квакерской веры и практики»:
«Когда богатство, накопленное удачей и трудолюбием родителей, превышает разумные пределы, сколь часто оно оказывается гибельным для детей, ибо побуждает их попирать истину и алкать себе привилегий, противных нашему учению, а порой и толкает на аферы, кои несут непоправимый ущерб всем их земным делам, а то и вынуждают напрочь позабыть о святом деле спасения души!»
И еще:
«Кто разбогатеет – тот впадет в соблазн и искушение и, сбившись с истинного пути, указуемого верою, подвергнет себя многим бедам».
Знакомые эти слова приобрели теперь новый смысл и, казалось, потребовали от Солона конкретных действий.
Неделей позже он поехал в Филадельфию. Пройдя по Маркет-стрит и остановившись возле внушительного здания, где помещался Торгово-строительный банк, Солон припомнил, как на заре карьеры это учреждение представлялось ему по природе своей почти равным церкви. Собирание и сохранение собственности он, совсем юноша, мнил тогда делом для человека самым естественным и полезным; не видел противоречия высоконравственным принципам в том, чтобы наживать деньги и управлять ими с целью обретения материальных благ или получения услуг. Ибо всякий, кто рачителен со своими капиталами, кто употребляет их на воспитание и образование детей своих, на помощь людям менее удачливым и дальновидным, автоматически считается человеком, который живет по христианским заповедям. А поскольку христианские заповеди – от Господа Бога, значит, накопление, сохранение и приумножение капиталов и есть служение Богу. Следовательно, необходимы крупные учреждения, где можно осуществлять такую деятельность, ну а служащие этих учреждений в известном смысле, наверное, первосвященники для прочих людей. Гм… Уилкерсон, Бейкер, Сэй, Эверард, Сэйблуорс… это они-то – первосвященники?
Возможно, тогда, в юности, Солон столь радикальных выводов и не делал – грань между двумя частями этого силлогизма была очень тонка. Зато теперь он избавился от всех колебаний, и порог переступил, исполненный решимости. Изначальным его намерением было направиться прямо в свой кабинет и составить памятку для человека, которого возьмут на его место; далее Солон хотел присутствовать на очередном заседании совета директоров – он знал, что заседание состоится именно сегодня. Пока он спешил укрыться в стенах кабинета, ему попалось несколько подчиненных; все они приветствовали Солона с некоторым смущением, в том числе и его ассистент. По нервозности молодого человека Солон понял, каких масштабов достигла шумиха о событиях в семье Барнс.
Отворив дверь в переговорную, Солон замешкался – все встали с мест, чтобы приветствовать его. Ему явно сочувствовали, его мужеством восхищались: еще бы, Солон Барнс появился на службе всего через неделю после похорон сына, однако всех смутила напряженность в бледном его лице. Он застыл в дверях – рослый мужчина крепкого телосложения, голова идеальной формы, глаза ясные, серо-голубые – живое воплощение основательности, надежности, добродетели. Всем присутствующим Солон Барнс казался этаким бастионом, в стенах которого еще живы и почитаемы основы прежнего, куда более справедливого миропорядка. Не зря ведь этот человек устоял, не запятнал себя безудержным накопительством, в водовороте которого завертело остальных.
Однако с Солоном Барнсом произошла перемена. Осунувшийся, постаревший, он являл теперь железную твердость, какой раньше за ним не водилось. Вот он поднял правую руку, словно требуя полного внимания, словно предупреждая: обойдемся без дежурных соболезнований, и заговорил:
– Джентльмены, я приехал нынче в первую очередь для того, чтобы объявить о своем намерении уйти с должности казначея.
На лицах слушателей отразились удивление и непонимание.
– Знаю: для вас это неожиданно, – добавил Солон, – вероятно, вы хотите объяснений. Я готов их дать. Мой уход не связан с проблемами, которые обрушились на мою семью. Причина в другом. Я давно уже хотел высказать то, что вы сейчас от меня услышите. С самой кончины Эзры Скидмора политика банка изменилась, особенно в отношении ссуд, изменилась в худшую сторону столь существенно, что я просто обязан выразить свой личный протест – не потому, что я блюду собственные финансовые интересы, а потому, что мне небезразличны интересы всех наших акционеров и вкладчиков.
– Тебе, мистер Эверард, – обернулся к названному джентльмену Солон, – известно как, впрочем, и всем присутствующим, что я не раз и не два выражал тревогу по поводу кредитной политики банка: огромные суммы выданных ссуд ставили под удар его надежность и само существование. Кроме того, мне претил фаворитизм, проявляемый к отдельным клиентам, и ни на чем не основанная уверенность в их кредитоспособности, равно как и в надежности предоставленного ими обеспечения. Но, опять же как вам известно, мое мнение игнорировали, что месяц назад чуть не привело к приостановке деятельности банка.
Члены совета директоров начали переглядываться, но никто не проронил ни слова. Солон выдержал паузу и продолжил:
– Вот мое признание, джентльмены: это я сообщил в министерство финансов, какие здесь творятся дела, и не жалею об этом: считаю, что поступил правильно. Торгово-строительный банк – учреждение, давно зарекомендовавшее себя как надежное. Не годится руководить им к выгоде горстки дельцов, которые готовы довести его до краха, так что мелким вкладчикам придется расплачиваться за их комбинации, или, точнее, преступные аферы. Прислушавшись к своей совести, я встал на стражу интересов незащищенного большинства.
– Да полно вам, мистер Барнс, – перебил громила Уилкерсон, на мгновение прекратив ерзать в кресле. – В наших гроссбухах не числится ни единой ссуды, которая не имела бы солидного обеспечения.
– Не сомневаюсь, мистер Уилкерсон, ведь банк потребовал от заемщиков дополнительного обеспечения, принужденный к тому недавней правительственной ревизией. Однако я не желаю вновь пережить ситуацию вроде той, что возникла месяц назад. Вдобавок я лично уже не заинтересован в накоплении капитала, и потому могу не продолжать службу на этом поприще.
Потрясенные как неожиданностью заявления, так и его убедительностью – кто бы мог подумать, что Барнс на такое способен, – директора переглядывались, пока Бейкер не потер лоб и не попробовал оправдаться.
– Мистер Барнс, вы, вероятно, не в курсе, что очень многие банки в нашей стране придерживаются точно такой же политики. Я состою в советах директоров еще ряда банков, и могу вас уверить, что Торгово-строительный подвергается не большей опасности краха, нежели само Министерство финансов США.
– Однако же, мистер Бейкер, – не растерялся Солон, – платежеспособность нашего банка восстанавливало именно министерство финансов. А если прочие банки и впрямь придерживаются той же политики, какой придерживались мы, итогом неминуемо будет финансовый кризис по всей стране. Так уже случалось, и наш народ не застрахован от новой катастрофы.
Остальные члены совета директоров были слишком обескуражены, чтобы взять слово; если они и злились на Солона, их гнев и возмущение отчасти улеглись, стоило вспомнить о постигшем его ударе. Эверард, который столько лет работал бок о бок с Солоном, даже ощутил нечто похожее на укол совести, уже начал обдумывать, какой бы фразой разрядить обстановку, но тут Солон снова заговорил:
– Как вам известно, я принадлежу к Обществу друзей: мания накапливать материальные блага, что руководит сейчас слишком многими, нашей вере противна, ибо неисчислимы развращенные алчностью. В одиночку противостоять этому злу нелегко, да и неэффективно, но я по крайней мере могу прекратить свое участие в делах, которые считаю безнравственными и чреватыми.
Мертвая тишина повисла в комнате, потом Солон сказал в заключение:
– Джентльмены, на моем рабочем столе вы найдете памятку, касающуюся незаконченных операций вверенного мне отдела. Если вам понадобится любая дополнительная информация, безо всяких колебаний приезжайте с вопросами ко мне на дом. А сейчас – прощайте…
И, поклонившись, он вышел и закрыл за собой дверь.
Тут-то и поднялся гвалт, словно при строительстве Вавилонской башни.
– Да он не в своем уме! – воскликнул Уилкерсон.
– Это на него семейная трагедия так повлияла, – констатировал Бейкер.
– Не столько сама трагедия, сколько шумиха вокруг нее, – поправил Сэй. – Мне лично жаль Барнса.
– Удар был для него слишком силен; это к лучшему, что он уходит, – добавил Бейкер, а Уилкерсон подхватил:
– Да, так действительно лучше. Только вот что я вам скажу: второго такого казначея у нас уж не будет.
– Он во многом прав, – произнес Эверард, смущенный обвинениями Солона. – Проблема лишь в одном: по нашим временам очень уж высоко он планку морали держит.
Глава 13
Что касается Этты, всю зиму и всю весну того года, о котором идет речь, она прожила в уверенности, что оправдались ее надежды, исполнились желания. Разве не такого мужчину, как Уиллард Кейн, рисовало ей воображение? Вымечтанный возлюбленный обрел плоть и кровь, с потрясающей чуткостью улавливал каждый душевный порыв Этты, разделял ее фантазии. После пары месяцев почти ежедневных свиданий Кейн сделался центральной фигурой в ее мыслях. Этта продолжала посещать университет, но все меньше времени уделяла занятиям; правда, из пансиона, где снимала комнату вместе с Волайдой, не съехала – чутье подсказывало, что в отношениях с Кейном мудрее будет сохранять видимость независимости. С самого начала Этта зареклась тем или иным образом отвлекать Кейна от работы – ведь он, поглощенный своим искусством, не потерпел бы вмешательства.
Со своей стороны, Кейна трогало и вдохновляло очевидное искреннее стремление Этты понять, чем живет и дышит ее кумир, и он, не жалея времени, рассказывал Этте, как важны в живописи колорит и контур, объяснял, в чем преимущества той или иной живописной техники. Эти просветительские беседы поднимали на новый уровень их упоительную связь.
Утонченная чувственность была заложена в Этте природой, фантазия ее пробудилась еще по прочтении книг, что так шокировали и рассердили Солона, теперь же ей не стало удержу. Кейн, физически привлекательный, обладал той же степенью эмоциональности, и Этта решила, что наконец-то обрела идеальную любовь. Ни одну из героинь Дюма, Бальзака или Доде не любили более страстно, чем Этту, – во всяком случае, так ей казалось. Следовало учитывать и обстоятельства места – мастерскую художника, где сама атмосфера настраивала на эротический лад. По стенам были развешаны многочисленные этюды – сплошь ню; скульптура – женский торс в натуральную величину, копия с греческого оригинала – дышала красотой того сорта, которая отметает самую мысль о похоти. Однажды, когда Кейн заявил, что греческой статуе не сравниться прелестью с его Эттой, ей пришли на ум строчки из романа Доде. Тогда, в Торнбро, впервые прочитанные, они стали настоящим откровением:
Чтоб жизнь вдохнуть, Сафо, в твой горделивый мрамор, Ты знаешь – отдал я по капле кровь мою.
Однако именно желание Этты упрочить их связь настолько, чтобы она получила право называться великой любовью, через несколько месяцев начало весьма беспокоить Кейна. До того, как девушка вошла в его жизнь, он был абсолютно свободен от эмоций подобного характера. Разум его полностью занимало искусство, ему Кейн отдавал предпочтение во всех случаях и перед всем остальным. В планах на будущее у него отнюдь не фигурировали узы – вообще никакие, а через несколько месяцев Кейну стало казаться, что, поглощенный Эттой, он подрастерял свой пыл творца.
Физическое влечение, вместо того чтобы, как ему и положено, пойти на спад, день ото дня только возрастало, превращалось в пугающую стихию и не давало Кейну сосредоточиться на новых идеях. Например, еще до встречи с Эттой он задумал ряд картин, но для них требовались натурщики определенного типажа, а теперь ему просто лень было искать таковых. Возникал в воображении Кейна, и весьма настойчиво, некий пейзаж, для завершения которого требовалось поехать на Запад. Кейну стало казаться, что красота Этты, как телесная, так и душевная, оказывает на него пагубное действие – отвращает от прочих аспектов жизни и работы. В нем крепла убежденность, что пора перекроить их отношения – возможно, даже разорвать, – как бы ни было это больно.
И вот, решившись, Кейн взялся исподволь подводить Этту к мысли о неизбежности перемен – там бросит слово, там – целую фразу, а то вдруг посоветует больше времени уделять занятиям. И вскоре чуткая Этта догадалась, что ее мечте о постоянном союзе с Кейном суждено разбиться вдребезги. Она любила Кейна искренне и глубоко, поэтому гнала дурные предчувствия, но, даже уверенная, что разрыва ей не вынести, дала себе слово: если подозрения оправдаются, не станет удерживать того, чье счастье для нее превыше собственного.
Настал день, когда Кейн завел речь о некоем музее на Западе: там, дескать, заждались обещанного им пейзажа – заказного, на сюжет из жизни первых поселенцев. Готовится масштабная выставка, она назначена на будущую осень. Работу Кейна представят наряду с другими пейзажами, посвященными этим краям. Увы, картина еще в проекте, на нее понадобится время – и уединение. Словом, он должен как можно скорее ехать на Запад. Этте все стало ясно; боль осознания сопровождалась чувством фатальной предрешенности.
Через несколько недель пришло время Кейну паковать вещи. Они с Эттой были в мастерской, им предстояло проститься сегодня же. Кейн отнюдь не ликовал по поводу скорого освобождения, ведь любовь Этты ввела его в мир эмоциональных восторгов, каких он прежде не испытывал. Какое уж тут ликование, напротив, теперь, когда он практически вырвался из силков, куда заманила его душевная чистота и нежность Этты, страсть к юной ее прелести была сильна, как никогда. Мало того, духовное совершенство его подруги, неотделимое от совершенства телесного, именно сегодня впервые заронило в Кейне подозрение, что по-настоящему он не освободится, да, пожалуй, ему эта свобода и не нужна. Образ Этты полетит за ним на Запад, в облюбованную ранее долину, и всем призракам первых поселенцев вместе взятым не под силу будет нейтрализовать его чары.
С укладкой вещей было покончено, Кейн ходил теперь из угла в угол. Оставалось только проститься – и можно ехать. Пока он собирался, Этта смотрела на него, а теперь ее взгляд скользил по мастерской. Вот он задержался на подиуме: здесь Этта позировала, созерцая городские крыши, тогда, в первый день, вид из окна потряс ее; вот за этим столиком она пила кофе в перерывах между сеансами. Перед мысленным взором Этты проносились восхитительные часы, проведенные вдвоем с любимым. Она остается одна – совсем одна. Ибо кто, кроме Кейна, поймет ее – да и кому она захочет открыться? Никому.
Кейн шагнул к ней, обнял:
– Дорогая, счастливейшие в жизни часы я провел с тобой – тебе ведь это известно, правда? Ты подарила мне не только вдохновение, но и силы, чтобы творить. До нашего знакомства я относился к живописи скорее как к забаве, и только ты подвигла меня серьезно взглянуть на мое искусство. Ты поселила во мне сильнейшую жажду самовыражения…
Этте оставалось недоумевать, как Кейн после такого признания может ее покинуть, не пообещав вернуться, не дав хотя бы надежды, что они еще будут вместе? Но именно так он и поступил.
Еще несколько мгновений длились объятия, пока их не прервал звонок – это подали такси. На пороге Кейн обернулся и выдохнул:
– Дорогая!
Вот и все…