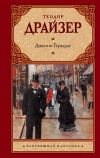Текст книги "Оплот"
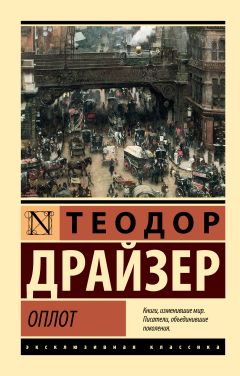
Автор книги: Теодор Драйзер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Глава 9
Орвилл проучился в Окволде три года. Теперь, в семнадцать лет, это был юноша очень недурной наружности: высокий стройный кареглазый шатен, – невозмутимый и не в меру самоуверенный. В отличие от Изобель Орвилл не имел ни малейшего желания учиться дальше. Родство с обширным семейством Уоллин вселило в Орвилла уверенность, что будущность его уже обеспечена. В Окволде он не столько занимался науками, сколько налаживал связи с одноклассниками из влиятельных семей; впрочем, сдавать экзамены ему всегда удавалось, притом вполне прилично.
Честь называться ближайшим другом Орвилла Барнса выпала Эдварду Стоддарду, сыну Айзека Стоддарда из Трентона. Особую выгоду от альянса со Стоддардом-младшим Орвилл видел в наличии у него сестры по имени Алтея. Эта девица также училась в Окволде. Разумеется, согласно окволдскому внутреннему распорядку, юноши и девушки пересекались только на несколько минут в день, да еще по выходным, так что отношения с Алтеей развивались крайне медленно. И все же они расцвели пышным цветом, ибо Алтея, тусклая узколобая особа, нравом под стать Орвиллу, влюбилась в него и убедила брата пригласить в гости предмет своих чувств. После этого визита молодые люди уже встречались регулярно в День седьмой или День первый, и Орвилл всерьез подумывал о том, как бы через женитьбу породниться с богачами Стоддардами. Квакерская вера не задела сердца Алтеи: как и Орвилл, эта девушка пеклась лишь о внешних проявлениях религиозности, ведь они немало значили в обществе. Войдя в семью Стоддард, рассуждал сам с собой Орвилл, он получит деньги, уверенность в завтрашнем дне, комфорт; его будут уважать, перед ним станут преклоняться – а именно к этому он всегда и стремился.
Солон одобрил ухаживание Орвилла за Алтеей Стоддард. Орвилл в глазах отца был идеальным сыном, юношей высоких моральных качеств и определенно заслуживал того, чтобы занять в этом мире одну из самых выгодных позиций, поэтому он ничуть не удивился, когда восемнадцатилетний Орвилл пожелал бросить Окволд и стать деловым партнером Айзека Стоддарда – владельца фабрики гончарных изделий. В колледж Орвиллу не хотелось – он выбрал для себя карьеру бизнесмена.
Солон, отдавший банковскому делу двадцать два года жизни, знал: для успеха на этом поприще нужен особый талант. В наличии такового у старшего сына Солон сомневался, потому и был рад, что Орвилл проявил инициативу в выборе занятия. Пусть поступает в «Американские гончарни», думал Солон. Стоддарды, что сам Айзек, что его жена, всегда вызывали его глубокое уважение.
И снова тетушка Эстер приложила руку к судьбе отпрыска семьи Барнс. Оказалось, что эта почтенная дама много лет назад дала старт карьере самого Айзека Стоддарда. Она и поныне владела третьей частью акций компании «Американские гончарни», и ее личное расположение дорогого стоило. К Орвиллу она благоволила, даром что ставила под сомнение как крепость его веры, так и остроту ума, поскольку он избегал напрямую высказываться о чем бы то ни было. Впрочем, тетушка Эстер считала его достаточно толковым – такой оправдает ее рекомендации. И вот Эстер Уоллин сообщила Айзеку Стоддарду, что будет рада видеть в бизнесе Орвилла Барнса, который, по ее убеждению, обладает практической сметкой и способен показать себя добросовестным партнером.
По удивительному стечению обстоятельств едва ли не первым предметом, который потряс Орвилла еще в раннем детстве, было как раз изделие из фаянса – настоящее произведение искусства. Мальчик увидел его в трентонском доме своей двоюродной бабушки Фебы. Ее муж, Энтони Кимбер, когда-то владел «Американскими гончарнями». В те времена производственная база состояла из печи для обжига да пары ручных гончарных кругов: это уж потом мастерские стали процветать, – в таком виде они и достались овдовевшей Фебе и от ее имени были проданы Руфусом Барнсом все той же Эстер Уоллин и Айзеку Стоддарду. Так Орвиллу довелось подхватить оборвавшуюся ниточку; так через старшего сына Барнсы вновь стали причастны к делу, некогда принадлежавшему дядюшке нынешнего главы семьи – Солона Барнса.
Глава 10
Женский колледж Лувеллин представлял собой этакий перекресток: здесь старые порядки уже пронизал дух новой эпохи – тот самый, которому все чаще подчинялись квакеры Восточного побережья, в особенности самые образованные из них и наиболее склонные мыслить свободно. Основало этот колледж Общество друзей, но к тому времени, когда туда поступила Изобель Барнс, Лувеллин был квакерским учебным заведением ничуть не больше, чем, скажем, протестантским либо католическим. Здешний устав не отличался чрезмерной строгостью, однако сами стены, казалось, впитали святость девичьей непорочности. Весь архитектурный ансамбль, выполненный в готическом стиле, был призван настраивать на созерцательную безмятежность: по широким газонам бежали извилистые тропинки; чтобы вступить в дортуар, следовало миновать сначала сводчатую галерею; за библиотекой – самым новым зданием – находился закрытый дворик наподобие монастырского. В хорошую погоду девушки готовились там к занятиям, и там же в начале и конце учебного года проходили разнообразные церемонии.
Учились в Лувеллине около пяти сотен девушек возрастом от семнадцати до двадцати двух; их рассматривали как этакий костяк нравственности будущих поколений. Дортуары были устроены так, чтобы ни одна из воспитанниц не могла избегнуть контакта с другими – тесного и подчас нежелательного. Все спальни выходили дверьми в просторный холл, где располагались умывальные комнаты и общая кладовка. Почти каждая девушка жила в одной комнате с соседкой либо занимала отдельную крошечную спаленку в блоке – этакой квартирке с общей маленькой гостиной. В таком-то блоке планировали поселиться Изобель и Аделаида Прентис, но перед самым отъездом дочери миссис Прентис тяжело заболела, и Аделаида просто не смогла покинуть свою матушку. Изобель сникла. Она понимала, что без соседки ее шансы близко сойтись с другими девушками сократятся, не говоря уже о том, что ей будет недоставать Аделаиды как подруги. Солон и Бенишия, даром что у себя в доме роскошеств не держали, снабдили старшую дочь приличной суммой денег – пусть украсит казенное помещение по своему вкусу. Изобель уже успела размечтаться об уютных вечерах: вокруг них с Аделаидой соберется кружок (сплошь родственные души); девичья болтовня, пение, приготовление помадки – вот что рисовалось ее воображению. Изобель загодя съездила в Филадельфию и купила гравюры, гардины, подушечки, комнатную жаровню и прелестный чайный сервиз. Все эти вещи нравились ей самой, но она вдобавок знала, что с их помощью создаст благоприятное впечатление о своих привычках – усвоенных, разумеется, в семье.
Однако в Лувеллине Изобель обнаружила все те же «группы», только здесь они (по крайней мере, ей так казалось) подбирались еще придирчивее и держались даже более обособленно, чем в Окволде. Как и всюду, главными критериями были физическая красота и обаяние, что и неудивительно: воспитанницы находились в таком возрасте, когда стремление к любви и интерес к вопросам пола достигают своего пика, а необходимыми условиями для вступления в зачарованный круг являются живость и общительность. Никто не отменял и обычного для закрытых учебных заведений злословия и снобизма – хотя в том, что ими заражен и Лувеллин, его обитательницы никогда не признались бы. Они были старше окволдских девчонок и считали, что возраст дает им право не скрывать особенностей своего характера, своих представлений о том, что красиво, а что нет, в том числе в одежде, и правом этим пользовались. Как ни странно, данное обстоятельство не исключало другого – казалось бы, противоположного. Речь о вездесущей тенденции большинства копировать поведение и платье немногих избранных. Заурядные девицы, еще вчера прозябавшие в промышленных городах, но щедро финансируемые родителями, делались в Лувеллине снобами чистой воды. Каждую новенькую с пристрастием оглядывали представительницы всех кружков, прикидывая, достойна ли она членства в том или ином из них, а может, и сразу в нескольких. Изобель этот тест вроде бы прошла: ее социальное положение сочли приемлемым, однако вписаться хоть в какой-нибудь кружок ей не удалось (в кружках этих был принят особый стиль поведения, с которым Изобель безнадежно диссонировала). Нельзя сказать, что лувеллинские девицы сделали ее изгоем – нет, ее избегали с соблюдением всех норм приличия.
Зато Изобель сразу обратила на себя внимание преподавателей, так как была вдумчива и прилежна, не в пример большинству воспитанниц, и заметно смелела на уроках – вызывалась отвечать, когда чувствовала, что знает материал. Увы, репутация хорошо успевающей студентки никак не способствовала сближению Изобель с девушками, которые внушали ей особенно сильную зависть; именно они, яркие, обаятельные, крайне редко приглашали ей вместе выпить чаю и поболтать, причем умудрялись не создать впечатления, что она на их вечеринках – персона нон грата. Просто, завидев Изобель или услышав ее голос, эти девицы исчезали, а при встрече уже после вечеринки имели обыкновение восклицать: «Ах, мы вас повсюду искали – где вы прятались?» Или «Мы не решились отвлечь вас от занятий», – хотя знали, что в это время Изобель уроки не учит. Ранимая от природы, она все быстро поняла: те, кто не желал впускать ее в свой кружок, сами себе внушили, что это она их избегает – зубрит себе уроки у самого дальнего окна аудитории или у себя в комнате. Ей оставалось принять правила игры – она начала притворяться, что действительно слишком занята учебой.
Как-то раз, словно в шутку, ей была подарена табличка «Не беспокоить»; с тех пор Изобель вешала ее на дверь, а сама в это время сидела одна, прислушиваясь к гомону в холле: одноклассницы всегда проходили мимо ее комнаты. Если бы их спросили, как они относятся к Изобель Барнс, большинство ответили бы: «С симпатией», но и только. Никому не хотелось с ней общаться. В табличке нужды не было, как не было и риска, что какая-нибудь девушка нарушит уединение Изобель с целью дружески попенять ей – совсем ты, мол, заучилась. Если бы такое произошло, Изобель, наверно, растрогалась бы до слез. С каждым таким не смертельным, но болезненным уколом ей все яснее открывалось: она чужда лувеллинским барышням самим образом своих мыслей, самим нравом; кроме того, существует некий особый дух юности, красоты и притягательности, которым ее обделила природа. Другие девушки с ним, должно быть, родились. Они умеют изящно одеться. Они уверены в себе. Они танцуют, мурлычут модные мотивчики, шепчутся; вечно у них какие-то секреты, какие-то домыслы, догадки, предположения. У нее же – теперь это очевидно – нет ничего, кроме учебников. Словом, Изобель только и оставалось, что погрузиться в учебу: сначала это было вызвано самими обстоятельствами, но со временем девушка увлеклась историей, родным языком, психологией и поняла, сколь скудна жизнь в Торнбро, ведь там нет книг. Изобель говорила себе: «Что проку в учебе? Учительствовать я не хочу и не стану. Только время напрасно теряю. Того, чего мне хочется на самом деле, у меня все равно не будет». Она думала о молодых людях, что наведывались по субботам к отдельным студенткам или встречались с ними в Филадельфии, – похоже, эти девицы только свиданиями и жили. От одноклассницы, также начисто лишенной женского очарования, Изобель узнала: в Лувеллине есть девушки, которые уже состоят со своими ухажерами в плотских отношениях. Известие сначала возмутило Изобель, потом вызвало зависть. В конце концов, для чего и жить, как не для этого, сказала она себе. Умереть в старых девах? Не иметь собственной семьи? Не познать любви? Вот если бы и у нее появился жених! На красавчика она не претендует: пусть этот человек будет скромной внешности, главное – чтобы ему была нужна именно такая, как она, чтобы он оценил ее ум. Тогда они оба избегнут одиночества.
Заканчивался первый учебный год. Стояла весна. Лувеллинские барышни пребывали в легкой лихорадке от грядущих экзаменов, в упоении от скорых каникул и в любовных грезах, а пока наряжались сообразно душевному настрою. И вот в один из дней, когда столь многим будущее счастье представлялось гарантированным, Изобель повесила табличку «Не беспокоить» и ничком бросилась на кровать. Она плакала до изнеможения, уверенная, что для такой дурнушки ни весна, ни судьба не припасли ничего – вообще ничего.
Сколь многие девушки одарены красотой – а что делать таким, как она? Как и чем жить? Верой отцов? Нет, это не по ней – она ведь реалистка, высшие сферы ее не влекут. Конечно, Изобель одолела немало страниц из Библии, прочла дневники Джона Вулмена и Джорджа Фокса – за неимением в доме других книг эти казались ей прекрасными. Но теперь-то ясно: она – это она, а не Джордж Фокс и не Джон Вулмен, да, кстати, и не отец, вдохновляемый ими обоими. У нее, Изобель, этого благоговения просто нет. Вот ей скоро двадцать – а жизнь пред нею лежит такая унылая. Изобель встала, подошла к зеркалу. Последовал тяжкий вздох. Волосы у нее жесткие и тусклые, цвет лица неровный, нездоровый, фигура угловатая, а заплаканные глаза имеют скучнейший из оттенков серого. Конечно, она не уродлива – всего-навсего нехороша собой, в ней напрочь отсутствует физическая привлекательность.
Не ожидая от судьбы щедрости на волнующие знакомства, Изобель настроилась исключительно на учебу; тем сильнее и приятнее было ее удивление, когда в новом учебном году кафедру психологии возглавил вместо прежней профессорши новый преподаватель – мужчина. В Лувеллине мужчины, если не считать визитеров, были редки – два преподавателя со своими семьями жили тут же, в кампусе, да еще с полдюжины профессоров являлись из большого мира, чтобы выдать очередную дозу знаний и исчезнуть до следующей лекции. Дэвид Арнольд, новый профессор психологии, тоже числился среди «приходящих»; стройный брюнет, он сразу понравился большинству студенток. Он был сдержан в манерах и обладал приятным, глубоким голосом – каждое его слово будто имело особый вес.
И вот профессор Арнольд стал проникаться симпатией к Изобель – нечто в ней импонировало ему, вероятно, тоже знавшему не понаслышке о превратностях судьбы. Темперамент Изобель Барнс, отметил профессор Арнольд, диаметрально противоположен темпераменту типичной студентки Лувеллина. Созерцательница, пребывающая в депрессии, – так он мысленно охарактеризовал эту девушку. Поначалу он видел в Изобель только занятный «случай из практики», но сама Изобель расшифровала его интерес как намек на нечто большее, чем дружеское участие. Разумеется, она ошибалась, зато иллюзия, зародившись, расцветила ее жизнь, дала новый стимул к учению. Изобель выбрала психологию своей специализацией и скоро весьма преуспела в этой науке, получив право беседовать с профессором после уроков и даже иногда заходить к нему в кабинет. Разговоры по большей части были об индивидуальной работе Изобель. Профессор Арнольд редко задавал вопросы, касающиеся самой Изобель или ее семьи, детства, и все-таки его очевидная симпатия почти компенсировала прежние унижения девушки.
Однако выпускной курс был отравлен для Изобель присутствием Доротеи, которая как раз поступила в Лувеллин. Вернулись отчаяние и недовольство. Доротея, вертлявая, прехорошенькая, нравом не отличалась от девиц, не принявших в свой круг Изобель, не оценивших ее. Доротея-то мигом вписалась, стала своей. Ее чуть ли не наперебой приглашали в гости на выходные, она была непременной участницей всех вечеринок и более интимных посиделок в спальнях. Порой она спрашивала старшую сестру, почему та не заглядывает к подругам после уроков; приходилось прибегать к неубедительной отговорке насчет занятости учебой. Поначалу Доротея из лучших побуждений пыталась советовать сестре, как лучше одеться, какая прическа ей будет больше к лицу, но Изобель только передергивала плечами, а порой и огрызалась – не лезь, мол, не в свое дело. Кончилось тем, что Доротея бросила это неблагодарное занятие и решила, что сестра у нее – с приветом, да к тому же брюзга. Отношения Изобель и Доротеи совершенно разоблачали миф о родственных чувствах, сестринской привязанности и тому подобном.
Между тем в Лувеллине Доротея окончательно решила, что жить, как отец – в полном соответствии с религиозными догмами, – не хочет и не будет. Сам склад ее характера не терпел ограничений. И вот она вырвалась, ей семнадцать лет, у ее ног – целый мир, сулящий удовольствия.
Доротея впадала в транс над фотографиями актрис и светских львиц (наконец-то она получила доступ к прессе) и мечтала о том времени, когда и ее имя будет у всех на устах, а ее фото – во всех газетах и журналах. Однажды в утренней воскресной газете, в разделе светской хроники, Доротее попалось фото, при виде которого девушка сначала обомлела, а затем помчалась к сестре и огласила ее комнату криками благоговейного восторга. Ибо на фото красовалась миссис Сигер Уоллин, супруга Сигера Уоллина-младшего, известного врача, и была это не кто иная, как Рода Кимбер. Ей удалось осуществить свой замысел – выйти за представителя состоятельного и влиятельного семейства. Свекор Роды доводился кузеном Джастесу Уоллину; тоже квакер, он унаследовал огромное состояние, нажитое на эксплуатации каботажной пароходной линии. На фото Рода была в вечернем платье с очень смелым декольте, – с уложенными в прическу «помпадур» волосами, с мерцавшим на шее жемчужным колье и браслетами на точеных полных руках. Подпись гласила, что миссис Сигер Уоллин остановилась в одном из лучших отелей Атлантик-Сити, поскольку намеревается отдохнуть неделю-другую от круговерти светской жизни.
Тут следует сказать, что у Солона и Бенишии восхищение Родой Кимбер прошло очень давно, еще в дни ранней юности, а с замужества Роды теплота в отношениях иссякла вовсе. Барнсов коробил стиль жизни, избранный Родой. Солон иногда просматривал колонку светских новостей, из коей узнавал об очередной заграничной поездке своей кузины, о званом обеде, данном ею в честь какой-нибудь знаменитости, о бале, устроенном для светской дебютантки, и прочей деятельности того же сорта, но связи между двумя семьями давно уже сводились к редким формальным визитам. Разницу в представлениях о морали не подчеркивали вслух – и без того было понятно, что более тесные контакты нежелательны ни для одной, ни для другой стороны.
И вот Доротея размахивает газетой у Изобель перед носом. Изобель едва взглянула на фото и сообщила сестре, что никогда не симпатизировала двоюродной тетке по причине ее фривольного, пустого образа жизни. Изобель заканчивала колледж и думать могла только о своем скором триумфе. Да, Изобель собиралась произвести триумф, впечатлить профессора Арнольда – чтобы подольше помнил ее, чтобы последние дни в Лувеллине были овеяны особым теплом. Хотя профессор Арнольд проявлял свою симпатию как бы с оглядкой – дело не шло дальше нечастых похвал и просьб ассистировать в экспериментах, – Изобель чувствовала, что он уже видит в ней ответственную помощницу.
В последний день в колледже профессор Арнольд дал Изобель новый повод питать подобные надежды. Он сам подошел к ней после экзамена, поздравил с превосходными результатами и сказал со всей серьезностью:
– Надеюсь, мисс Барнс, вы продолжите изучение психологии. Вы одарены; вашему разуму необходима нагрузка, иначе он закоснеет. Вы не думали об аспирантуре? Или у вас другие планы? Наверное, замуж собираетесь? – добавил он печально.
– О нет, профессор Арнольд, эта опасность мне не грозит! – Сердце Изобель так и заколотилось. – Вероятно, я некоторое время поживу с родителями, но смогу приезжать на ваши лекции, ведь наш дом отсюда не так уж далеко.
– Приезжайте, когда вам заблагорассудится, я буду рад, – сказал профессор Арнольд и добавил: – До свидания, милая мисс Барнс.
С тем они и расстались.
Глава 11
К великому изумлению Солона и Бенишии, третья их дочь не выказала желания следовать по стопам старших сестер – во всяком случае, касательно одной конкретной сферы. К четырнадцати годам вычерпав до дна колодец знаний ред-килнской школы, Этта заявила, что Окволд ее не устраивает – ей хочется учиться в заведении совсем иного сорта.
И вновь на сцену вышла тетушка Эстер, предложив школу-пансион для девочек в Чаддс-Форде, у подножия холмистой гряды, что украшает юго-восточную часть Пенсильвании неподалеку от Брендивайна. Здесь не было такой, как в Окволде, строгой приверженности квакерским традициям, однако устав и учебный план подразумевали духовное и физическое развитие учениц; вдобавок рекламный проспект гласил, что девочек станут знакомить и с сокровищами человеческого интеллекта. Этта прямо загорелась. Судя по фотографиям в проспекте, девочки из Чаддс-Форда даже ходят в пешие походы по холмам, разбивают лагерь на лоне природы. Отец и мать вместе с Эттой совершили ознакомительную поездку, и решение было принято в пользу Чаддс-Форда.
Школа-пансион располагалась в весьма уединенном месте, далеко от тракта; от самого Чаддс-Форда к ней тянулась длинная, мощенная желтым камнем дорога, по которой мало кто ездил. Лишь изредка пропищит автомобильный клаксон, продребезжит велосипедный звонок или раздастся свист далекого поезда – самый романтичный из звуков, – и вновь все стихнет в округе.
Архитектурный ансамбль школы представлял собой центральное здание, к которому примыкали два крыла, где находились крошечные спальни. Был домик директора, прачечная, кухня, обеденный зал – словом, закрытый мирок, обитали в котором всего-то десятка два преподавателей да сотня-другая учениц.
И как же отличался этот мирок от привычного Этте мира, от тишины родного дома! Причем не только огромным разнообразием книг, о нет! Здесь, в школе, был смех, здесь были задушевные беседы, а вели их жизнерадостные, пышущие здоровьем девочки. Этта не сомневалась, что скоро и у нее появятся подруги, которым она сможет доверить свои чувства, мысли, мечты – и которые поймут ее и ответят такой же искренностью, ибо Этта изнывала без любви. Таких девочек свет еще не видел. Она жаждала обожания, как жаждут живительной воды, и именно поэтому напускала на себя независимый вид. По первому впечатлению – невозмутимая наблюдательница, Этта унаследовала от отца особую манеру смотреть, будто прощупывать взглядом всё и вся. Темпераментом она пошла в Бенишию. Мать и дочь обе казались очень сдержанными, но знали, какова на вкус страсть; отличие было в том, что Бенишия свой темперамент обуздывала со смирением и без вопросов даже к себе самой. Что отец с матерью любят ее, Этта не сомневалась, однако ни понять ее до конца, ни откликнуться на ее порывы они почему-то не могли. Отец, поглощенный делами, слишком отдалился от дочери, особенно в последний год. Мать же находилась под влиянием отца, и открывать ей душу Этта не рисковала. А как тоскливо делалось в доме по вечерам, когда после дневных забот запирались двери! Здесь, в Чаддс-Форде, такой тоски и не ведали. Порой Этта даже думала: вот бы совсем домой не возвращаться.
К середине учебного года Этта совершенно освоилась в школе, а ее интерес к занятиям только рос. Она обожала нечастые вылазки на природу с одноклассницами и под опекой мисс Лансинг, учительницы ботаники. Мисс Лансинг водила девочек в лес на поиски подснежников, эпигеи ползучей и других робких, хрупких вестников весны; показывала побеги дикого винограда, а то сама первая забиралась на какой-нибудь скалистый уступ, с которого открывался вид на окрестности, подернутые дымчатой весенней зеленью. Мисс Лансинг обращала внимание девочек на скальные породы: по ним, говорила она, можно немало узнать о том, как здешний – да и вообще любой – ландшафт выглядел в древние времена. При этом мисс Лансинг выбирала маршруты на максимальном отдалении от оживленного шоссе, хотя при тогдашнем велосипедном и автомобильном буме любители прокатиться с ветерком попадались буквально повсюду. Особенно много было велосипедистов; случалось, они целыми компаниями, а то и парочками, подъезжали прямо к школе, словно с целью разнюхать, каково там, в школьных стенах, живется. Выходило, что и сами пансионерки, жадные до впечатлений, не вовсе лишены информации из бурлящего внешнего мира.
Однажды в субботу, под вечер, Этта сидела у окна своей спальни. Вдруг взгляд ее различил парочку велосипедистов, что не спеша катили по проселку. На девушке был белый свитер и очень короткая темно-зеленая юбка. На темных кудрях лихо сидел мягкий мужской берет с помпоном. Юноша был в укороченных брюках и спортивной куртке. До чего, наверно, удобные костюмы, подумалось Этте, но куда больше, чем дерзость одежды, ее потрясла нежная заботливость юноши по отношению к девушке. Он первым заметил клочок тени на лужайке у западной стены, первым достиг его, спрыгнул на землю, дождался, пока подъедет его спутница, и помог ей спешиться, а затем приподнял ее лицо за подбородок и слегка коснулся губами ее губ, чем потряс Этту до глубины души.
Этта шевельнуться боялась, только смотрела на влюбленных. Отдохнув несколько минут, они вспрыгнули на велосипеды и покатили дальше. Этта, словно зачарованная, смотрела им вслед; ослепительно блестели в лучах послеполуденного солнца колесные спицы. Парочка уже исчезла из виду, но Этта все не могла очнуться, ибо ей была явлена любовь. Даже спустя годы одно воспоминание о том случае вызывало в ней трепет.
Однако самое существенное влияние на всю жизнь Этты оказал приезд новой пансионерки. Было это уже во второй год обучения; девушку звали Волайда Лапорт. Родом из Медисона, штат Висконсин, она была энергична, подвижна, не то чтобы красива, но мила, возможно потому, что больше походила на мальчишку-забияку. Школьная форма – простого кроя, сдержанного синего цвета – только подчеркивала в Волайде недостаток женственности. Все связанное с Западом США вызывало у Волайды энтузиазм, причем нахваливала она свои родные края с безапелляционностью, не допускавшей возражений. Отец ее владел большим супермаркетом в Медисоне; как и мать, он был квакером, а на Запад родители переселились из Пенсильвании.
– Они меня сюда отправили, чтобы я укрепилась в квакерской вере, – фыркала Волайда. – Да только меня ни идеи их, ни сам по себе Восток не привлекают. Видели бы вы Медисон или Чикаго! Там в десять раз интереснее, чем в этих ваших восточных городишках!
Этту с первого же дня потянуло к Волайде. Однажды, прослушав лекцию об этикете и тонкостях светской переписки, Волайда заявила:
– Чему вас только учат здесь, на Востоке! Как себя вести, в каком платье появляться к ужину, как исполнять светские обязанности! Тоска! Составители школьных программ, похоже, уверены, что каждая девушка спит и видит, как бы ей выйти замуж. Лично я себе такую цель не ставлю. Доучусь в Чаддс-Форде и поступлю в Висконсинский университет у нас в Медисоне. Вот где программы так программы! Я хочу изучать медицину, чтобы сделаться врачом. Висконсинский университет – лучший в стране среди тех, где принято совместное обучение. А раздельного обучения вообще быть не должно! Здешние девушки считают юношей каким-то чудом, себя с ними не равняют. А ведь мужчины не лучше женщин. У нас на Западе никто не сомневается, что мозги есть и у девушек тоже. А здесь из-за противоположного пола сплошные охи да ахи. Мне это претит!
Впрочем, насчет противоположного пола Этта как раз и не могла согласиться с Волайдой. В ней проснулся интерес – не столько к юношам как таковым, сколько к чувству, называемому любовью, к особенным отношениям, которые, возникнув между юношей и девушкой, дают обоим и восторг, и уверенность, и душевные силы.
Этта и Волайда сближались все более – и все чаще последняя взахлеб рассказывала первой о Висконсине. Поначалу слова «Медисон», «Окономовок», «озеро Блафф» были для Этты всего лишь географическими названиями, но Волайда так превозносила все связанное с родным штатом, что вскоре Этту потянуло туда, как иных тянет в далекую Индию. На Западе, если верить Волайде, жизнь вольнее, светлее, насыщеннее, а люди – сплошь яркие индивидуальности. А каковы родители самой Волайды, сколь многое они для нее делают! Волайда выбирает одежду по своему вкусу, ей покупают любые книги, какие она только попросит, ей разрешено общение с мальчиками, пение, танцы и даже карточные игры! В Этте росла зависть к подруге, она сопоставляла уклад в Торнбро и в Медисоне, в доме мистера и миссис Лапорт. Дерзость Волайды, оригинальный образ мыслей совсем вскружили Этте голову.
Вдобавок Волайда, несомненно, обладала очарованием – правда, то было очарование скорее мужественности, чем женственности. На выходных у себя дома, да и в пансионе, если не требовалось надеть школьную форму, она носила костюм строгого покроя и белую блузку с накрахмаленными манжетами. Почти бессознательно Этта стала воспринимать Волайду как существо противоположного пола. Интуитивно угадав, что Волайда обладает мужским складом ума и мужским характером, Этта теперь буквально смотрела в рот своей подруге. Ее преклонение перед Волайдой приобрело такие масштабы, что в пансионе заговорили о «помешательстве». Впрочем, Этте не было дела до сплетен. Стать необходимой Волайде или хотя бы впустить ее в свой мир, отблагодарить за искренность, за понимание – вот чего хотела Этта, поэтому в очередном письме домой спросила у матери, нельзя ли пригласить подругу в гости на День благодарения, и заодно упомянула Висконсинский университет. То был пробный шар, ведь родители планировали отправить Этту в Лувеллин, и она об этом знала.