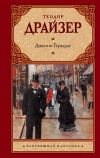Текст книги "Оплот"
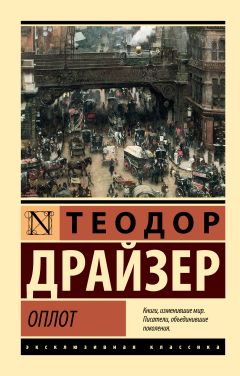
Автор книги: Теодор Драйзер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Глава 14
Этта переживала самую беспросветную стадию отчаяния, когда буквально все газеты взялись муссировать новость: Стюарту инкриминируется соучастие в преступлении, он под арестом. Мир пошатнулся. Любимый братик обвинен в изнасиловании и даже в убийстве; жертва – молоденькая девушка, подобно Этте, жадная до жизни. Какой позор покроет теперь всю семью! А что будет со Стюартом? Его ждут страдания, а может, и смерть!
Этта была в полном смятении мыслей и чувств. Как ситуация отразится на отце – при его-то несгибаемой религиозности? Как перенесет этот ужас мама, столь беззаветно любящая всех своих детей? А Орвилл, этот раб общественного мнения? А Доротея, которую скандал накрыл практически сразу после свадьбы? Что уж говорить об одинокой Изобель: жизнь и так насмеялась над нею, не дав ни любви, ни впечатлений, а теперь, пожалуй, шумиха вынудит ее оставить и скромную должность в колледже.
Измученная образами будущего своей семьи, Этта дошла до самообвинений – и впрямь, разве не внесла она свою пагубную лепту в случившееся, разве не подала пример младшему брату, первой взбунтовавшись против родителей?
А назавтра в утренней газете она прочла о том, что Стюарт покончил с собой, и впервые в жизни, упав на колени, разрыдалась.
В довершение всего Этта получила телеграмму от Изобель. Сестра умоляла приехать на похороны Стюарта, однако в тот период Этта была просто не в силах встретиться с убитыми горем родителями. Она все прокручивала в уме первый и единственный визит матери в Нью-Йорк. Этте казалось, что после заверений насчет связи с Кейном – мол, ничего дурного меж ними нет, – она навек лишена права видеть маму. Она подвела всех – и родителей, и братьев с сестрами, и жить ей отныне одной, отлученной от семьи, отвергнутой, позабытой.
Что касается Волайды, она поначалу не прониклась горем Этты из-за расставания с Кейном: посчитала даже, что это к лучшему – подруга теперь сосредоточится на учебе, которую в последнее время подзапустила, но страдания ее с каждым днем усугублялись, и стало ясно, что разрыв с любимым не может пойти на пользу. Она пыталась вытащить подругу из тисков депрессии: водила и на премьерные спектакли, и на концерты, и в самые «атмосферные» рестораны, но увы, былое жадное любопытство совсем угасло в Этте.
А потом пришла весть о трагедии со Стюартом, и Волайда, увидев, как изводится Этта, начала склоняться к мысли, что и впрямь ей лучше вернуться домой. Ко всему безучастная, она оставалась глуха, когда Волайда заговаривала с ней о работе. Пределом мечтаний подруги, как она и подозревала, были любовь и замужество.
– Не представляю, что бы я без тебя делала, – сказала однажды Этта, тронутая попытками Волайды утешить ее.
Но сама-то Волайда уже поняла: Этта, преображенная любовью и страданиями, для нее теперь недосягаема. За эти месяцы в Нью-Йорке девушки отдалились друг от друга, что было неизбежно, ведь обе повзрослели, только каждая на свой лад. Волайда в процессе построения карьеры обрела практическую сметку, в то время как Этта прошла посвящение в женственность, даром что путь ее не был прям.
Сознавая, что ей будет недоставать Этты, энергичная Волайда, впрочем, настроилась дальше двигаться в одиночку. В Нью-Йорке она закрепилась – нашла работу в газете на летние месяцы, – а вот карьера Этты была под вопросом. Вдобавок депрессия грозила нанести серьезный ущерб ее здоровью. Словом, Волайда принялась убеждать подругу в необходимости возвращения домой, тем более что, по ее заверениям, Этта всегда могла приехать в Нью-Йорк: они опять поселятся вместе, и вообще их дружба – это самое прекрасное, что было в сознательной жизни Волайды.
Окончательно Этта решилась, получив длинное письмо от старшей сестры. Изобель рассказывала о похоронах Стюарта, сообщала, что отец больше не служит в банке, и в частности писала:
«Ты должна понять, какая тяжелая сейчас атмосфера у нас дома. Мама почти не встает с постели. Доктор считает, что у нее был инфаркт, отсюда эта странная слабость. А на папу я и вовсе не могу взглянуть без слез. Если бы ты приехала, дом бы ожил. Мы с тобой общими усилиями, наверное, сумели бы отвлечь папу от горьких дум; возможно, в нем проснулся бы интерес к хозяйству. И на ферме, и в саду для него найдутся занятия, главное – вывести его из оцепенения, ведь он и разговаривать перестал.
А бояться тебе нечего, потому что папа теперь другой. В нем совсем не осталось этой его нетерпимости. Смерть Стюарта изменила его полностью. Это больше не прежний суровый отец, о нет, не прежний.
Наконец, Этта, ты нужна мне самой. Я жажду обсудить с родным человеком произошедшее, разобраться во всем. Боюсь, мамины дни сочтены. Если ты не сможешь приехать, я буду вынуждена совершенно отказаться от преподавательской деятельности, а тебе известно, как много она для меня значит. Работа – моя единственная отдушина; только в колледже я чувствую, что живу».
В итоге через пару дней после получения этого письма Этта собрала вещи и распрощалась с Волайдой, заранее тоскуя по той, чей здравый смысл давал ей силы. Было пролито немало слез и высказано немало уверений в вечной привязанности. А потом Этта уехала в Даклу.
Экипаж, посланный за ней на даклинскую станцию, свернул на проселок – и внезапно Этту накрыло волной счастья, ибо, несмотря на все родительские запреты, не было в мире дома лучше, чем ее Торнбро. Эти просторные, продуманно затененные лужайки, эти клумбы, а вдалеке – плавное течение речки Левер-Крик… Эмоции нахлынули с такой силой, что, увидев в дверном проеме Изобель, которая с улыбкой вышла ей навстречу, Этта не смогла вымолвить ни слова. Тогда Изобель раскинула руки, и Этта бросилась к ней, и обняла ее, и была в свою очередь заключена в объятия.
На ее вопрос: «Как мама?» – Изобель приложила палец к губам.
– Мама сегодня совсем слабая. Смотри не волнуй ее. Она у себя наверху, в постели.
Вместе сестры поднялись в тихую сумрачную спальню, где лежала Бенишия – сломленная эмоциональным потрясением, бледная, постаревшая. Едва Этта взглянула на мать, как все, что казалось ей в домашней атмосфере гнетущим, раздражало запретами, пугало строгостью, улетучилось. Дом стал теплым, чудесным. Всепоглощающая любовь, жалость, сочувствие к родным – матери, отцу, Изобель, Стюарту, даже Орвиллу и Доротее – охватили Этту. С возгласом: «Мама! Мамочка!» – она рванулась к Бенишии в поисках ласки и утешения.
– Девочка моя! – едва слышно выдохнула мать, и Этта поняла: все ее грехи отпущены разом, навсегда.
Тотчас у нее возникло побуждение бежать к отцу – по словам Изобель, он сидел у себя в кабинете. Приблизившись к двери, Этта постучала. Послышалось «да-да», она вошла – и замерла, ибо едва узнала отца: настолько он переменился.
Это был уже не тот Солон, который стыдил ее за непотребные книжки и за кражу материнских драгоценностей; не тот, который помчался в Висконсин, где столь яро доказывал греховность избранного дочерью пути, чтобы затем отвернуться от нее, застыть в мрачном молчании, дожидаясь, когда заблудшую постигнет неотвратимый финал. Теперь, стоя в дверном проеме, Этта видела, как отец медленно поднимает голову, поворачивается к ней. Но какой у него взгляд! Разве так он смотрел раньше, отчитывая и укоряя? Эти глаза! Куда подевалась уверенность в собственном нравственном превосходстве, горевшая в глазах Солона неумолимым огнем, занимался ли он земными делами или судил своих далеких от совершенства детей?
Фанцузские книжки! Объяснение в Висконсине, когда отец забрал у Этты квитанции из ломбарда! Единственная язвительная фраза из всех сказанных отцом в тот день, всплыла в памяти: «Ты, должно быть, думала, что воровство ведет к добру?» И где он, свет, обнажающий всякую неправду, что лился тогда из отцовских глаз? Теперь на них лежит мутная серая пелена. Солон не двигался, но по выражению, свойственному скорее незрячим, Этта поняла, что затуманенные его глаза обращены прямо к ней.
– Папа! – воскликнула она. – Прости меня, папа! Много страданий принесла тебе, но я так нуждаюсь в твоем прощении и твоей любви. Сможешь ли ты простить меня?
Она по-прежнему стояла в дверях, отец по-прежнему сидел неподвижно, устремив на нее этот свой мутный взгляд. В полном молчании прошло около минуты. Потом Солон заговорил:
– Дочка, теперь я понимаю, что не мне и не тебе осуждать кого бы то ни было или даровать прощение. Этим правом обладает один лишь Господь Бог. Молись ему, дочка, молись ежечасно, как это делаю я.
Сверх всякой меры растроганная и тоном, и речью, и видом отца, Этта шагнула к нему. Слезы готовы были хлынуть из ее глаз.
– Папа, я приехала, чтобы хоть как-то облегчить боль, которую тебе причинила. Я очень тебя люблю и хочу быть полезной вам с мамочкой.
Солон взял ее за руку.
– Сама знаешь, дочка: это твой дом. Если решишь остаться, я буду только рад.
Этта обняла его за шею и поцеловала, а он, как бы ободряя, крепче сжал ее ладошку. Для Этты настал миг откровения – быть может, главного в жизни. Ее дом! Ее родители! Сумасбродные мечты, которые одолевали и ее, и остальных детей! Она останется здесь, она сил не пожалеет, чтобы в разрушенное это гнездо вернулись, хотя бы отчасти, уют и радость.
Глава 15
Однако всего через десять дней после возвращения Этты ее матушку постиг второй инфаркт, которого она не вынесла: смерть была мгновенной. Бенишия слишком убивалась по Стюарту. Память постоянно подсовывала ей образ сына – веселого, импульсивного, неуемного, погибшего на заре жизни; воспоминания громоздились перед ее мысленным взором, и бремя их оказалось слишком тяжким для незакаленной хрупкой нервной системы. Взращенная в ласке и холе, на редкость счастливая в браке, Бенишия оказалась не готова к удару, ее постигшему. Изобель и Этта решили между собой, что так для матери лучше: альтернативой смерти от инфаркта был полный паралич.
Что касается Солона, он столько молился о Бенишии – буквально жил этими молитвами, алкая наставлений Внутреннего Света, что теперь не сомневался: сам Господь Бог забрал к себе его жену, дабы опекать ее; отныне она обретет утешение и радость, которые сам он дать ей уже не в силах. О его возлюбленная жена! Вместе они погрузились на самое дно человеческих страданий – и вот она свободна, земные заботы сброшены ею, как тяжкая ноша, и она пребывает ныне с тем, кто неизменен в Своем милосердии.
Так чудилось Солону, однако не было минуты, когда бы в душе его не отдавались, подобно ударам похоронного колокола, или не шелестели, подобно тиканью старинных часов, два имени: «Стюарт – Бенишия, Стюарт – Бенишия», и он до исступления повторял благочестивое: «Не моя воля, но Твоя да будет»[16]16
Лк. 22:42.
[Закрыть].
Изобель и Этта в первые дни после смерти Бенишии старались выказать Солону дочернюю любовь и внушить, что жизнь в Торнбро продолжается без существенных перемен, – словом, всеми силами развеивали мрак. По очереди или обе сразу, они водили отца на прогулки по саду – до каретного сарая, а то и к речке Левер-Крик, по извилистым дорожкам. Там, на берегах, цвели цветы, кудрявился плющ; там вода отражала купы деревьев. Солон вполне понимал: если для Бенишии все эти лужайки, рощицы и прочее столь много значили, то и ему следует ими утешаться, однако без любимой жены прелести Торнбро для него померкли. Ведь Бенишия так любила и цветы, и деревья, и тенистые тропки, а теперь… И Солон посреди прогулки вдруг резко разворачивался и устремлялся к дому, и только оклик одной из дочерей, что старалась привлечь его внимание к очередной милой детали пейзажа, побуждал его замедлить шаг и вернуться.
Мысли его – где пребывали они? Точно не здесь, не в настоящем. Солон продолжал жить в том времени, когда они с Бенишией еще не познали страданий, фатальных для обоих. Этта и Изобель беспрестанно ломали головы, как бы поддержать отца, укрепить его силы, однако даже прелесть Торнбро, на которую сестры возлагали особую надежду, не действовала на отца, и они решили, что миссия их провалилась. Обе страдали почти так же, как отец, если не больше. Казалось, смирение перед судьбой неумолимо овладевает Солоном; Изобель и Этта с изумлением наблюдали этот процесс. То одна, то другая, заметив характерное выражение на его лице, приходила к выводу, что отец обрел глубочайший душевный покой. Нечто подобное случалось с ним на молитвенных собраниях, в тишине, насыщенной благоговейным предвкушением. Сейчас, как никогда прежде, Изобель и Этта чувствовали, что Внутренний Свет действительно существует и горит в их отце, делая терпимыми чудовищные его страдания.
Однажды на прогулке по берегу Левер-Крик Солон будто впервые заметил, сколь разнообразны здесь формы растительной жизни, сколь многочисленны виды насекомых; определенно, решил он, это лишнее подтверждение: все на земле создано великой Животворящей Силой – все существа, вся бесконечность форм и оттенков. Вот перед ним высокое – фута четыре, не меньше – растение, увенчанное сучком с почкой: не иначе, из нее выйдет цветок. А вот на этой почке примостилась – и точит ее – изящная зелененькая козявочка. Вся она прозрачная – чистый изумруд, но только живая, хрупкая. Изумруд суть твердый, застывший камень, вспомнилось Солону, пока он любовался козявочкой, а это существо все трепещет – сучит миниатюрными лапками, оправляет крылышки, отирает головку и ротик. А с каким усердием оно насыщается, в то же время будучи начеку! Никогда раньше Солон не задумывался над совокупностью этих фактов – и вот стоит, потрясенный, ведь, сколько ни ездил по окрестным полям и ни гулял по лужайкам собственной усадьбы, а таких зеленых козявочек не видел – следовательно, и наблюдать за их поведением не мог. Однако это не все: чем больше Солон смотрел, тем больше дивился не только красоте насекомого, но и мудрости и искусству Творца, тому факту, что он вообще озаботился создать сию живую драгоценность.
Однако зачем этому восхитительному творению, столь потрясшему Солона своим совершенством, обязательно нужно питаться другим творением – прекрасным цветком? Ведь козявочка явно губила его, а растение, насколько Солон видел и насколько знал, не имело средств для самозащиты. Кому жить – козявочке, цветочной почке или обеим? И Солон, уйдя с головой в размышления, почувствовав к ним вкус, принялся искать в природе и другие чудеса и загадки. Он обратил внимание на рыбок в Левер-Крик и узнал среди них тот вид, представителей которого много лет назад ловил сачком для юной Бенишии, – она сама теперь пребывает среди таинственных сил, занимающих Солона. Или вот над ним, в древесной кроне, щебечут птицы. Или вот порхает бабочка: еще недавно она была личинкой в коконе, однако и ее создали, чтобы жить, чтобы перенести трансформацию, после чего летать, подобно крылатому цветку, пусть лишь одно краткое лето.
Потрясенный, Солон наклонился и вгляделся сначала в травинку, затем в побег плюща, далее в крохотный цветок, чья прелесть была непостижима, как и прелесть зеленой козявочки, и его охватил благоговейный трепет. Уж конечно, за всем этим разнообразием, за этой красотой и трагизмом бытия должна стоять Божественная Животворящая Сила, имеющая определенную цель. Иначе как объяснить, что он не поколебался в вере, несмотря на постигшую его трагедию, и никогда не поколеблется?
Мысли его вернулись к Бенишии, и он снова стал молить Творца об ее упокоении.
В другой раз Солон гулял по саду, а сестры наблюдали за ним в окно столовой. Вдруг он остановился, резко повернулся к чему-то, чего они видеть не могли. Девушкам показалось странным, что отец реагирует столь живо: уже давно он был вял и ко всему безучастен. Однако вот он делает три-четыре скорых шага влево, замирает, проходит столько же шагов вперед, снова замирает – и, судя по шевелению губ, с кем-то говорит. Позднее, когда он вернулся, Изобель спросила:
– Папа, что ты такое интересное увидел в траве? Нам с Эттой показалось, что ты с кем-то разговаривал.
– Дочка, – отвечал Солон, – мне нынче открылось о бытии и Господе Боге больше, чем я узнал за всю свою жизнь. Я увидел шумящую гадюку: эти твари неопасны, мне это известно, однако опешил, ибо, будучи напуганными, шумящие гадюки раздуваются и делают выпады, подражая вредоносным и грозным индийским кобрам. Однако я решился заговорить с гадюкой – и заговорил. Я сказал ей, что знаю о ее безобидности, и пусть она ползет своей дорогой – я ее не трону. И змея тотчас сдулась, опустила голову и поползла прочь. Но мне хотелось посмотреть, какова ее длина, и я чуть прошел за ней. Она снова раздула шею и сделала выпад подобно кобре. И я опять вслух заверил ее, что сейчас же прекращу преследование и не стану ей никак мешать. Я действительно вернулся на исходное место и замер: думал, гадюка скроется в траве, она же направилась в мою сторону, причем проползла по мыску моего ботинка.
– Это чудо, папа! – воскликнула Этта.
– Дочка, сегодня я понял, как мало мы знаем о бесконечности, частью которой являемся, а еще мне открылось, что не только люди владеют речью, но ею наделено и всякое творение Господне – просто нам о том неведомо.
– Что-то я не совсем тебя понимаю, папа, – сказала Изобель.
– Я имел в виду, что доброе намерение уже само по себе есть универсальный язык; если мы не желаем зла, нас поймет всякая тварь – поняла ведь меня нынче гадюка, как и я ее понял. Она не хотела нападать на меня – просто испугалась. Я же отнесся к ней не только с добротой, но и с любовью, и она забыла страх, сама вернулась и проползла по моему ботинку. И ныне я благодарю Господа за сие откровение; Господь явил мне, что вездесущ и добр ко всякой твари – то есть к миру, который он создал. Будь иначе, разве гадюка поняла бы меня, а я – ее? Нет, так случилось, потому что мы оба – чада Господни.
– Скажи, папа, ты всегда так воспринимал природу? – спросила Этта.
– Нет, дочка. Еще совсем недавно я думал иначе. Мнил, что многое понимаю, а оказалось, ничего-то я и не смыслю. Господь научил меня смирению; в своем милосердии он явил мне многое, к чему прежде я был слеп, и вот лишь одно из открытий: возлюби всякую тварь Господню.
– Папочка… – начала было Этта, но запнулась, слишком растроганная, чтобы продолжать. Признание явило ей отца обычным человеком.
С помощью дочерей Солон медленно поднялся к себе в спальню.
Увидев, что в отце ожил интерес к саду, лугам и речке, Изобель и Этта задались вопросом, не захочется ли ему снова посещать молитвенные собрания. Сестры решились уточнить, как отец смотрит на поездку в Даклу в ближайший День первый; если он не против, они бы сопровождали его.
Солон же сразу подумал об Этте: атмосфера молитвенных собраний, пожалуй, даст его дочери силы раскаяться полностью, до конца; искупление пойдет ей на пользу. Вдобавок он сам достаточно оправился, чтобы снести любопытство собратьев по вере, да и дочки его поддержат. Словом, Солон согласился.
Разумеется, когда он в сопровождении двух дочерей, в экипаже, которым правил старик Джозеф, подъехал утром Первого дня к молельном дому, среди собравшихся – тех, что стояли на крыльце, и даже тех, что уже расселись внутри, поднялся некий ропот. И тут Осия Горм – старейшина, один из нескольких – встал с места, направился прямо к Солону, взял его за руку и торжественно повел к скамье старейшин, на которую и усадил. Солон несколько смутился, но в то же время преисполнился благодарности к членам общины за этакий почет.
Воцарилась тишина; казалось, сегодня она глубже и насыщеннее, чем обычно. Изо всех собравшихся Солон Барнс менее прочих был настроен говорить, но вдруг сердце его захлестнула благодарность за возвращение Этты, за любовь и заботу двух его дочерей; чувства хлынули через край, ибо поистине безмерно было милосердие Отца Небесного, что призрел Солона в самые темные земные его часы. Солон поднялся и начал:
– Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он[17]17
Ис. 26:3.
[Закрыть].
Еще через несколько недель Солон стал производить впечатление человека, чьи физические и душевные силы восстановились, и страх за него чуть отпустил сестер. Заканчивался август. Этта решила, что просто обязана убедить сестру вернуться в Лувеллин – ведь на пути даже к нынешнему своему скромному положению Изобель, обделенная природой, преодолела немало препятствий, и разве правильно будет, если она не появится в колледже к осеннему семестру? Теперь Этта займется домом, а Изобель, свободная от хлопот по хозяйству, пусть вся отдастся преподавательской деятельности, которая одна, похоже, и скрашивает ее жизнь.
Накануне отъезда Изобель, когда Солон лег спать, сестры долго гуляли в сумерках: за последние месяцы они очень сблизились. По дорожкам над Левер-Крик они шли под руку в молчании, и вдруг Изобель заговорила:
– Видишь ли, Этта, есть еще одна причина для моего возвращения. Я обещала двум своим студенткам, что осенью позанимаюсь с ними дополнительно. Вдобавок… – Изобель запнулась, потом продолжила: – Профессор, под началом которого я работаю, очень на меня рассчитывает, а я очень дорожу его дружбой.
В глазах Этты блеснуло любопытство, и Изобель поспешила пояснить:
– Только не подумай, что у него на меня виды. Никаким личным интересом тут и не пахнет – в смысле он не влюблен, ничего такого. Просто я знаю, что он меня ценит как коллегу – даже поручает читать за него лекции, когда сам занят исследовательской работой. Это очень интересный человек. А как он добр ко мне, как искренне печется о моих профессиональных успехах! Иногда мы вместе прогуливаемся по вечерам. Тебе известно, что друзей у меня – раз-два и обчелся, вот почему мне так необходимы эти прогулки.
Последняя фраза была произнесена с особой интонацией, и Этту пронзила жалость к сестре: Изобель рада и этим крохам участия, в то время как ей самой довелось пройти все стадии любовной связи, восхитительной в своей эмоциональной полноте.
И тотчас Этта устыдилась. Она ведь отлично знала: Изобель терпела пренебрежение не только посторонних мальчиков и девочек, но и родных брата и сестры, к которым природа оказалась куда щедрее. Ни от Орвилла, ни от Доротеи она не видела искреннего внимания, настоящей родственной любви. Даже напротив: именно Доротея была причиной едва ли не самых тяжелых переживаний Изобель. Трижды она оказывалась там же, где училась старшая сестра: сначала в ред-килнской школе, затем в Окволде, наконец, в Лувеллине. Хорошенькая, неотразимо обаятельная, Доротея мигом завоевывала всеобщую симпатию, Изобель же, по контрасту с ней, начинала казаться еще невзрачнее и становилась еще менее желанной в девичьих компаниях, причем сама понимала это отчетливее, нежели кто-либо из окружающих. Что до самой Этты и Стюарта, разница в возрасте между ними и Изобель была слишком велика, вот они и воспринимали старшую сестру как некую неотъемлемую часть домашней обстановки – и только.
Выходило, что лишь теперь Этта доросла до того, чтобы узнать Изобель. Оказалось, ее старшая сестра на редкость деликатна, добра, отзывчива – это стало для Этты настоящим откровением. Как непохожа Изобель хотя бы на ту же Волайду: ей совершенно чужды командирские замашки и напористость, стремление добиться своего любой ценой. Наоборот, Изобель склонна держаться на заднем плане, как будто ее природная чуткость и годы скромного труда ничего не стоят! А чем наградила ее жизнь? В понимании Этты – ничем, ведь возможность всю себя отдавать работе наградой не считается, равно как и способность к самоотречению: сначала ради семьи и занятий, потом ради колледжа и студенток, теперь вот – ради отца. Как несправедливо, что Изобель с ее ангельским характером лишена личного счастья! А все потому, что уродилась некрасивой. Хоть бы ей повстречался хороший человек, который оценил бы ее душевные качества.
– Расскажи-ка мне об этом своем профессоре, – попросила Этта.
– Красавцем его не назовешь, зато он очень умен и деликатен – верно, много повидал в жизни, отсюда и удивительное понимание ее явлений. Он всегда советуется со мной, когда речь идет о его работе, и дорожит моим мнением. А вот в смысле любви и брака, по-моему, я его не интересую. – На этой фразе Изобель на миг помрачнела.
Так, беседуя, сестры приблизились к дому, где уже были погашены все огни, расцеловались и пожелали друг другу доброй ночи. Каждая прошла к себе в комнату, согретая любовью и пониманием. Назавтра Изобель уехала в Лувеллин, а Этта осталась одна с отцом. Она видела, как оживлена и довольна Изобель, да и ей самой давешний разговор придал сил.