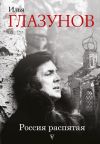Текст книги "100 знаменитых художников XIX-XX вв."
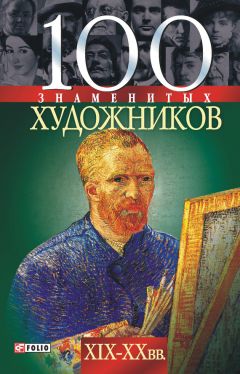
Автор книги: Валентина Скляренко
Жанр: Энциклопедии, Справочники
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 49 (всего у книги 52 страниц)
ЧЮРЛЕНИС МИКАЛОЮС КОНСТАНТИНАС
(род. 22.09.1875 г. – ум. 10.04.1911 г.)

Выдающийся литовский живописец, классик литовской национальной музыки. Создатель оригинальных картин, в которых фантастические видения и литовский фольклор переплетены с музыкальными ритмами.
Микалоюс Константинас Чюрленис, безусловно, относится к числу самых оригинальных и интересных мастеров XX в. В мировой живописи его полотна занимают особое место. Их нельзя трактовать однозначно. Невозможно причислить художника к какому-либо течению в живописи. Одни называли его литературно-психологическим символистом. Другие считали предтечей абстрактного искусства или русского авангардизма. Некоторые видели в его произведениях отражение эзотерических мотивов. В то же время ряд полотен Чюрлениса можно считать вполне реалистическими. Многие из них насквозь пронизаны мотивами литовского народного искусства.
Как художник Чюрленис работал всего несколько лет, с 1903 по 1909 г., и за это короткое время сумел пройти путь от становления до зрелого мастера, которому подражали, которым восхищались.
Константинас родился в Варене, но его детство прошло в одном из самых красивых и поэтичных уголков Литвы – деревне Друскининкай – стране лесов и озер, где несет свои воды Неман. Его мать, простая крестьянка по имени Адель, рассказывала детям сказки и пела народные песни – дайны. Отец, тоже Константинас, учившийся музыке в провинциальном монастыре, был скромным деревенским органистом. Играл он посредственно, но вот педагогом, видимо, был неплохим. Под его руководством мальчик быстро овладел нотной грамотой и уже в семь лет мог свободно читать с листа.
Постепенно Друскининкай становился известным курортом. Дачники из Варшавы, Вильнюса, Москвы и Петербурга с удовольствием слушали игру маленького вундеркинда. Один из них, варшавский врач Ю. Маркевич, в свое время окончивший Московскую консерваторию, решил принять участие в его судьбе. Он порекомендовал Константинаса меценату, князю М. Огинскому, в поместье которого в Плунге была оркестровая школа. Там в тринадцать лет Чюрленис стал учиться играть на флейте и вскоре начал сочинять музыку.
В 1893 г. при поддержке Огинского юноша отправился в Варшаву, чтобы продолжить образование в музыкальном институте у известного преподавателя фортепьянной игры профессора 3. Сигетинского, большого поклонника Шопена. Под его руководством Константинас написал целый ряд музыкальных произведений, которые стали пользоваться популярностью, а некоторые даже были напечатаны в варшавском музыкальном альманахе «Меломан».
В 1899 г. институт был закончен с отличием. Но спокойная и сравнительно обеспеченная жизнь учителя музыки не привлекала юношу. Он с головой ушел в сочинительство и написал большую симфоническую поэму «В лесу», с которой началась история литовской профессиональной музыки.
Стремясь к совершенствованию достигнутого уровня, Чюрленис два года проучился в Лейпцигской консерватории. Здесь, тоскуя по родине, он вдруг начал рисовать, купив на последние деньги кисти и краски. Однако тогда это не пошло дальше любительских набросков.
Осенью 1902 г. Чюрленис вернулся в Варшаву, где некоторое время жил за счет частных уроков. На каникулы он приехал в Друскининкай и именно там, вдохновленный природой родной Литвы, начал серьезно пробовать себя в живописи. Его рисунки этого периода были еще неумелы, но в них уже чувствовалось тонкое понимание природы, любовь к метафорам и обобщениям.
Стремясь воплотить тревожащие его образы на бумаге, будущий художник понял, что этому необходимо серьезно учиться. Уже в конце 1902 г. он поступил в Варшавскую художественную студию, а потом в частную школу живописи и художественных ремесел. Родные и друзья считали, что живопись может помешать музыкальным занятиям и всячески отговаривали Константинаса от этого. Но Чюрленис упорно продолжал осваивать азы живописной грамоты, рисуя гипсы, обнаженную натуру, потом перешел к любимым пейзажам и написал свою первую картину с символическим названием «Музыка леса», где стволы вековых сосен, подобно трубам органа или струнам гигантской арфы, словно звучат под напором ветра.
В эти годы в европейской, а особенно польской живописи, царил символизм. Чюрленис органично примкнул к этому течению. В полном соответствии с известным афоризмом Шопенгауэра о том, что «существует столько различных миров, сколько есть мыслителей», он создал свой собственный мир видений, грез, предчувствий, предостережений, звучащих линий и красок. Уже в первых картинах – «Заколдованный город», «Утро», цикле «Похороны» («Похоронная симфония») возникли образы, представляющие собой «условные знаки, намеки, зыбкие символы голосов подсознательного».
В марте 1904 г. Чюрленис поступил в Варшавскую школу изящных искусств. Большинство ее преподавателей входили в художественное объединение «Штука» («Искусство») и находились под сильным влиянием позднего романтизма и символизма. Они стремились развить у студентов фантазию, чувство декоративности, умение свободно компоновать. Главное внимание уделялось рисунку с обнаженной натуры, работе на пленэре, декоративному рисованию и орнаменту. Все это отвечало стремлениям Чюрлениса.
Помимо живописи его внимание было занято изучением философии, особенно индийской. Он увлекался астрономией, гипнозом. Читал Ветхий Завет, Ницше, Рабиндраната Тагора. А на каникулах в Друскининкае упорно рисовал пленэрные этюды. И все эти впечатления концентрировались в ярких эмоциональных образах, запечатленных на полотнах: тревожный загадочный «Покой», грозный «День», щемящая «Печаль» и др. Позже появляются знаменитые «Дружба» – лучезарная и всепобеждающая, «Истина», потрясающая хрупкостью трепетного стремления к непознанному и безнадежностью познания.
Все чаще художник задумывался над «проклятыми вопросами»: смысл и трагедия жизни, тайна смерти, неотвратимость рока – все это в той или иной степени находило отражение во многих его полотнах, одновременно полных звуками: звоном колоколов («Колокола»), шумом дождя и ветра («Потоп», «Буря»), звучанием струн («Арфисты»). Но наряду с этим из-под кисти Константинаса появились жизнеутверждающий цикл «Сотворение мира» и гимн мирозданию «Знаки Зодиака».
В 1906 г. работы художника произвели фурор на выставке учеников Варшавской школы в Петербурге. О Чюрленисе стали писать как о зрелом самобытном мастере. Он решил оставить Варшавскую школу и перебраться в Литву, чтобы работать самостоятельно. С детства страстно любивший литовское народное творчество, природу Литвы, Чюрленис давно тосковал по родине. Ему казалось, что в Вильнюсе, ставшем в то время центром возрождения народной культуры, он сумеет лучше проявить свои творческие способности.
Вскоре в вильнюсских газетах появилось объявление о том, что молодой музыкант, окончивший Варшавскую и Лейпцигскую консерватории, обучает игре на фортепиано и музыкальной теории. Это давало средства на жизнь, и Константинас с энтузиазмом занялся общественной деятельностью. Он руководил хором общества «Вильняус канклес», собирал народные песни и музыкальные инструменты, выпустил сборник песен для детского хора. Из-под его пера вышел ряд статей, посвященных организации художественных выставок и музыкальных конкурсов, теоретическая работа о литовской музыке. Он выступал за создание в Вильнюсе Народной консерватории и Народного дворца, призванных распространять народную культуру. Был вице-председателем «Литовского художественного общества».
9 января 1907 г. открылась Первая литовская художественная выставка, к организации которой Чюрленис имел прямое отношение. На ней демонстрировались 33 его работы. Увы, соотечественники не поняли их. Картины никто не покупал, а газеты либо обошли их молчанием, либо выступили с критикой «декадента». Это отношение не изменилось и в последующие несколько лет, что, безусловно, не могло не огорчать художника. Однако подстраиваться под вкусы публики он не хотел.
Справиться с депрессией помогли друзья и невеста София Кимантайте, студентка филологического факультета Краковского университета, увлеченная журналистикой. Именно она научила Константинаса литовскому языку (семья Чюрленисов была польскоязычной). Она стала и вдохновительницей лучших его произведений. Чюрленис писал: «Имя ей Зося, а похожа она на весну, на море, на солнце… ты, музыка, тысяча солнц, твои ласки, море, хоры – все сплетено в одну симфонию… Я хотел бы создать симфонию из шума волн, из таинственных речей столетнего леса, из мерцания звезд, из наших песен и бескрайней моей тоски». Именно такими симфониями стали его картины «Фуга», циклы «Солнечная», «Весенняя», «Летняя»; «Морская» и «Звездная» сонаты, в которых основным средством воплощения творческого замысла служит компоновка пластических элементов в целостную живописно-музыкальную систему.
В серии сонатных циклов особняком стоит «Соната ужа», построенная на мифологических образах. Уж, мудрое божество языческой Литвы, выступает здесь хранителем Солнца, Человека, а в конечном итоге («Финал») – всего мироздания.
Сказочные и мифологические элементы постоянно присутствуют в творениях художника. «Сказка», «Сказка о крепости», «Сказка о замке», «Путешествие королевича», «Путешествие королевны» – циклы, повествующие о стремлении к добру, красоте, тяготении мятущейся души к неизведанному, высокому и прекрасному. Как и все остальные картины художника, их можно толковать по-разному. Вот одно из любопытных прочтений «Сказки», сделанное простым крестьянином: «Видишь, люди взбираются на гору искать чудо, думают, что там стоит прекрасная королевна, и кто окажется самым сильным, красивым, умным, того она и выберет. Взошли, а королевны-то и нет, сидит только бедный голый ребятенок – сорвет сейчас пух с одуванчика и заплачет». Автор высказывания, правда, не обратил внимания на «птицу-ужас» из центральной части триптиха, нависшую над ребенком, о которой Саломея Нерис писала: «Страшный вихрь крыльев одуванчик белый сдует. А ребенок все играет. Несказанно прекрасен час земной радости. Летит черный ужас».
Только в редких случаях известно, что же думал о смысле своего произведения сам художник. О «Сказке королей» он говорил: «Пошли два короля в лес. Но ты, братец, не думай, что были то простые короли и что лес тот был простой. Все это сказочно, величественно. Лес такой, что на ветвях деревьев умещаются огромные города с дворцами, пагодами, башнями… В таком-то лесу и гуляют себе эти два короля… Конечно, это великаны… Лес мрачен и темен. Они ходят и ищут. Ищут, откуда в этом темном лесу словно свет струится. И нашли на земле, между могучими темными стволами, маленькую вещицу, излучающую солнечный свет. Один из королей взял ее в ладони, оба смотрят и дивятся. Что бы это такое могло быть? Несмышленыши. Великим королям никогда не понять этого. А ведь это простая, всем нам известная литовская деревня. Она посылает миру сияние самобытной литовской культуры».
Есть в творчестве Чюрлениса и удивительные лирические пейзажи, и пейзажные фантазии, пронизанные тонким поэтическим чувством. София рассказывала: «Константинас жил, погруженный в красоту природы, каждая веточка была объектом его наблюдения. Он, захлебываясь, пил краски цветов…» А сам он писал: «Какая поразительная гармония, которую ничто не может замутить. Все существует как прекрасное сочетание красок, как звучание дивного аккорда».
Триптих «Райгардас» – это конкретный пейзаж окрестностей Друскининкая, полный мечтательной меланхолии, мягкий и декоративный. Но уже в триптихе «Лето» реальные деревья являются материалом для создания обобщенной образной конструкции, создающей неповторимый эффект за счет ритмических повторов и чередования пластических элементов. «Лето» и другие циклы, изображающие времена года, создают не столько реально увиденные художником моменты жизни природы, сколько обобщенные образы лета, зимы, весны, пропущенные через призму его восприятия. «Пейзажами души» часто называют их искусствоведы.
Безудержная фантазия заставляла Чюрлениса вводить в пейзажи сказочные элементы, создающие неповторимый эффект. Так появился «Лес». Тусклый свет вечерних сумерек заставил художника увидеть сосны, оседланные всадниками в коронах, несущимися на неведомый зов, и запечатлеть видение в красках. Этот же принцип введен и в картину «Жемайтийское кладбище». Здесь две гигантские птицы-стражи видятся в вершинах деревьев, нависших над резными деревянными крестами – гордостью народного литовского искусства.
Осенью 1909 г. Чюрленис, стремясь к известности, перебрался в Петербург и сблизился с художниками из объединения «Мир искусства» – Добужинским, Бенуа, Бакстом, Сомовым, Лансере. Новые друзья высоко оценили творчество художника. Его работы демонстрировались на выставках «Союза русских художников». Чюрленис, подобно большинству своих товарищей, увлекся театром. Мечтал написать оперу «Юрате – королева Балтики», выполнил пятиметровый занавес для театра «Рута».
В Петербурге Константинасу пришлось нелегко. Он поселился в маленькой дешевой комнатушке. Жил очень скудно, так как не мог давать уроки музыки – слишком высока была конкуренция со стороны петербургских музыкантов. И все же он продолжал творить. Здесь был создан «Рекс» – одна из самых мрачных картин художника, повествующая о борьбе света и мрака, добра и зла.
1 января 1909 г. состоялась свадьба Константинаса и Софии. Лето этого года они провели в Плунге. В картинах Чюрлениса («Честь восходящему солнцу», «Рай», «Арка Ноя») опять появились жизнеутверждающие мотивы. В его творчестве стало отчетливо проступать увлечение Востоком. Об этом свидетельствуют цикл «Соната пирамид», «Жертвенник». Но нужно было возвращаться в Петербург, с которым теперь были связаны все надежды художника. Здесь он опять недоедал, по собственному признанию работал «24–25 часов в сутки», не высыпался. «Я здесь один, мне очень тоскливо», – писал он жене. Постепенно резервы организма исчерпывались. В творчестве Константинаса все чаще начали звучать мрачные, тревожные ноты («Демон», «Прелюд», «Баллада о черном солнце»). Чюрленис почувствовал приближение сумасшествия. На Рождество, по зову Добужинского, София приехала в Петербург, нашла мужа в состоянии крайнего нервного истощения и срочно перевезла его в Друскининкай. В скором времени, по настоянию врачей, его пришлось поместить в больницу для душевнобольных под Варшавой. Чюрленису запретили рисовать и заниматься музыкой.
Однажды вечером художник ушел в лес в одной больничной одежде, предварительно написав несколько строк жене, поздравив ее с рождением дочери. Результатом стало воспаление легких. Потом последовало кровоизлияние в мозг и скорая смерть. Художника похоронили на кладбище Расу в Вильнюсе.
Комитет «Мира искусства» в составе Добужинского, Бенуа, Браза и Рериха направил в Вильнюс телеграмму с соболезнованием, где Чюрленис был назван гениальным художником. А вильнюсская газета «Людас Гира» писала: «…он не имел себе равных в оригинальности и необыкновенности таланта». В тот же год в Вильнюсе открылась посмертная выставка работ, а в январе 1912 г. такая же выставка состоялась в Петербурге. Потом картины художника экспонировались на Второй международной выставке импрессионистов в Лондоне. Было написано множество статей с хвалебными отзывами о творчестве Чюрлениса. Начался быстрый путь к признанию. И сейчас уже никого не удивят слова известного литовского поэта Э. Межелайтиса: «Чюрленис – это все вместе: и музыка, и краски, и поэзия. Но главное в нем – мысль. Архитектурные чертежи и воздвигнутые по ним ансамбли мысли». Эти слова наиболее точно характеризуют суть творчества великого литовского художника.
ШАГАЛ МАРК
(род. 7.07.1887 г. – ум. 28.03.1985 г.)

Выдающийся французский живописец, график и скульптор, театральный декоратор, большой мастер монументальной живописи, один из основоположников сюрреализма.
Участник многочисленных выставок: в Осеннем салоне (Париж:, 1912 г.), объединений «Мир искусства» и «Ослиный хвост» (Москва, 1912 г.), в Берлине (1914 г.), бъеннале в Венеции (1948 г.), в Лувре (1977 г.) и др.
Обладатель почетных наград: гран-при за офорты к «Мертвым душам» Гоголя (1948 г.), ордена Почетного легиона (1977 г.).
Прозаик и поэт, автор книги «Моя жизнь» (1923 г.).
Искусство этого художника в равной степени считают своим евреи, русские и белорусы. Сам же Шагал до конца своих дней называл себя «русским художником», подчеркивая тем самым свою родную общность с российской живописной традицией. Но как большой, настоящий мастер, он в своем творчестве раздвинул национальные, религиозные и любые другие рамки и по праву стал художником мира. Недаром Андре Бретон называл искусство Шагала «магическим универсумом».
Произведения этого художника неизменно погружают зрителя в мир детства. Невероятные персонажи, например зеленые козы или коровы, у него гуляют где хотят, люди ходят задом наперед, сидят на крышах, летают и переворачиваются вверх ногами, предметы помещаются один в другом и вытворяют еще бог знает что, не поддающееся логике обычного мышления. Это похоже на воплощение детской мечты, бессознательных всплесков фантазии или сновидений. Не зря один из критиков назвал искусство Шагала ночным.
Но такое мироощущение художник сохранял всю жизнь, он был всегда неожиданным и эксцентричным. Шагал вспоминал, как, достигнув 13 лет, он с ужасом представлял себя в морщинах и с черной бородой и рыдал при этом. Что же так пугало мальчишку? В автобиографии Шагала есть одно предложение, отвечающее на этот вопрос: «Никуда не денешься, пора взрослеть и делаться как все».
Щуплый большеголовый мальчик, которому отец из каких-то соображений еще и приписал лишних два года, изо всех сил старался превзойти хоть в чем-нибудь своих сверстников. И его действительно стали называть вундеркиндом, потому что он учился игре на скрипке, пел в синагоге, сочинял стихи и рисовал. Мовша Шагал поочередно мечтал «пойти» в канторы, музыканты, танцоры или поэты, потому что все ему удавалось. Вот только в школе успехи были очень средние. Единственным предметом, на котором он не краснел и не заикался, была геометрия. Ну а на рисовании, как он вспоминал позже, ему «не хватало только трона».
Отец Шагала был грузчиком в рыбной лавке, кормильцем большой семьи, в которой росло девятеро детей. Мать заботилась обо всех, была мастерицей, любительницей поговорить и, наверное, одаренной женщиной, потому что Шагал признавал: «Весь мой талант таился в ней, моей матери, и все, кроме ее ума, передалось мне». Именно она поверила в его художественные задатки и повела в школу живописи и рисунка художника Пэна – единственное подобное учебное заведение в Витебске. Мальчик из бедного еврейского квартала буквально бредил словом «художник». Отец заплатил только за два месяца обучения, а потом Ю. Пэн стал учить юное дарование бесплатно. О роли этого человека в жизни Шагала говорит то, что он ставил своего первого учителя рядом с отцом. Пэн и посоветовал юноше продолжить учебу в Петербурге.
Когда отец об этом услышал, то бросил 27 рублей сыну под ноги, и тот собирал их под столом, глотая слезы. Но все-таки строгий родитель достал ему временное разрешение на жительство в Петербурге (дело в том, что по царскому повелению для евреев существовала черта оседлости), и теперь Мовша Шагал ехал в северную столицу якобы по поручению купца за товаром.
Оказавшись в 1907 г. в Питере, юноша сначала попытался поступить в училище технического рисования барона Штиглица, но провалился. А вот в школе Общества поощрения художеств повезло, его приняли без экзаменов сразу на третий курс, а затем, как успевающему ученику, назначили стипендию. Директором здесь был Николай Рерих. Один из преподавателей, скульптор Гинцбург, ученик Антокольского, академик, пускал молодого человека в свою мастерскую. Другим благодетелем стал адвокат Гольдберг, который взял его к себе в лакеи и таким образом дал крышу над головой и стол. Шагал перепробовал еще несколько учебных заведений, пока не остановился на школе Ε. Н. Званцевой, где преподавал замечательный мастер театрально-декоративного искусства Л. С. Бакст. Это было единственное учебное заведение, которое ориентировалось на новые европейские веяния в искусстве. Разглядывая рисунки Марка Шагала (он поменял свое имя на более звучное), Бакст вынес свой приговор: талант у юноши есть, но испорченный, хотя и не окончательно. А своеобразие этого таланта состояло в том, что он плохо поддавался шлифовке. Через несколько месяцев учебы Шагал понял, что и здесь, как раньше у Пэна, его что-то не устраивало. «Я способен только следовать своему инстинкту», – решил он для себя.
В это время Бакст должен был уезжать в Париж для оформления постановок антрепризы С. Дягилева. Вслед за ним засобирался и Шагал, понимая, что может чему-то научиться только в столице мирового искусства.
До отъезда некоторое время он пожил дома, в Витебске, надеясь выпросить у отца денег. Семья была против дальних странствий, из которых еще не известно что получится. Но не окажись в то время М. Шагал в Париже, он, наверное, «сделался бы как все» – приказчиком, бухгалтером или фотографом.
Четырехлетнее пребывание в Париже стало самым важным в творческом становлении Шагала. Он окунулся в разнообразие новых течений, направлений и школ, постигал классическую живопись в залах Лувра и Люксембургского музея, преклонялся перед Рембрандтом, не раз возвращался к работам Шардена, Фуке, Жерико. Художник был завсегдатаем галерей и салонов, где выставлялись Сезанн, Ван Гог, Матисс, Гоген, посещал литературные и художественные салоны, участвовал в спорах, пытался разобраться в искусстве и найти в нем свое место. В конце концов, Шагал определился: «Долой натурализм, импрессионизм и кубо-реализм!.. Куда мы идем? Что за эпоха, прославляющая технику и преклоняющаяся перед формализмом? Да здравствует безумие!.. Мое искусство не рассуждает, оно – расплавленный свинец, лазурь души, изливающаяся на холст». Хотя теоретики искусства упорно причисляют Шагала к сюрреалистам, сам художник, будучи уже известным и умудренным, сказал: «Направления – это скорее теоретические понятия, я не считаю себя принадлежащим ни к какому направлению. Мое дело – краска, чистота, любовь… Но это не направление, а убеждение». И это убеждение сформировалось у него уже в ранние годы.
М. Шагал много путешествовал по Франции, изучал страну, поддерживал дружеские отношения с Пикассо, Матиссом, Боннаром, Элюаром и другими художниками и поэтами, ставшими гордостью французского искусства. Жил он тогда в «Улье» – общежитии художников, где располагались десятки маленьких художественных мастерских, часто голодал, не имел денег на холсты, бывало, что рвал и натягивал на подрамники постельное белье. В периоды хронического безденежья Марк в дуэте с Ф. Леже давал концерты на улицах Парижа. Картина была незабываемой: Шагал пел еврейские песни, а Леже аккомпанировал ему… на лютне. Но, несмотря на нужду и тоску по родине, молодой художник работал с упоением, выставлял свои картины в салонах и пытался продавать, но их покупали разве что оптом и по дешевке. Чаще же он их раздаривал, и уезжали работы раннего Шагала в Амстердам, Брюссель, Берлин. Среди картин этого периода наиболее характерные «Я и моя деревня» (1911 г.), «Скрипач», «Поклонение Аполлинеру», «Россия. Ослам и другим» (1911–1912 гг.), «Автопортрет с семью пальцами», «Голгофа» (1912 г.), «Молящийся еврей» (1913 г.), в которых уже проявился стиль Шагала, один из самых ярких в авангардной живописи начала XX века.
Но тогда ни он, ни кто-либо другой не могли предсказать его взлет. Марк чувствовал себя нищим, безродным евреем, чужим почти для всех, за исключением Аполлинера и нескольких поэтов его круга, а также издателя Канудо, который в 1913 г. организовал в редакции своего журнала выставку работ Шагала и назвал его самым блестящим колористом среди живописцев авангарда.
Через год художник собрал почти все свои работы, выполненные во Франции, и поехал в Берлин устраивать первую персональную выставку в редакции журнала «Дер Штурм», организованную издателем Вальденом. Она произвела фурор. Особенный отклик вызвала живопись Шагала у молодых немецких художников, а уже после войны она дала толчок развитию экспрессионизма.
Впитав и переосмыслив все, чем одарил его Париж, М. Шагал обрел свой стиль, который отличался, прежде всего, религиозностью и национальной окрашенностью. Сочный еврейский колорит образов и глубокое осмысление их в контексте ирреального, сверхъестественного существования породили и совершенно невероятную композицию картин, и немыслимые цветовые сочетания, и взрыв устоявшихся представлений о живописи.
Теперь художник мог собой гордиться. Поэтому решил съездить на родину, на свадьбу сестры и на свидание с любимой – Беллой Розенфельд. Их знакомство состоялось еще до Парижа, отношения были чисты и возвышенны. Девушка провожала его за границу, потом писала письма. Любопытно, что он с первого взгляда почувствовал притяжение ее глаз, теплоту души и… понял, что это его жена. Расстояние несколько стерло остроту этого чувства, но теперь, оказавшись рядом, Шагал решил, что эта девушка предназначена ему судьбой. Пусть она дочь богатого ювелира и не ровня ему, но ведь он художник!
Шагал был по-настоящему счастлив. Потому что познал любовь, потому что не ошибся в Белле. С этого времени тема любви станет одной из ведущих в его творчестве. И даже одна из последних картин художника, написанная в 1983 г., будет называться «Двое влюбленных на красном фоне». Белла имела не только привлекательную внешность, она получила хорошее образование, изучала языки (в совершенстве знала французский, что очень пригодилось позже), увлекалась философией, любила творчество Достоевского, обладала литературным даром, обучалась в одной из театральных студий Станиславского. Ей было что дать Шагалу. Она сразу же оценила талант будущего супруга. А он воспевал ее в своих картинах, посвящал ей свои стихи и даже поэму под названием «Жена», а в воспоминаниях слово «Она» – писал с большой буквы. Их любовь – это редкое совпадение миров двух людей.
Счастье молодоженов прервала война. Шагал лишился загранпаспорта и ожидал призыва в армию. Правда, ему удалось устроиться не в окопы, а в Петроградское военное бюро и воевать с бумажками. Когда же армия Вильгельма стала одерживать победы, а русские солдаты разбегаться с лозунгами о свободе и революции, Шагал тоже дезертировал. Разобраться в происходящем ему было трудно. Дума, Временное правительство, Керенский, Учредительное собрание, Маркс и Ленин – все это было где-то рядом, но художник жил прежде всего творчеством. В 1914–1915 гг. его картины фиксировали события, он даже именовал их документами. Неожиданно его выдвинули от молодежи в новое министерство искусств. Через некоторое время Шагал едет в Кремль к Луначарскому и получает от него мандат комиссара по делам изобразительных искусств в Витебске. Мудрая Белла сказала тогда: «Все кончится провалом и обидой». И оказалась права.
Но М. Шагал с энтузиазмом взялся за работу. Организовал в родном городе Школу искусств для детей бедноты, успел даже выпустить несколько десятков художников, открыл мастерскую и художественный музей. Дважды он вместе с учениками оформлял город к празднованию годовщин Октябрьской революции. По его приглашению в школе работали Пэн, Малевич и другие живописцы из «левых». В этот период художник создает ряд полотен («Над городом», 1914–1918 гг.; «Венчание», «Прогулка», обе в 1918 г.), ставших вершинами его творчества.
Но ученики и соратники во главе с К. Малевичем скоро остыли к идее, предали своего друга и директора. Они организовали настоящую травлю М. Шагала и таки добились его изгнания. Имущество школы и музея было растащено. Административная и педагогическая деятельность, которая не оставляла художнику времени для творчества, потерпела крах. Но все, что оставалось из прежних работ, спасла и сохранила верная Белла. Она одна осталась рядом с супругом. Хотя нет, ко времени переезда в Москву у них уже родилась дочь Ида. Втроем в 1920 г. они поселились в подмосковном поселке Малаховка.
М. Шагалу предложили работу в открывшемся Еврейском камерном театре под руководством А. Грановского. И художник снова с головой ушел в дела. Кроме костюмов и декораций для спектаклей, он за полтора месяца выполнил семь панно для фойе и зрительного зала, а также занавес. Это были поистине монументальные работы, которые, к сожалению, прослужили недолго (в 30-е гг. их сняли), но дали возможность художнику «размахнуться» в новом виде живописи и ощутить свои силы.
В этот период художник дружил с Эфросом и Михоэлсом, познакомился с Мейерхольдом, Вахтанговым и Таировым, встречался с Маяковским, увлекался Блоком и Есениным. Однако многое из того, что они создавали, как известно, не вписалось в рамки «пролетарского» искусства. Творчество Шагала тоже отказывались понимать и принимать. Он оказался невостребованным. Несколько месяцев художнику пришлось работать в колонии для беспризорных в Малаховке. И все чаще мыслями он летел в Париж, где в его мастерской было много неоконченных работ, а также в Берлин, где он оставил свою выставку. В 1922 г. Шагал решил покинуть неласковую родину навсегда, с надеждой, что, может быть, вслед за Европой его полюбит и Россия.
С тех пор он стал жить, как герои его полотен, – с лицом, повернутым назад. Тысячу раз возвращался художник воспоминаниями в родной Витебск и надеялся на встречу с ним. По этой причине он не принимал французское гражданство до 1938 г. На чужбине М. Шагал долго чувствовал себя «деревом, вырванным с корнями и повисшим в воздухе». А выжил он только потому, что никогда не порывал духовной связи с родиной. Все, что происходило в жизни Марка Шагала после 1922 г., долго не было известно в нашей стране. О нем почти забыли, а его произведения находились в «спецхране». То, что он создавал отныне, уже не принадлежало России.
Один год художник прожил в Берлине, где занялся гравюрой, изучил новые техники и создал 20 офортов к книге «Моя жизнь» (она была издана на французском языке в Париже в 1931 г.). В 1923 г. по приглашению французского галерейщика Воллара Шагал переехал в Париж и в течение нескольких лет работал по его заказам. В 1931 г. он совершил путешествие по Сирии и Палестине, набираясь впечатлений для новой работы, заказанной Волларом, – иллюстраций к Библии. Его полотна со временем были выставлены в центре Парижа, в здании Культурного центра имени Ж. Помпиду, среди произведений русских живописцев.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.