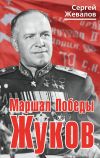Текст книги "Большая жизнь"
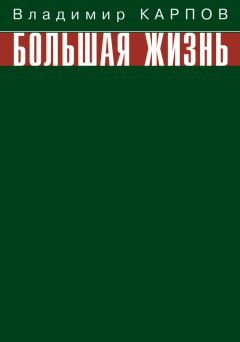
Автор книги: Владимир Карпов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 101 страниц) [доступный отрывок для чтения: 33 страниц]
Овечкин избегал шикарных угощений председателя Хвана. В колхозе была великолепная столовая (дай бог многим ресторанам так вкусно и разнообразно готовить! Не говорю уже о неброской, но с большим вкусом отделке этого «пищеблока»). Вот сюда мы и приходили. От разнообразия меню и вкусно приготовленных блюд у меня и возникло слово – «шикарный». Ничего специально приготовленного, все то же самое могут заказать колхозники, которые сегодня решили не готовить дома обед и ужин.
Иногда мы рыбачили. Овечкин ловил без энтузиазма, снимал рыбину с крючка и бросал назад в водоем, уж очень много было у Хвана рыбы.
Вот так, спокойно походив по городку, полям, подсобным производствам, Овечкин, утомленный и какой-то безразличный, возвращался домой. Я удивлялся – зачем ему эта пустая трата времени! Но пройдет неделя – он мне звонит:
– Владимир Васильевич, приходи, поедем к Хвану.
И только позднее мне стало известно, как он кипел, горел, «бешено радовался», захваченный новой темой. Вот что он писал Твардовскому, тогда главному редактору «Нового мира»:
«Дорогой Александр Трифонович!
Теперь, когда дом мой не пуст, есть на кого оставлять квартиру, я буду чаще и на более продолжительный срок выезжать в “Политотдел”. Да, я не отступлюсь от своего намерения написать об этом колхозе. Рассказ о “Политотделе” переплетается и с моими воспоминаниями о нашей коммуне, где я председательствовал, о первых шагах колхозного движения. Я чувствую возможность все это очень органично соединить, слить. Именно слить, а не склеить. Тема просторная, о многом можно высказаться! Наблюдая сегодня “Политотдел” (по моему убеждению – лучший колхоз в Советском Союзе), и бешено радуешься торжеству идеи коллективизации, и бешено злишься (радуешься, так сказать, матерно) – почему не везде так? Ведь это же доступно всем! Это все сделано, нажито своими руками, собственным горбом, на совершенно бесплодной до колхоза земле – на болотах, которые прежде чем превратить их в орошаемые поля, сначала пришлось осушать. Колхоз “Политотдел” – это тот идеал, который мерещился нам, первым голодным коммунарам, в Приазовье, когда мы зачинали свою нищую (в то время) коммуну. И я думаю, что если бы я не ударился в эту дурацкую литературу и вернулся в свою бывшую коммуналку (сейчас – колхоз) хотя бы сразу после войны, и меня избрали бы там опять председателем – и наш колхоз ничем не уступал бы “Политотделу”. Не пришлось бы ехать за тридевять земель любоваться этим красавцем колхозом – у себя дома достигли бы такого же идеала…»
К сожалению, дружба наша продолжалась недолго, через несколько лет, 27 января 1968 года, Овечкин скончался.
Я был у него накануне, мы побеседовали в этот вечер дольше обычного. Я несколько раз пытался уйти:
– Поздно. Вам пора отдыхать.
– Посиди. Поговорим.
А говорили мы с ним о многом. Ах, какой же он мудрый был человек! Как тонко уже тогда он видел и понимал многое из того, что позднее привело к крушению нашу великую державу. Как он любил ее! Как он искренне желал соотечественникам счастья. Он знал, что надо бы делать, как остановить беду, к которой вели страну партийные склеротики в Политбюро.
– Пойду, – настаивал я где-то уже заполночь. А он звал сына:
– Валерий, иди, чокнись с дядей Володей (сам он уже не пил).
Приходил Валерий, тот, который когда-то служил в моей дивизии на Кушке сержантом, снисходительно улыбался нам, «старичкам», чокался и опять уходил, чтобы не мешать нашему разговору.
Наконец Валентин Владимирович пошел меня провожать. Может быть, я теперь, после случившейся беды, придаю особое значение каждому сказанному в тот вечер слову и даже жесту. Сегодня мне кажется, что Овечкин, держа меня под руку, как-то особенно поглаживал мою руку. Был он необычайно нежен, и даже ласков (что с ним случалось очень редко).
Неужели он предчувствовал, что это наша последняя встреча? Мистика? Возможно…
В 6 часов утра меня разбудил необыкновенно громкий и тревожный звонок телефона. Растерянный, захлебывающийся слезами голос Екатерины Владимировны простонал:
– Владимир Васильевич, Валя только что умер… приезжайте.
Опускаю печальные подробности похорон. Скажу только опять о Рашидове – все расходы, неизбежные при такой беде, были за государственный счет.
Выше я уже сказал, что дружба с Овечкиным была очень значительным событием в моей литературной биографии.
Каждый раз, вспоминая Валентина Владимировича, ощущаю теплое прикосновение его руки в тот последний прощальный вечер. Я несу в себе это тепло всю жизнь. Оно согревает меня в самые трудные горькие дни. которых у меня, как у каждого пишущего, было немало. Читая его строки, я радуюсь и благодарю судьбу за то, что подарила мне встречу с таким необыкновенным человеком. Охватывает и гложет сожаление, что так рано он ушел из жизни, какие прекрасные книги он бы еще написал! Я проклинаю жестокого, безграмотного Хрущева и тех шавок, которые по его команде затравили талантливейшего русского писателя.
* * *
Но были у меня в Ташкенте не только огорчения, ожидала радость: меня пригласил Камиль Яшен и сказал:
– Вот вам ключи, занимайте четырехкомнатную квартиру в доме, который подарили писателям московские строители.
Не верил своим ушам и глазам – девятиэтажный красавец дом стоял в центре города на улице Пушкина. Квартиры распределили именитым писателям, в их числе оказались мои друзья Слава Костыр, Олег Сидельников, остальные дали узбекским писателям: Хамиду Гуляму, Назиру Сафарову, Мармухсину, Рамазу Бабаджану и другим.
Квартира на шестом этаже, отделанная под ключ, была шикарная: четыре комнаты, просторная кухня, раздельный санузел, две лоджии.
Мы с Женей распределили так: самая большая комната – гостиная, другие, поменьше – мой кабинет, затем спальня и детская.
Жизнь складывалась как в счастливой сказке.
Сидельников поселился выше меня на седьмом этаже. Он позвонил мне в первый же день и пригласил:
– Приходи, шабер, посмотри, как я обставил квартиру.
Я поднялся к нему. Все комнаты были пустые, как и у меня:
– Где же мебель, Олег? – спросил я.
Он открыл дверь в туалет и показал на круг на стульчаке:
– Вот, целую комнату отмебелировал.
Хохмил, как всегда. Посмеялись, поговорили, и я вернулся в свою квартиру.
Купили мы с Женей недорогой гарнитур для гостиной – сервант, полированный стол, шесть стульев, тумбочку под телевизор. Приобрели и спальню – две кровати с тумбочками для светильников. Оборудовали кухню. В общем, сделали все необходимое: живи, наслаждайся!
Но не успели мы перевезти одежду из дома в Луначарском, как раздался звонок из горкома:
– Вас просит зайти секретарь горкома Абдуллаева.
Зачем я ей понадобился? Поехал незамедлительно. Недолго посидел в приемной, пока Абдуллаева освободилась от очередного визитера. Ждал и все время гадал, зачем она меня вызвала?
Кабинет секретаря просторный, с хорошей полированной мебелью, с красными «кремлевскими» дорожками на полу и нежными голубыми шторами на больших окнах.
Абдуллаева, располневшая, молодая, красивая, со строгим официальным взором, сидела за широким письменным столом, уставленным телефонами и письменными приборами.
Не сказав даже «здравствуйте» и не предлагая сесть, ошарашила:
– На вас поступила жалоба: вы, пользуясь своим геройством, повели себя нескромно, самовольно заняли четырехкомнатную квартиру.
Я онемел, некоторое время не мог прийти в себя, даже голос потерял. Прокашлявшись, сказал:
– Мне ключи дал председатель Союза писателей Яшен. Не только мне, но и другим писателям.
– У вас ордер на квартиру есть?
– Нет. Яшен сказал: «Вселяйтесь, ордер потом оформим».
– Вот видите, ордера нет, а вы квартиру заняли. Придется освободить.
Она не сказала: «Надо оформить», а именно «освободить». Я потерял рассудок, не знал, как поступать, но оскорбление было таким грубым и неожиданным, что я коротко ответил:
– Хорошо, освобожу немедленно.
Повернулся и вышел из кабинета. Счастье рухнуло в одночасье! На улице остановил первую попавшуюся грузовую машину, пообещал водителю хорошо заплатить и поехал к новому дому. В кузове оказались двое рабочих. Я пригласил их в свою квартиру и сказал:
– Выносите мебель, грузите в машину, я заплачу.
Женя не понимала, что происходит, молча, не веря своим глазам, глядела на происходящее.
Я успел перевезти первым рейсом в Луначарское все, что мог.
Возвратившись в город, хотел грузить мебель из спальни, присел на кровать передохнуть. И вдруг кровать стала дыбом и ударила меня по голове. Я не успел понять, что происходит, – оказывается, не кровать встала дыбом, а я упал и потерял сознание. Меня сшиб сердечный приступ или инсульт.
Женя погрузку мебели прекратила, вызвала «скорую помощь» и позвонила Михаилу Ивановичу Косых, помощнику Рашидова.
Врачи сделали мне уколы и заспорили, куда меня везти. В это время позвонил Косых, узнать, что же случилось. Он велел везти в правительственный стационар в Луначарское. Меня вынесли на носилках. Мне показалось, что я лежал без сознания недолго. Открыл глаза, сдвинул какой-то колпак над моим лицом, увидел Женю, она сидела около моей кровати и молвила:
– Ну вот, наконец-то мы проснулись!
Оказывается, я пролежал без сознания, под кислородной маской трое суток.
Болезнь моя называлась красиво: синдром Миньера, как пирожное эклер. Приступ случился на нервной почве. Я потерял равновесие, все вокруг меня качалось, как в шторм на корабле. Врачи называли это состояние: «Падающий лист».
Пролежал около месяца, навещали друзья, успокаивали. Особенно Назир Сафаров:
– Не уезжайте, Владимир Васильевич, мы все поправим. Это подстроил Рамз Бабаджан. Мне рассказал шофер: когда Рамз вез список писателей в горисполком для утверждения, эта сволочь Бабаджан вычеркнул вас в списке прямо в машине.
Звонил и Яшен. Извинялся.
Но в квартиру я больше не вошел. Женя вывозила остатки мебели сама. Я решил – после такого оскорбления уеду в Москву.
Правильно говорят – пришла беда, отворяй ворота. Горе в одиночку не приходит.

Прощание с Ташкентом. Надевает халат Назир Сааров
После того как я вышел из больницы, вскоре у мамы произошел инфаркт. Однако маму спасти не удалось, ее не успели довезти до больницы, она скончалась в нашем новом доме 3 ноября 1971 года. После похорон мамы меня уже вообще ничто не удерживало в Ташкенте. Стали мы готовиться к переезду. Нашли покупателей и продали дом, машину. Я съездил в Москву, купил в пригороде, в Матвеевской, кооперативную квартиру из двух комнат.
Шел июль 1972 года. Меня уговаривали не уезжать, просили занять проклятую квартиру в городском доме, но я твердо настоял на своем – уеду!
Тогда уговорили отметить мое пятидесятилетие 28 июля и по-хорошему, с почетом отправить в столицу. Я согласился.
Устроили в доме прощальный обед, пришли гости – русские и узбекские писатели. Еще и еще уговаривали остаться, не уезжать. Но обида была столь велика, что я не изменил своего решения. На следующей неделе мы отправились поездом. На вокзал пришли провожать друзья-писатели. Принесли много еды и фруктов – путь долгий, поезд тогда шел до Москвы четверо суток. Надели на меня на прощание узбекский халат, чтобы я не забывал свою вторую родину. Я и не забывал, навещал, там осталась могила моей мамы.
Поездки в Переделкино
Впервые я услышал о литературном поселке Переделкино в 1960 году, в городе Кизил-Арвате, который находится в 140 километрах от Ашхабада, в глубь пустыни Кара-Кум. Там стоял механизированный полк, которым я командовал. Место гиблое, жара 50–60 °C, вода привозная, деревьев нет, на улицах песчаные барханы, как зимой в России снежные сугробы. И заносы такие же. Два-три раза в месяц налетает песчаная буря «Афганец». Все заволакивает желтое марево песка и пыли, взвихренных с земли в небо. Движение автомашин прекращается: свет фар не пробивает пылевую завесу. Люди скрываются в домах, занавешивая закрытые окна еще и простынями или одеялами.
Воду привозит автоцистерна ночью: первый рейс – для солдат сварить пищу, умыться, второй рейс – утром для семей. Жены не в силах стоять на жаре в очереди, они выстраивают на площади свои ведра, бидоны, канистры и наблюдают из окон, когда подойдет водовозка.
Не знаю, собирался ли нападать на нашу страну Иран, но полк стоял для прикрытия границы, за пограничниками. Чтобы в случае нападения принять на себя первый улар и дать возможность развернуться в глубине главным силам.
Офицеры об этом гарнизоне говорили: «Бог создал небо и землю, а дьявол ад и Кизил-Арват».
Вот в этом Богом забытом захолустье я услышал о райской обители Переделкино.
Случилось это так. Приехал в наш гарнизон, за материалом для очерка, известный в Средней Азии писатель Борис Пармузин. Он остановился в гарнизонной гостинице с общим коридором и общими необходимыми местами. Собрав материал, Пармузин решил перед отъездом со мной познакомиться, для чего пригласил меня в гостиницу на «рюмку чая». Он знал, что я не чуждый литературе человек, у меня уже было опубликовано (даже в Москве!) несколько рассказов и повестей.
Борис «накрыл стол» в своей комнате: выставил все возможности военторговской столовой и буфета: поллитровку окружали засохшие еще в буфете бутерброды с колбасой и сыром. Главным блюдом был синенький трупик цыпленка. Посмотрев на все это, я сказал:
– Боря, ты сделал все, что мог. Я оценил. А теперь пойдем ко мне, все-таки я абориген, у меня еще кое-что найдется.
Мы пришли в мой финский домик (какой-то идиот додумался в таком пекле ставить эти душегубки, пересохшие до предела, они скрипели и кряхтели, когда мы в них двигались).
Познакомившись с моей женой Женечкой, Пармузин после общих тем, которых касаются для приличия воспитанные люди: погода, жара, здоровье, детишки, как у вас уютно, стал рассказывать:
– Побывал я недавно в Переделкино, в Доме творчества.
– А что это такое?
И тут Боря зачаровал нас рассказом о сказочном городке, где ходят живые классики, точно такие, какими мы их знаем по фотоснимкам в газетах или видим в кинохронике (телевизоров у нас не было). Боря сыпал такими именами, что у меня голова кружилась от светлой зависти к этому живому писателю, который запросто разговаривал с Катаевым, Симоновым, Сурковым и многими другими.
Вот в тот вечер и запала мечта побывать в Переделкино. Однако в те годы для меня это было непросто.
В годы работы в Ташкенте (с 1965 по 1972 г.) я не раз бывал в Переделкино по путевкам Литфонда. Во время этих заездов познакомился со многими такими же, как я, приезжими в Переделкино. Что касается постоянных жителей писательского городка, то мы их иногда видели во время прогулок. Приближаться к классикам (Леонову, Катаеву, Симонову и др.), вступать с ними в разговоры считалось неприличным.
Мариэтта Шагинян
В один из приездов моей соседкой за столом в столовой оказалась Мариэтта Сергеевна Шагинян. Как говорят литературоведы – маститая писательница. Начинала как поэтесса: в 1909 году первый сборник стихов – «Первые встречи», в 1913 – второй, «Orientalia». Это сборники, а отдельные публикации шли еще в 1903 году. Начинала она одновременно с Мариной Цветаевой и Анной Ахматовой, некоторые критики ее стихи ставили выше тех позднее именитых современниц. Большую роль в ее судьбе сыграла дружба с Рахманиновым. Пять лет она с ним переписывалась. Великий музыкант дорого ценил эту эпистолярную связь: «Кроме своих детей, музыки и цветов, я люблю еще Вас, Ваши письма… в них я нахожу тот бальзам, которым лечу свои раны…»
В 1926 году вышли почти одновременно два романа – «Своя судьба» и «Перемена», они принесли Шагинян известность. Но особенно стала популярной «Гидроцентраль», одна из первых классических книг индустриальной литературы. Сотни очерков складывались в книги. Каждый из них вызывал бурную реакцию в печати и обществе. И, наконец, нашумевший цикл очерков-исследований о Ленине.

Мариэтта Сергеевна Шагинян
Вот такая именитая и знаменитая писательница оказалась моей соседкой за столом.
Старая, седая, сгорбленная, со слуховым аппаратом, очками с толстенными стеклами, она, наряду с этим, была очень энергичной, активной и разговорчивой. Расспросив меня, кто я, откуда приехал, о чем пишу, Мариэтта Сергеевна рассказала и о себе. Она была в числе первых поселенцев городка. Жила на даче вместе с сестрой. Но когда сестра умерла, Мариэтта Сергеевна не смогла оставаться на этой даче, все здесь напоминало о постигшем горе, мешало работать. Шагинян ушла из этой обители, вернула ее Литфонду и несколько лет (в том числе и когда я с ней познакомился в 1970 году) она работала в Доме творчества.
В следующие мои приезды Шагинян уже приглашала меня в столовой за свой стол. Так было в течение нескольких лет. Она мне дарила свои книги, я ей свои. Мы подружились, несмотря на разницу в возрасте и положение в литературной среде.
В перерывах между встречами мы обменивались письмами. Для Шагинян честные творческие отношения были на первом месте. Привожу выдержку из ее письма, в котором она довольно строго отчитала меня за огрехи:
«1/III 71.
Дорогой Владимир Васильевич!
Из Москвы 23.02 я дала Вам телеграмму по адресу, имевшемуся в справочнике писателей. Записанный Ваш адрес остался у меня в Переделкино, но я была уверена, что даже если адрес устарел – телеграф такого человека, как Вы, найдет. Дорогой Владимир Васильевич, книгу Вашу наконец прочитала. Хочу написать Вам совершенно откровенно мое мнение: там, где идет речь о быте армии, о буднях (первая половина книги, где дана «экспозиция» сюжета) – все у Вас прекрасно, язык крепкий, лаконичный, выразительный. Но вот – свадьба, любовь, счастливая развязка, – и появляется литературная слащавость, банальность. Ложка дегтя может испортить бочку меда. Не знаю, откуда, почему появляются у Вас, серьезного писателя, такие срывы. Я читала, правда, очень больная и усталая, у меня был острейший припадок спинделеза и м. б. впечатления мои омрачены извечным моим состоянием. Тогда – прошу прощения! Но я так уважаю Вас и мне так понравились первые две Ваши книжки, «Жили-были разведчики» и маленькая – рассказы о солдатах, что я не хочу и не могу не поделиться с Вами своим впечатлением.
Пожалуйста, не сердитесь на меня!
Посылаю это письмо уже по тому адресу, который записала в Переделкино. Боюсь, что уложат меня, рабу Божию, в больницу, а оттуда выбраться в 83 года не так-то будет легко. Поэтому хочу удрать из Москвы хотя бы на ближайшие 2 месяца в Ялту. Шлю Вам горячий привет. Я еще буду с 9-го марта до 27-го в Переделкино, если не слягу окончательно.
Зима у нас паршивая, то холодно без снега, то падает снег и распутица, страшное нездоровое потепление. Нервы у всех напряжены перед Съездом партии и надвигающимся нашим собственным съездом.
Будьте здоровы и счастливо работайте серьезно и не увлекайтесь легким успехом!
Искренне уважающая вас
Мариэтта Шагинян».
Следующая наша встреча произошла в Доме творчества Дубулты, под Ригой. Каждый вечер мы гуляли вдвоем, переговорили о многом. Однажды Мариэтта Сергеевна спросила:
– Как вы относитесь к музыке?
Я не мог врать пожилой интеллигентной женщине, честно признался:
– Общедоступную, легкую слушаю с удовольствием. Чайковского люблю. А вот посложнее, классику, не понимаю, не доходит она до меня, а точнее, я до нее не дорос.
– Это нехорошо, писатель, даже не обладая музыкальным слухом, должен разбираться в музыке, знать теорию, слушать хорошее исполнение. Я возьму над вами шефство. В Прибалтику приехал хороший симфонический оркестр Московской филармонии, дирижируют Юрий Смирнов и Максим Шостакович. Будем ходить на концерты. Стану вас просвещать. Сегодня пойдем на первый концерт (это было 18 июля 1971 года).
– Тогда я схожу за билетами?
Она с иронией сказала:
– Достаточно вам той неприятности, что вы с такой старухой будете ходить в театр. В восемнадцать тридцать встречаемся здесь, в вестибюле.
– Может быть, я закажу такси?
– Никаких такси, пойдем пешком туда и обратно.
В этот приезд М.С. подарила мне свою новую книгу «Иозеф Мысливечек» с надписью:
«Дорогим друзьям Жене и Владимиру Васильевичу Карповым и ребятам их. Когда вырастут, чтоб любили лучший язык всего человечества – музыку.
Мариэтта Шагинян. Дубулты 31/VII 1971 года».
Книга эта очень своеобразная, и о ней пойдет особый разговор. Позволю себе для краткости и чтобы было понятнее происходившее, привести копию моего письма к М.С., которая у меня сохранилась благодаря тому, что я научился печатать на машинке.
«Ташкент, 22.10.
Дорогая Мариэтта Сергеевна, здравствуйте!
Купил в Москве новую машинку «Эрика» и вот, чтобы Вам легче читалось, печатаю сам, печатник из меня пока неважный, поэтому за все огрехи извините.
Наконец-то я дома! Четыре месяца бродил по свету: Дания, Англия, Франция, Испания, Италия, Турция, затем Рига, Архангельское под Москвой, Москва и вот, наконец, Ташкент. Но увы! – не сам Ташкент, а больница под Ташкентом.
Теперь по порядку. (Этому я у Вас в “Мысливечеке” научился: сначала заинтриговать, а потом рассказывать по порядку один какой-то эпизод.)
После того, когда мы расстались в Риге, я поехал работать в санаторий Архангельское под Москвой. Где благополучно писал дней десять и все эти дни переносил отчаянные боли, которые мне причинял осколок на позвоночнике. Он засел там еще с войны. В Риге я, видно, простудился в холодном море, и вот вздулась шишка с кулак. В общем, врачи, когда увидели, перепугались и немедленно увезли меня в госпиталь, где так же без малейшего промедления мне сделали операцию. Когда я легкомысленно спросил, почему они так все пугаются? Мне ответили:
– Вот если бы гной по сосудам позвоночника ударил вам в голову, то вам пугаться вовсе не пришлось бы!
Все обошлось благополучно, если не считать десяти дней, которые я лежал с открытой раной и дренажом в спине, пока из нее выпускали всякую дрянь.
Едва мне разрешили ходить, я еще полмесяца обходил все возможные “инстанции”, добиваясь разрешения на прописку в Москве. (Забегая вперед, скажу: уже вступил в кооператив, и, если все пойдет благополучно, мы в конце 72 года станем соседями!)
Вернулся в Ташкент. И через несколько дней: «скорая помощь», паника в доме и, пожалуйста, диагноз – модная болезнь века – инфаркт! Не шевелиться! Не напрягаться и т. д.
В больнице я не только не умер, а пришел к твердому убеждению, что заниматься таким грустным делом ни к чему, да и некогда! Что меня спасло и помогло прийти к такому суждению? Ваш “Мысливечек”! Все эти дни я читал книгу, которую Вы подарили. В постели читал. Признаюсь, Мариэтта Сергеевна, честно; если бы она не была Вашим подарком, да не стояло бы Ваше имя на обложке, а просто увидел бы я такую книгу в магазине, ни за что не купил бы ее. Подумал бы: кто этот Мысливечек? Что за дядька в парике? Какие-то готические дома на обложке, ноты в тексте. Нет, вся эта премудрость не по мне. Современные книги читать некогда, где уж лезть в историю, да еще в историю музыки!
Вот так примерно должен был я думать. Но… в биографии моей летом 1971 года произошло очень важное событие. Я прослушал семь симфонических концертов и не просто прослушал, а имел счастье получить разъяснения до и после концертов обо всем, что слушал и как это следует понимать. А наставник у меня был такой знаток, что я при полной своей музыкальной безграмотности все же многое усвоил. Еще раз искренно и от всей души благодарю Вас, Мариэтта Сергеевна, за просвещение, а судьбу за то, что она так удачно свела в Риге – Вас, лучший оркестр, лучших дирижеров, исполнителей и меня, грешного.
Получив такое образование, я теперь уже не смог отложить книгу с нотами в тексте. Нет, я не переоцениваю свои знания, но все же я не тот абсолютно темный человек, каким был долгие годы, теперь и для меня приоткрылась новая интересная, неведомая прежде область искусства. В общем, я стал внимательно читать «Мысливечка», помня и Ваши слова о том, что эта книга поможет мне узнать еще многое в области музыки.
И вот, чем дальше я читал, тем горячее становилась моя кровь, тем быстрее она бегала по жилам. Какой инфаркт? Какая, к черту, смерть, когда на свете совершаются такие чудеса, как эта книга! Не могу я умирать! Не хочу болеть! Я во что бы то ни стало должен попробовать, испытать, применить то, чему я научился в этой книге. Нет, Мариэтта Сергеевна, теперь я говорю не о музыке, конечно. Вы совершили огромное открытие, возвратив людям прекрасного человека – Иозефа Мысливечека, его музыку, восстановили историческую справедливость. Все это верно. Но я читал Ваше творение еще и как великолепный учебник писательского труда. Это мудрое практическое руководство (не для начинающих – нет!) для пишущих давно и написавших немало. Это подлинный курс повышения квалификации или усовершенствования, как это бывает у врачей, педагогов и др. специалистов. Как вспомнишь мочалку, которую приходится жевать в некоторых романах, да кочки, ямы и бугры языковые, да мелких человечков, которые не только одеждой характеров, а даже кожей не обтянуты – живут скелетами, ну и другое многое вспомнишь, и хочется сказать пишущей братии: – Возьмите-ка Вы замечательный учебник практической литературной работы, проштудируйте его, в нем есть все: глубина, оригинальность и блеск мысли, пример подвижнического трудолюбия, объективности, честности и добросовестности, образец кропотливого труда над языком, настоящее горение благородной, тонкой и чуткой писательской души, горячий не крикливый патриотизм и не плавающая на поверхности, не лезущая в глаза, а настоящая, пропитывающая все, органически живущая в каждой строке добротная идейность.
И еще многое мог бы я сказать из того, что понял и приобрел для себя. Мне даже хочется написать об этом в газету или журнал. Только не знаю, что это будет – не рецензия, а какие-то размышления о нашей литературной жизни и работе, опирающиеся на мудрость Вашей книги.
Хочу отдельно сказать о Вашем языке. Вы получили образование в старой школе, долго писали и вжились в старые языковые нормы. Я ожидал встретить в Вашей книге много архаизмов и неизбежных при такой специфической теме музыкальных терминов. Ждал их, оправдал в душе, готов был преодолеть и вдруг! – ничего подобного не нашел, не обнаружил! Просто поразительно, как Вам удалось такую трудную историко-музыкально-философскую книгу написать чистейшим современным литературным языком! Я часами, по абзацам разбирал язык, копался, всматривался, поражался – как можно до такой степени все отшлифовать! В эти минуты так и звучал Ваш голос: «Я не выпускаю со своего стола ни одной страницы, ни фразы, пока чувствую, что могу еще что-то сделать, убрать, почистить, довести до такого состояния, когда уж ничего не могу улучшить, достигаю отпущенного мне предела».
После многих бесед с Вами я воспринимал Ваши мысли в книге иногда как продолжение разговора, порой как развитие и углубление его, все мне очень близко, знакомо, слышу Ваш голос. Как мне понятно Ваше беспокойство в Дубултах: смогу ли я работать? Когда читаю: “Перелом у творцов начинается с той минуты, когда они не могут преодолеть тяготы жизни в творческом акте своего искусства…”, я вспоминаю Вас бодрую, веселую, жизнерадостную (на концерт только пешком, никаких такси!). Окружающие люди Вам интересны. Вы не тяготились ими, а были самым активным и интересным собеседником. Вы, при Вашем возрасте, отличались от других женщин в Доме творчества не только мудростью, но и подвижностью, завидной для всех жадностью к работе, музыке, общению с друзьями. В общем, у Вас столько энергии и жизнелюбия, что ими заражаются от Вас другие. Что произошло и со мной.
И вот послал я к чертям всех докторов, вернулся домой, работаю. Показываю врачам «Мысливечека», говорю: «Вот кто меня вылечил!» Но врачи этого не понимают: – Просто у Вас не было инфаркта, наверное, обычный приступ! Ну, не было и не надо, будем жить дальше! Радость открытия для меня «Мысливечека» состоялась, и это очень важно!
Дорогая Мариэтта Сергеевна, простите за многословие, м. б., нескладно, но сказал, что хотел.
Привет Вам и поклон от Жени.
Посылаю фотографии этого лета в Дубултах.
Желаю Вам всего доброго и главное здоровья.
Вл. Карпов».
Следующая наша встреча произошла в Переделкино, только я, как прежде, жил и работал в Доме творчества, а Шагинян получила наконец литфондовескую дачу. В том году скончался председатель Союза писателей России Леонид Соболев. Дачу, которую он занимал, отремонтировали и передали Мариэтте Сергеевне.
То, что произошло со мной в связи с этим событием, надо рассказать обязательно, потому что это в какой-то степени объясняет исключительную доброту и приязнь ко мне М.С.
Сидел я и работал в своей комнате, когда раздался легкий стук в дверь.
– Можно к вам? – спросила робко М.С. – Я не отвлекаю вас от работы? Хотя, что я говорю, конечно, отвлекаю. Но особое обстоятельство вынуждает…
– Всегда рад вас видеть, что у вас стряслось? Какое особое обстоятельство?
Ничего не объяснив, М.С. поманила меня пальчиком:
– Идемте.
Мы вышли с территории Дома творчества и пришли к даче, которую выделили Шагинян. Двухэтажная дача сияла и пахла свежими красками после ремонта.
М.С. достала из сумки большую связку ключей, долго искала нужный – от входной двери. Все это молча. Наконец нашла, отомкнула, отворила дверь и мне:
– Заходите.
– Только после вас.
– Нет, идите первым.
– Мариэтта Сергеевна, я достаточно хорошо воспитан. Чтобы позволять себе входить прежде женщины.
– Нет, вы должны войти в этот дом первым. Я вас для этого и пригласила.
– Обычно в новое жилье первой впускают кошку. Что же, вы меня привели в качестве кота?
– Вот именно. Входите, входите!
Она подталкивала меня к двери. Я вошел в холл, потом она взяла меня в кухню, во все комнаты на первом этаже. И даже в туалет! Затем мы так же обошли комнаты и на втором этаже.
На балконе она, как-то очень мило, сказала:
– Мой предшественник был моряк, может быть, больной он выходил на этот балкон и ощущал себя, как на капитанском мостике.
Сказано это было с большим уважением и сочувствием к Соболеву. А мне она объяснила:
– Насчет кота вы очень точно догадались. Я пригласила вас как своего лучшего друга, который посмотрит на всю эту роскошь без зависти. Добрым глазом. Порадуется за меня. Я не хотела, чтобы сюда вошел первым какой-нибудь человек, который хотя бы втайне мне позавидовал. Не будет тогда у меня счастливой жизни в этой даче. Вас я знаю как очень доброго и порядочного человека.
Все долгие годы дружбы с Шагинян в Переделкино и за его пределами я старался быть именно таким для нее человеком. А пережили мы с М.С. за эти годы очень много хороших и трудных дней.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?