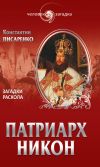Текст книги "Никон (сборник)"
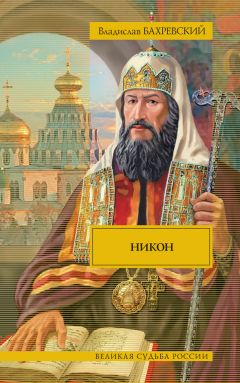
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
До того растрогалась, что расцеловала крайчую.
Ждала Мария Ильинична грузинскую царицу в своей царицыной палате. Встреча была устроена по заведенному порядку. За городом Елену Левонтьевну встречали и сопровождали царицыны боярыни Анисья Хилкова, Анисья Прончищева и Марья Волконская. На первой встрече в городе были Авдотья Куракина и княгиня Анастасия Ромодановская, жена князя Григория Григорьевича.
Вторая встреча происходила на кремлевском Красном крыльце. Здесь грузинскую царицу приветствовали Марья Куракина и Анисья Ромодановская.
Третья встреча была в сенях, где приветствие сказывала княгиня Катерина Трубецкая.
Встреча цариц происходила в присутствии государя царя Алексея Михайловича.
Говорились обычные формулы приветствий, действо совершалось без отступлений от правила и каких-либо вольностей, но сердце Алексея Михайловича трепетало и сжималось от непонятной ему грустной радости.
Возможно, так подействовали на молодого царя необычайная красота и грация грузинской царицы и ее свиты. Насмотреться на лицо Елены Левонтьевны – жизни не хватит. Все равно что с гор на просторы заречные смотреть, на голубые дали: простор, полет и печаль. И печаль! От великой красоты и печаль великая.
На лице же у Елены Левонтьевны царю почудилась замкнутая на замок скорбь, и не какая-то там домашняя, но воистину царская, по убиенной родине. Землю убивают по многу раз. Но земля родины есть птица феникс. Жизнь сильнее смерти. Жизнь – Бог.
Грузинки стояли прямо, и такая в них была достойная гордость, такой разлет в бровях и огонь в глазах – ворон и тот в себе орла бы почуял. А как пошли те женщины грузинские с царицею своею за званые столы, то опять всем на удивление и на радость. То шли не изваяния, принесшие в чужую землю укор по великим своим скорбям, но – женщины, легкие, желанные, с движениями плавными и непривычными русскому глазу. Спины и головы они держали все так же гордо, но каждый их жест располагал к дружеству, и хотелось быть с ними во всем заодно.
18
Боярин Василий Васильевич Бутурлин, утомленный постоянными торжествами, речами и пышными застольями, делами явными и тайными, собирался лечь пораньше, ибо назавтра предстояло выслушать множество докладов о том, как прошла присяга в Нежинском полку: в городах, местечках, селах.
Сам Бутурлин, приняв присягу в Киеве, Нежине и Чернигове, воротился 30 января в Нежин, ожидая царева указа о своем возвращении в Москву.
Сеунщиком, так назывались гонцы по важным государственным делам – 17 еще января поехал стрелецкий голова Артамон Матвеев. Вез он с собою и благодарственное послание гетмана Богдана Хмельницкого. В том листе гетман писал: «Богу милостивому и вашему царскому величеству велико благодарим, получивши ныне, что от веку жадали есмо».
Русская земля – живое тело, – рассеченная мечом ненавистника на кровоточащие части, ныне, окропленная живою водой, вновь соединялась, и пред миром, пред светом солнца и звезд, пред надеждою угнетенных и яростью угнетающих должен был явиться богатырь отменной чистой души, ясных помыслов и великой доброй силы.
Бутурлин, иной раз проснувшись среди ночи от мнительного к себе недоверия, трогал руками лоб, грудь, бороду… И улыбался, как младенец. Он и был младенец, родившийся для бессмертной памяти 8 января 1654 года во граде Переяславе, на казацкой раде, где соединились две добрые воли – в одну волю. А устроителем того великого действа был он, Василий Васильевич.
Бутурлины – известный род, однако ж не из первых. Самым знаменитым предком был у Бутурлиных Иван Михайлович, окольничий Ивана Грозного. Хаживал Иван Михайлович во многие походы: на Литву, на усмирение черемисов, был вторым воеводой в битве под Смоленском, а затем в том же Смоленске сидел на воеводстве. А голову сложил, как мало кто из русских, на чужбине. Шел с войском помогать грузинскому царю да и сгинул.
Вины в том воеводы Бутурлина не было – вражеское войско в десятки раз превосходило численностью дружину Бутурлина. А в чем вина неудачника царя Бориса, одному Богу известно. Всякое доброе дело Годунова оборачивалось бедой. Видно, весь запасец угодных Провидению государственных свершений, безгрешных детских молитв и подвигов пустынножителей Россия растратила в лютые времена царя Ивана. Вот и поражена была немочью, никакой талан русский не имел в те поры ни силы, ни удачи.
Так думал про своего предка боярин Василий Васильевич Бутурлин. И еще думал, что в новой, воспрянувшей от смуты России и Бутурлины воспрянули. Ранее бояр среди них не было, а ныне двое – сам он да брат его Андрей Васильевич.
Все это пронеслось в мозгу в единую минуту – прикорнул старик за столом. Открыл глаза, улыбнулся, сказал слуге:
– Постель приготовь. Уморился.
И пока слуга хлопотал, стягивая с боярина сапоги, выстилая дорожку от стола к постели, чтоб белые вельможные ножки не застудились ненароком, Бутурлин, сосредоточась, вспоминал прожитый день, чтоб, если сыщется какая промашка в делах, отдать тотчас нужное распоряжение.
Прежде всего вспомнились дела тайные.
Утром допрашивали поляка, дворового человека пана Заблоцкого, захваченного в пределах Нежинского полка. Возможно, это был лазутчик, ибо сказывал, что приехал искать пропавших лошадей. А приехал-де потому, что прошел слух – у Хмельницкого и польского короля заключен мир. Король обещал записать в реестр сорок тысяч казаков, и они теперь, как прежде, будут служить Речи Посполитой. Назвал, где и сколько стоит у поляков по городам войска, и сказал, что все паны поехали ныне в Варшаву на сейм. О чем сейм – не знает.
Сообщения эти были тревожные и требовали проверки.
Сам Хмельницкий прислал человека с письмом, в котором сообщал о своей переписке с ханом. Хан жаловался на полковника Богуна, который побил много татар. Гетман отвечал, что будет стоять за православных христиан, ибо татары грабят и уводят людей в полон.
Было тайное письмо от генерального писаря Выговского. Хмельницкий-де вскоре отправит в Крым послов, чтоб решить вопрос, будет ли хан с казаками в дружбе по-прежнему или нет. Переслал писарь перехваченные у поляков письма к полковнику Богуну. Богун от присяги царю отказался, и король спешил залучить его к себе, обещал булаву гетмана.
Последнее большое и явное дело за день – разговор с нежинским полковником Иваном Золоторенко. И пришел Иван с братом Василием, с есаулами и старшиной, жаловался на яблонского воеводу Василия Борисовича Шереметева, который задержал и держит в тюрьме пятьдесят нежинских мещан, приняв их за литовских людей. К боярину Шереметеву и к царю тотчас при Золоторенках были написаны грамоты.
Вот и все дела.
– Как все?! – Василий Васильевич даже подскочил на лавке.
– Что изволите?! – испугался слуга. – Все готово, можете почивать.
Боярин встал, перекрестил лоб на икону, пошел в постель. Ложась, думал о своем испуге. Чуть было не запамятовал о письме князя Федора Семеныча Куракина. Куракин сообщал, что 18 января пришел в Путивль и ждет, когда соберутся из городов солдаты, а как соберутся, он тотчас отправится в Киев на воеводство.
То был ответ на письмо самого Бутурлина и на письмо Хмельницкого, торопившего с присылкой царского войска.
Это войско – подтверждение на деле переяславского договора о воссоединении. Может, и в поляках, напавших на Шаргород да и на другие города, прыти поубавится.
Одеяло было на лебяжьем пуху, легкое, ласковое, теплое.
Василий Васильевич закрыл глаза. И тут за дверьми затопали, зашумели, дверь отворилась.
– Василий Васильевич! – Со свечой в руках вошел дьяк Ларион Лопухин. – Не пугайся – с радостью! С радостью! Артамон Матвеев приехал с царским приказом: выезжать тотчас.
Василий Васильевич сел, замахал руками:
– Федька! Микешка! Одеваться, собираться! Да скорее, скорее! Государь зовет!
Дали свет, боярин надел парадные одежды.
Явился окольничий Иван Васильевич Олферьев, собрались всяческого звания посольские люди, и вот тогда, сияя улыбкой, высокий, в новой, даренной царем шубе, в комнату вошел сеунщик Артамон Сергеевич Матвеев с царской грамотой в руках.
В той грамоте все слова были ласковы, а последние и совсем сладки как мед. Писал государь: «А как, аж Бог даст, приедете к нам к Москве, и мы, великий государь, за ту к нам, великому государю, вашу службу и за раденье пожалуем вас нашим государским жалованьем по вашему достоинству».
Часу не прошло, а посольский громоздкий поезд, снарядившись на диво скоро и легко, вышел из Нежина.
Ночь была мягкая, но звездная.
Василий Васильевич вдруг вспомнил: в его московских деревеньках крестьяне 1 февраля мышей в скирдах заклинают.
И примету вспомнил: если ночью 1 февраля звезд много – зима будет долгая.
19
Алексей Михайлович сидел за счетами, то и дело заглядывая в тетрадь и откладывая направо и налево нужное количество костяшек. Счеты и впрямь были костяные – из «рыбьего зуба», каждая белая кость в виде горностая, а черная – в виде мышки. Считал государь личные свои деньги, потраченные на поминовение молодого князя Михаила Одоевского.
– «В сорочины дано двумстам человекам, – читал царь в черновой тетрадочке и откладывал на счетах сумму, – двадцать рублев, по гривне на человека… Того же дня на милостыню тысяче человекам – по алтыну. Деньги взяты из Казанского дворца. Из казны Большого дворца взято десять рублев на калачи. На рыбу, шти, на тысячу блинов, на три ведра вина да на три ведра меда…»
Государь, щелкая костяшками, считал потраченные деньги, аккуратно вписывая в чистовую тетрадь дважды проверенную сумму.
– «Да от меня тысяча пирогов с маком, на едока пирог…»
В комнату вошла царевна Ирина Михайловна.
– Великий государь!
– Ирина! Голубушка! – живо обернулся Алексей Михайлович, закрывая тетрадочки.
– Алеша, у Марьи Ильиничны…
– Что?! – Глаза стали испуганные, вскочил.
– Да ничего! Ничего!.. Схватки начались.
– Схватки! – ахнул государь. – Повитух, лекарей звали, что ли?
– Всех звали.
– Господи, не прогневись за грехи мои! Господи!
Вместе с Ириной Михайловной упали на колени перед образами. Но горячая молитва царя не успокоила.
– Иринушка, я к вам, – жалобно сказал.
Царевна взяла его под руку, повела на женскую половину дворца. Он шел, улыбаясь встречным людям, приговаривая шепотом:
– Помолитесь за меня!
В Ирининой светлице сел на лавку возле печи. Ему стало жарко, но он терпел. Догадливая Татьяна Михайловна принесла квасу.
Алексей Михайлович, благодарно кивая головой, выпил кружку до дна и держал ее в руках, не зная, куда деть.
Татьяна Михайловна взяла у него кружку, дотронулась рукою до плеча:
– Братец! Не впервой же Марье Ильиничне.
– Не впервой! – словно бы спохватился Алексей Михайлович. – Не впервой!
И жалобно посмотрел Татьяне Михайловне в глаза:
– А все-таки боязно.
Поднялся, всех расцеловал.
– Помолитесь… за нас с Марией.
– Братец! – потянулась к нему Татьяна Михайловна и вдруг взяла с блюда и подала ему… морковку. – Погрызи, сладкая. Точь-в-точь как мама покупала нам по дороге… Помнишь?
– Помню, – сказал Алексей Михайлович, принимая морковку. – Помню.
Торопливо вышел из палат.
Пробрался в баню.
Банщик, увидев перед собой царя, всполошился:
– Сегодня, государь, не топлено!
– Вот и хорошо, – сказал ему Алексей Михайлович. – Я тут посижу у тебя, а ты в предбаннике будь – никого не пускай… Кваску принеси. С анисом.
В бане было тихо и пусто.
Полы сухие, белые.
Государь сел на лавку возле окна, но свет мешал ему. Тогда он ушел в дальний темный угол. Сесть было не на что, и, постояв, Алексей Михайлович вздохнул и сел на пол. И снова вздохнул. На полу было и удобно, и покойно.
Вспомнил вдруг своего второго дядьку. Первый-то, Борис Иванович Морозов, был для него светочем, источником истины, высшей справедливостью, а второй, Федор Борисович Долматов-Карпов, – человек воистину ласковый, никогда ни с кем не местничавшийся, никому ни в чем не заступивший пути, был маленькому царевичу, а ныне царю вроде добряка домового. Для слез своих детских Алеша находил места самые укромные, а утешителем ему чаще всего был второй дядька. Найдет, погладит, пошепчет хорошие слова и обязательно угостит вкусным: черносливом, репкой…
Алексей Михайлович вспомнил о моркови, зажатой в руке. Принялся грызть.
И тут – о чудо!
Дверь отворилась, и вместе с банщиком в баню заглянуло круглое красное лицо Долматова-Карпова.
– Где же государь-то? – испугался банщик.
– Тут я! – откликнулся из своего угла Алексей Михайлович.
– Государь! – воскликнул Долматов-Карпов, раскрывая объятья. – Батюшко! С сыном тебя, батюшко!
Алексей Михайлович встал, на дрожащих ногах подошел к Федору Борисовичу, припал к его широченной груди и расплакался.
20
Крестили младенца по обычаю, через семь дней после рождения, 12 января. На двенадцатое в святцах святые: Савва, Мартиниан, Мертий, мученик Петр Авессаломит, нарекли же царского дитятю во имя Алексея – Божьего человека, в честь родного отца.
Крестины совершались в Успенском соборе. Крестил сам Никон, восприемницей, по желанию Алексея Михайловича, была царевна Ирина Михайловна, кумом – архимандрит Троице-Сергиева монастыря Адриан.
Во все стороны великого государства отправились гонцы известить народ о великой царской радости, и в новые земли тоже: в Чигирин – к Хмельницкому, в Киев – к воеводам и к митрополиту Косову.
Празднества были торжественные, долгие, но о деле Алексей Михайлович не забывал и во дни ликования. 14 февраля назначил сбор государеву полку в Москве к 1 мая, в указе была названа и причина сбора – поход на польского короля за его многие неправды.
Уже через две недели, 27 февраля, в Москве на Болоте свершалось торжественное действо отпуска Большого наряда на грядущую войну.
Большим нарядом в те времена называли тяжелую артиллерию. Отправляли пушки наперед по зимней дороге, так как весною дороги в России плохи, а пушки весили и по двести, и по триста, а то и по тысяче пудов.
Первым воеводой над Большим нарядом Алексей Михайлович поставил боярина Федора Борисовича Долматова-Карпова, вторым – князя Петра Ивановича Щетинина.
Долматов-Карпов был пожалован воеводою не потому, что знал толк в огненном бое. Назначение совершилось по трем причинам. Во-первых, царю захотелось отблагодарить старика за все доброе, что знал от него в юные свои годы, и за то, что Федор Борисович сыскал его в бане ради возглашения великой радости о новорожденном. Во-вторых, боярин, хоть нигде и не выпячивался, был человеком дельным и расторопным, приказы выполнял, как ему сказывали и сполна. В-третьих, Федор Борисович никогда не был уличен в брехне, ни по умыслу, ни в пустопорожней – ради красного словца.
С Никоном, который сам кропил пушки святой водой, государь осмотрел весь наряд. Тут были и новые, и служившие еще Ивану Грозному.
В поход отправлялась стосемнадцатипудовая пищаль Кашпира Ганусова, отлитая в 1565 году. Стенобитная пищаль «Кречет», последняя пушка Андрея Чохова. «Кречет» палил полуторапудовыми ядрами. «Кречет» участвовал и в несчастном походе Шеина под Смоленск, когда почти все самые большие пушки Русского государства были захвачены врагом и увезены за границу. (Две из них до сих пор в Швеции стоят.) Были среди наряда огромные мортиры, стрелявшие ядрами в семь и в десять пудов. Эти пушки назывались верхними, они вели огонь навесной, через стены.
Были и тюфяки для стрельбы дробом, то есть картечью, из них же стреляли и ядрами.
Особенно нравились государю сороки, или органы. Среди наряда было пять сорок крупных, семиствольных, да полдюжины сорок мелких, составленных из ружейных стволов. Показывая на них, Долматов-Карпов сказал с гордостью:
– У этих сорочат шестьдесят один ствол, государь! А вот у сей певуньи, – погладил рукавицею окованный железным листом ящик, – сто пять стволов! Правда, совсем малых, пистолетных, но к такой пушке – не подступись.
Показали государю и большое трехствольное орудие, стрелявшее двухфунтовыми ядрами.
– У царя Ивана Васильевича под Казанью было сто пятьдесят пушек, – сказал государь, не скрывая своего удовольствия, – а у нас их все двести. Великий страх на ворога нагонят. Экий гром-то приключится, если разом все пальнут!
И, еще раз оглядев Большой наряд, вздохнул:
– Мастеров нужно сыскивать! Самые большие пушки отлиты все при государе Иване Васильевиче да при Федоре Иоанновиче.
– И у нас мастера добрые есть, – возразил Долматов-Карпов, увлекая Алексея Михайловича к небольшой, но длинной и необычной пищали. – Гляди, государь! Гляди, каков затвор! Клиновым называется. Такая пищаль в пять раз скорее палит, чем обычная.
– Мастера наградить! – приказал государь. – Пусть еще такие делает. Пусть добре добрую сделает для торжественных государевых наших шествий, чтоб иноземные послы глядели и удивлялись.
– И побаивались! – подсказал Долматов-Карпов.
– И побаивались! – Алексей Михайлович улыбнулся, обнял своего дядьку, расцеловался с ним. – С Богом! Жди меня в Вязьме в мае. Да смотри, чтоб в дороге все было цело и сохранно.
21
Патриарх Никон, сопровождаемый Арсеном Греком и новым келейником Тарахом, тоже греком, прошел от Крестовой палаты до наружных дверей, проверяя, всё ли на месте и нет ли где какого-то изъяна.
Вернувшись в Крестовую, патриарх снял домашнюю душегрею и облачился. Его саккос был сплошь расшит жемчугом, на митре большой бриллиантовый крест, а вся вершина митры из таких светлых алмазов, что над головою патриарха горою поднималось белое светоносное полымя.
Патриарх покосился на стоявших справа и слева за креслом Арсена и Тараха. У одного в глазах – испепеляющий черный огонь, у другого глаза огромные, синие: ангел карающий и ангел врачующий.
Сообщили:
– Едут!
Никон, изображая на лице непринужденное радушие, сказал священству, застывшему посреди Крестовой:
– В радость нам! В радость!
Сошел со своего места. И, подойдя к затрепетавшим златоризным священникам, раздвинул рукою первый ряд, выводя вперед затертого молодыми белобородого старца.
– Тебе, отец, старшинство по летам. Что же ты за спинами укрылся? Старость в московских пределах – оберегаема и почитаема.
– У дверей! – донес гонец.
– Вот и слава богу! – сказал, улыбаясь, Никон и стоял со своею улыбкой перед священством, пока до них – тупоголовых! – дошло, что надобно улыбаться.
Улыбнулись, и Никон, довольный, благоуханный, как райская куща, прошел на свое патриаршье место, полыхающее изумрудами. А помост, на котором стояло кресло, крытый золотой парчой, горел как жар.
Никон принимал посольство Войска Запорожского, первое посольство после воссоединения.
Хмельницкий в Москву не поехал.
Сам он сослался на неспокойствие Украины.
Но в Москву не поехал и генеральный писарь Выговский, второе после гетмана лицо в иерархии Войска Запорожского. У него-то причина была, может, и более веская, чем у Хмельницкого. Тайный агент Москвы, Выговский приторговывал государственными секретами без зазрения совести. Для него подарки из Москвы были весьма значительной статьей дохода. Он получал два жалованья. Одно явно – это жалованье всегда было меньшего размера, чем у гетмана, второе – более солидное – тайно. Выговский опасался, что неосторожные московские дьяки могут проговориться о его тайной службе царю при людях гетмана.
Однако в том ли дело? Хмельницкий знал о двойной игре Выговского. Не все, конечно. Но когда-то он сам просил генерального писаря пересылать в Москву, якобы втайне от гетмана, некоторые письма из Варшавы и Крыма.
Не случившиеся, не происшедшие события – богатейший материал для исторических фантазий. На отказе Хмельницкого и Выговского приехать в Москву можно построить и превосходно обосновать добрую дюжину версий, которые, исключая друг друга, всякий раз будут выглядеть совершенно правдиво.
Нет, гадать мы не будем. Свершившегося нельзя поправить, а сердить блюстителей исторических концепций – себе дороже.
Запомним только: царь Алексей подосадовал на казаков. Посольство, составленное из третьих лиц, смазывало торжество. Во главе посольства в Москву приехали войсковой судья Самойло Богданович и переяславский полковник Павел Тетеря да пасынок гетмана Кондратий. Охотников же до поездки в Москву набралось более чем достаточно.
Путивльский воевода, окольничий Степан Гаврилович Пушкин, пропустил с Богдановичем и Тетерей более пятидесяти казаков, а еще семьдесят вернул – и получил от государя суровый нагоняй. Пришлось Пушкину отменить свой негостеприимный приказ.
Посольство поместили в старом Денежном дворе, заново перекрытом, выбеленном, выкрашенном и выскобленном.
Прием у царя состоялся 13 марта в Столовой избе. В знак особой милости про здоровье гетмана Богдана Хмельницкого, про здоровье полковников и про все Войско Запорожское спрашивал не думный дьяк Алмаз Иванов, а сам государь. После же целования царской руки государь пожаловал Самойла и Павла, пригласил их сесть на лавку и уж после этого пожаловал к руке всех прочих запорожских казаков, прибывших в составе посольства.
Никон принимал посольство на следующий день. Стремясь во всем затмить прием у царя, он исходил не из какого-то государственного расчета или тонко задуманной личной игры, но из одного лишь упрямства и желания быть всех милостивее и уж конечно великолепнее.
Патриарх мог бы принять посольство и сразу после царя, но не поторопился, ибо вечером 13 марта послы ездили к боярину Борису Ивановичу Морозову, а наутро 14-го их принял боярин Илья Данилович Милославский. Никон хотел, чтобы послы почувствовали разницу, чтоб ощутили ступень!
После обычных посольских речей судья Богданович и полковник Тетеря с тревогой ожидали вопросов о церковных делах, в которых оба были не сильны и не особенно сведущи, но услышали иное. Патриарх попросил зачитать ему «Статьи Богдана Хмельницкого».
«Статей» было одиннадцать, а главными, как всегда, были о численности реестра, о судах и самоуправлении, избрании нового гетмана по смерти старого, о жалованье войску и о приеме иностранных послов.
Никон выслушал статьи, подумал и сказал:
– Просите шестьдесят тысяч реестра – стану молить государя, чтоб было по сему. Просите, чтоб в городах ваших урядники были из ваших же людей, из украинцев, – стану молить государя, чтоб было по сему. Гетмана, как и прежде, избирать вам на ваших казацких радах. Но вот о жалованье и о послах не мне решать. Ныне государь собирает большое войско для войны, и казна оскудела. Послов же о добрых делах принимать и отпускать вам по-прежнему, но так как у государя ныне с польским королем война, то с польским королем гетману без соизволения его царского величества ссылаться нельзя.
Почуяв в Никоне реальную власть, послы ударили челом, прося патриарха, чтобы он стал их ходатаем перед Алексеем Михайловичем. Речь шла о поместьях. Богданович хлопотал о грамоте на владение местечком Старый Имглеев, а Тетеря – на местечко Смелая. Было у них и еще одно челобитье – просили для себя и потомства права на несение службы или в Войске Запорожском, или в судах городских, или в земских наравне со шляхтою Киевского воеводства, то есть права на приобретение потомственного шляхетства.
Никон свое покровительство послам обещал, тем более что сам гетман Хмельницкий в запросах на земли не постеснялся. Наряду с местечками и слободами Медведовкой, Борками, Жаботином, Каменкой, Новосельцами он хлопотал о большом городе Гадяче со всеми угодьями.
После торжественного приема украинские гости были приглашены к столу. Никон в трапезную явился в иных одеждах, поражая гостей драгоценными каменьями запоны, панагии, креста, перстней.
Провожал Никон послов уже в третьей перемене. За столом был в изумрудах и рубинах, на провожании – в сапфирах и бриллиантах.
Покидали послы Патриарший двор, точно зная, кто в Москве ныне и заглавного важнее.
22
15 марта царь устроил смотр рейтарскому войску на Девичьем поле. В царскую свиту были приглашены послы Войска Запорожского Богданович и Тетеря. Прибыл на учения со своею свитой из митрополитов, архиепископов, архимандритов и игуменов – патриарх.
– Гляди! Никон! – подтолкнул Савву его новый товарищ по рейтарскому строю мордвин Сенька. – Мой отец с ним из Вельдеманова в Макарьевский Желтоводский монастырь пешком хаживал.
Савва все еще никак не мог очнуться от своей беды, не мог взять в толк, была ли сном вся прежняя жизнь или теперешняя снится.
В руках у него – длинная шпага, за поясом – два пистолета, у седла – ружье. На голове железная шапка, грудь закрывает зерцало – рейтар. Он – Савва-колодезник – рейтар!
Чудно-то чудно, да только вся тысяча здесь – такие же горемыки. Взять Сеньку-мордвина. На ярмарке выпил лишнего, погулял, пошумел – проснулся в тюрьме. Его и посадили-то всего на три дня, а тут и заявись патриарший человек князь Дмитрий Мышецкий. Всех сидельцев – в кандалы, в Москву, а в Москве – в солдаты. Это и был Никонов щедрый дар царю. Нет, не со своих земель набрал патриарх тысячу воинов. Своих крестьян Никон для себя берег.
– Савва! – зашептал Сенька. – А что, если я Никону-то в ноги кинусь?! Ведь меня от семерых отняли. Семерым деткам я был кормилец. Отпустит небось! Свой же он нам человек, мордвин. С Суры мы ведь все!
– Где наша не пропадала, – согласился Савва. – Нас в рейтары беззаконно забрали.
Ученье уже заканчивалось, когда Сенька-мордвин увидел, что вокруг Никона народа поменьше стало, послы от него отошли, бояр тоже рядом нет. Подъехал, спешился, упал перед патриархом на колени. Залепетал по-мордовски и по-русски. И Никон благословил его.
Савва видел: благословил – руку дал поцеловать. Но тотчас Сеньку окружили патриаршие боярские дети и увели.
В тот же день, ввечеру, Сеньку привезли в рейтарскую слободу на санях под тулупом. Поднял Савва тулуп, а там живое кровоточащее мясо. Сколько Сенька батогов отведал, сказать было некому. Сам он в память не приходил.
– Так-то вот с челобитьями в ножки кидаться, – сказал рейтарам поп, за которым сходили, чтоб грехи бедному Сеньке отпустил.
Сенька поскулил-поскулил да и затих, не откликнувшись ни на имя, ни на молитву.
В ту ночь Никон глаз не сомкнул. Мордвин-рейтар из головы прочь не шел. Малый человек – ни жизнь его, ни смерть не могла хоть сколько-то пересечься с судьбою патриарха, повлиять на ее державный ток. Дуновение ветра было более значимо, чем жизнь и смерть несчастного мордвина. О смерти его Никон знал, среди ночи посылал узнавать.
Мордовия вспоминалась.
Двенадцать вельдемановских источников, яблоневые сады, отцовская изба. Так вдруг и шибануло в нос сгнившим от коровьей мочи сеном. Ничего особенно неприятного в этом запахе не было, но Никон не поленился встать с лебяжьего пуховика – помазал виски и под носом благоуханным маслом, привезенным кем-то из восточных церковных владык.
Однако ж запах масла не перебил того давнего, шибающего на всю келию из памяти.
Никон сел на лавку, прислонясь головой к холодному окну.
И вдруг вспомнил песню. Старую, мордовскую.
Ой, село, село, село звонкое,
Наш Большой Толпай, село славное!
Ой, Большой Толпай, село славное,
У подножья гор ты раскинулось.
У подножья гор ты раскинулось,
Вдоль по бережку быстрой реченьки.
Ой, по бережку быстрой реченьки,
А на бережке том – урочище,
А в урочище том – прогалина.
Ой, в урочище том – прогалина,
На прогалине – часты яблони…
А дальше про березоньку, про кукушечку, что седых на постель зовет, а молодых мужчин будит засветло в поле работать…
Куковать начнет в пору завтрака —
Будит всех девчат, всех молоденьких
Умывать лицо, чесать волосы.
Умывать лицо, чесать волосы,
В лапотки обуть ножки тонкие.
В лапотки обуть ножки тонкие,
По селу пройтись по родимому.
По селу пройтись по родимому,
Петь красивые песни звонкие!
– За что же я убил-то его? – спросил себя Никон.
Чуть не до обморока захотелось вдруг говорить с мордвою на родном языке.
Вышел из келии, разбудил келейника Тараха.
– Чтоб утром же послали на реку Суру и привезли ко мне любого попа-мордвина!
Тарах записал приказание, и Никон стоял перед ним, пока тот записывал все до последнего слова.
– Господи, не отступись от меня! – взмолился он, повалясь в постель.
Наутро по дороге в Успенский собор – о чудо! – услышал мордовскую речь.
Купец с крестьянином на него же и глазеют.
– Подойди! – сказал крестьянину.
Тот, оглядываясь с испугом на купца, подошел.
– С Суры?
– С Суры.
– Откуда же?
– Из Курмыша.
– Знаю Курмыш. Красивые там места.
– Пригожие.
– Хозяйство в достатке?
– Какое в достатке! Не только землю – себя вон хозяину запродал на год.
– Сколько же ты ему должен?
– Полсотни ефимков.
Никон повернулся к келейнику.
– Поди с ним и выдай ему… – Замешкался, вспомнил – вчерашнего челобитчика пожаловал тремя сотнями батогов. – Три сотни выдай, ефимками.
23
23 апреля 1654 года небо Москвы рокотало от гула всех ныне пребывающих во граде колоколов, всех великих и величайших, всех обыденных, малых и малых до умиления, всех серебряных и медных, накопленных в стольном самим временем.
То был особый звон. Гул колоколов-великанов объявлял о торжестве с небывалой медлительностью. Колокола совсем по-человечески задерживали свое дыхание, и умеющий слышать слышал в тех гласах и в том молчании скорбь, ее тотчас захлестывала серебряная радость трезвонов, но и радость эта была какая-то незнакомая, будто со вскриками.
Нет, не ради воскресенья потрясали колокола московское небо.
Великий государь святейший патриарх Никон служил обедню, на которой были великий государь со всем синклитом, великая царица, стоявшая на своем месте за запоною, со всеми боярынями по левую сторону от ее высокого места.
Ни одного простолюдина в толпе – жильцы, стрелецкие головы, дети боярские, стряпчие. Сразу после обедни Никон начал служить молебен.
Он говорил и слышал свой великолепный голос, слышал, как многолюдье, затопившее главный храм Московского царства, затаив дыхание, внемлет его слову. Он осязал, кажется, само течение минут. Они сверзались на него со стен, с алтаря, с хоругвей, крестов и, преобразованные его волей, перетекали в мир: на царя, на бояр, на дворянство и духовенство и далее, далее по всей России, по городам ее и весям, по ее просторам и дебрям.
Не ужасаясь столь великой власти, снизошедшей на него, он, однако же, неистребимой правдой крестьянина, мешавшей полноте его торжества, знал, что – не достоин. И он гнал, гнал ее от себя, свою мордовскую правду! Ей ли было судить свершенное волею небесной, ей ли было пялиться на сияние его патриаршего совершенства?
И он возвышал и возвышал голос, заглушая в себе и малое сомнение о своем совершенстве. Распростер над боярами и воеводами длани, благословил всех и повелел всем идти целовать образа и прикладываться к мощам. Первым же среди исполнявших волю его был государь.
За двадцать пять лет жизни Алексей Михайлович, может, десятки уже раз принимал участие в службах необычайных, в молениях о ниспослании благодати всему Русскому государству, всегда платившему дорого за покой и благополучие. Ныне пришла пора иных молитв. Не нищенского подвига ждала Россия, но подвига ратного. Не молила, как было ей в обычай, оборонить, заслонить, спасти, но призывала силы небесные встать заодно с царем, карающим недругов своих.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.