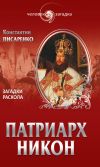Текст книги "Никон (сборник)"
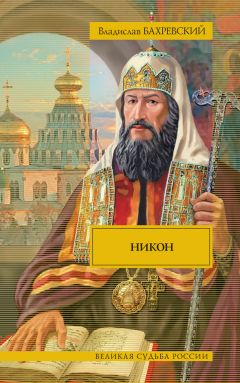
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
Постоял за дверью, насмелился и – нырь головой вовнутрь, чтоб глянуть и – назад. А его словно бы ждали. Ванька Мерин ждал. Скалит, конь, лошадиные свои зубищи и всем телом давит на дверь. Прихватил голову! Так прихватил, что вот-вот череп треснет. Может, и треснул бы, да слышит Савва сквозь сон – толкают.
– Вставай! Уже пошли!
Проснулся, все вспомнил, спросил:
– Изготовились?
– Изготовились.
– С Богом!
Деревянная башня, с которой стрельцы будут прыгать на смоленскую стену, двинулась во тьму, где пущей тьмою, как брешь, зияла стена города-крепости.
Савву била дрожь, то выходил из него зябкий, под открытым небом, сон.
О приступе сказали поздно вечером. Савва приготовил оружие, надел доспехи, ждал приказа с нетерпением, пылая местью за товарищей своих, и – заснул.
Теперь он шел, зевая до слез, шевеля плечами, чтоб разогнать холод, засевший между лопатками. О том, что его ждет уже через каких-то полчаса, не думал. Ни о чем не думал, зевал да моргал. И вдруг вспомнил – монашку. Свой первый сладкий грех.
Даже по голове кулаком пристукнул, вытрясая столь нежданную, уж никак не ко времени память. Озлился. Нарочно навел на себя картину кровавой избы, даже словами сказал: «Они нас – ночью, а теперь мы – ночью».
Никак не мог представить, как это он, Савва, станет резать спящих…
Глупый не глупый, но обрадовался, когда, встряхнув землю, грохнула со стены, разгоняя ночь, «Острая Панна».
Нет, поляки не проспали! Слепя глаза, ударили пушки, завизжали медвежьи пули карабинов и мушкетов.
Савва по лестнице, защищенный своей же башней, лез со ступеньки на ступеньку, в очередь. В очередь очутился на ледяном верховом ветру. Вслед за драгуном спрыгнул на стену, побежал к башне, где лязгало оружие и гремели выстрелы. Изготовясь, вбежал вовнутрь, заранее тыча протазаном. Но убивать было некого. Горели по стенам факелы, у бойниц и на полу лежали чужие и свои. В башню ввалилось еще несколько стрельцов.
– Вперед! – ткнул Савва в сторону винтовой лестницы и замешкался: лестница вела и вверх и вниз.
Его опередили. И он, теперь уже увлекаемый чужой волей, стал спускаться вниз, но на следующей площадке остановился.
Коли эта башня взята, чего тут делать? Надо другую башню брать! Он полез назад, ясно понимая свое назначение и свое место в бою.
Пока враг не опомнился, «город» следует передвинуть к другой башне и взять ее. Выскочил на стену и, чтобы сообразить, где «город» всего нужнее, сунулся между кирпичными зубцами. И ничего не увидел. Не успел увидеть.
Каменный вечный мешок башни вспух, как бычий пузырь, и рухнул, сотрясая грохотом землю и небо. Савве все-таки повезло. Он даже взрыва не услышал, мир вывернулся из-под его ног и перестал быть.
В полдень его подберут, как мертвого, но все же отличат от мертвых, погрузят в телегу и повезут. Очнется он не скоро, не скоро узнает, что защитники Смоленска взорвали порох в занятой московским войском башне. Своему королю они отпишут, прибавляя веса победе: у москалей-де убито семь, а ранено пятнадцать тысяч.
Алексей Михайлович, сокрушенный неудавшимся приступом, писал своим царственным сестрам и царице иное, но с великою жалью:
«Наши ратные люди зело храбро приступали и на башню и на стену взошли, и бой был великий. И по грехам под башню польские люди подкатили порох, и наши ратные люди сошли со стены многие, а иных порохом опалило. Литовских людей убито больше двухсот человек, а наших ратных людей убито с триста человек да ранено с тысячу».
13
Чтоб не слышать причитаний Никиты Ивановича, чтоб не видеть соболезнующих взглядов, не слышать вздохов своих премудрых бояр, Алексей Михайлович уехал поглядеть лазарет, устроенный сердоболием Федора Михайловича Ртищева. Уехал, взяв с собою тайных своих приказных и людей в чинах небольших, но близких: Афанасия Матюшкина, Артамона Матвеева да еще Афанасия Ордина-Нащокина.
Раненые помещались в монастыре, в срубленных наскоро избах, просторных, чистых.
Ходили за болезными монашенки, крестьянки, дворянки тоже были.
Царь пожаловал на стол раненым двадцать рублев, а бывшие с ним люди тоже дали, кто сколько мог: по пяти рублев, по десяти.
Здесь государь узнал в одном из раненых Савву. Лицо у пятидесятника стало словно бы каменное. Словно бы, закрыв глаза, думал он о самой вечности. На щеках румянец, губы сжаты, а дыхания и не слышно почти.
– Этот без памяти уж пятый день, – объяснили государю.
– Я его знаю, – сказал Алексей Михайлович. – Добрый человек. Поберегите его.
Отобедав в монастыре, царь поехал на землю поглядеть.
Выехали на луг между двумя рощицами. Луг – сплошные колокольчики, вдали озерко. Подъехали к воде – утки в камышах. С выводками. Людей не боятся, плавают, хлопочут по своим утиным делам.
Вдруг скопа снялась. Близко сидела.
– Ах ты! – загорелся Алексей Михайлович и толкнул в плечо Матюшкина. – Афанасий, ты мне все же сыщи этакого сокола али челига, чтоб мог скопу заразить. Чтоб когти на когти, чтоб бой между птицами случился, ну и чтоб победила моя.
– Давно ищу такого сокола, государь, – виновато повздыхал Матюшкин. – Знаю про твою охоту – скопу добыть. А порадовать пока, государь, нечем. Скопа, как орел, велика. Сокол смел, да ведь не дурень…
– Ты ищи, Афонька! Ищи! – И повернулся к Ордину-Нащокину. – А у молдавского князя Василия хороши соколы? Я слыхал, ты при его дворе целый год жил.
– Соколы у господаря Василия Лупу отменные, – ответил Ордин-Нащокин. – Однако господарь в летах. И на охоту не ездит. Вернее сказать – не ездил.
– Да-а! – покачал головой Алексей Михайлович. – А скажи, отчего князь Василий своего государского места лишился?
Вопрос был прост, да на простые вопросы отвечать всего труднее. Афанасий Лаврентьевич посмотрел государю в лицо и тотчас ушел в себя, говорил, думая над словами:
– Господарь Лупу много доброго людям делал. Церкви ставил, мощи переносил, открыл школы и больницы… Однако ж он, будучи сам из греков, молдавский народ называл разбойниками… Пятнадцать тысяч на столбах, вдоль дорог, повесил.
– Вот и я говорю! – встрепенулся Алексей Михайлович. – Не строгостью, а любовью! Будь моя воля, никого бы не казнил.
И, прочитав на лице Ордина-Нащокина недоверчивое удивление, сказал, простодушно огорчась:
– Голову отстукать у царя власти сколько угодно, а вот разбойника к сохе приучить, тараруя к делу – нету у царя власти. Разбежишься доброе устроить да и сядешь там, где сидел. Всем ведь чего-нибудь недостает! Крестьянам – земли, купцам – денег, царю – людей. Эх, с полсотенки бы толковых!
И поглядел на Афанасия Лаврентьевича так же вопрошающе, как тот давеча на царя.
Однако ж хоть и жаловался Алексей Михайлович на своих слуг, а они дело знали. Вернулся государь на свой стан – радость ждет.
Алексей Никитич Трубецкой, выйдя на помощь битому князю Черкасскому из Мстиславля, нагнал гетманов Радзивилла и Гонсевского на реке Шклове, перед городом Борисовом и побил не жалеючи.
На милость победителей сдались двенадцать полковников, двести семьдесят солдат, были взяты с бою знамена и литавры и даже гетманские знамя и бунчук. Радзивилл в том бою был ранен, едва ноги унес. И от Василия Петровича Шереметева прилетел сеунщик – Озерищи сдались. И от наказного казачьего гетмана Ивана Золоторенко – взят Гомель.
Государь на радостях позвал к себе Василия Золоторенко со старшиной. Вина им поднес, каждому саблю пожаловал в серебре.
Вскоре прислали вести полковник Поклонский и Воейков. 24 августа сдался Могилев. Православных людей Воейков привел к присяге, но он не знал, как быть с католиками, просящимися на государеву службу.
Письмо это Алексей Михайлович кликнул прочитать тайного подьячего Перфильева при Борисе Ивановиче и Глебе Ивановиче Морозовых, при Илье Даниловиче Милославском да при думном дворянине Афанасии Лаврентьевиче Ордине-Нащокине.
Когда письмо было прочитано, Алексей Михайлович, разглядывая царапинку у себя на ладони, то ли спросил, то ли так сказал, чтоб не молчать:
– Католиков-то чем дальше, больше будет?
Илья Данилович, которому давно уж не нравилось быть вторым да вторым, сказал не задумавшись:
– А на кой дьявол нам папские соглядатаи! Без них, слава богу, жили не тужили.
Алексей Михайлович, не поднимая глаз, вздохнул и словно бы и согласился:
– Жили не тужили. – И, помолчав, еще раз вздохнул. – Нынче – иное дело. Нынче по-прежнему – никак нельзя.
Быстро вскинул глаза на Бориса Ивановича.
– Людей в ладу держать – труд самый грустный, – сказал Борис Иванович.
И царь снова посмотрел на него.
Борис Иванович безучастно таращился в окно, двигая нижней челюстью, словно жвачку жевал. Виски запали, с висков на щеки, на бороду будто плесень пошла.
«Ах, Никона бы сюда!»
Вдруг заговорил Глеб Иванович. Всегда бывший в тени старшего брата, он так и не привык к своему голосу – редко слышал. Он даже побаивался этого хрустящего, как сухарик, своего голоса.
– У великого государя в обычае люди всякого звания, всякого языка и веры, – сказал Глеб Иванович.
– Так оно и есть! – обрадовался государь.
– Так-то так, – возразил упрямый Илья Данилович. – Да те веры, которые в царстве обретаются, может, и дюже препоганые, однако ж издавние, свои. А тут – католики! Татарин, может, и облапошит русского, но то не обидно. В другой раз русский татарину нос утрет… Поверьте моему слову, папа нас такими дураками выставит, что те же татаре смеяться будут.
– Ну, понесло! – вздохнул Алексей Михайлович. – Таратуй на таратуе.
И вдруг повернулся к Ордину-Нащокину, сидевшему рядом с Перфильевым, и объявил, как бы уже и торжествуя над Милославским:
– Афанасий Лаврентьевич в Европе и жил, и много раз бывал. Вот он и скажет!
Царю удружить – тоже отвага нужна. Держать сторону царя все равно что христианину в императорском Риме единого Бога хвалить. Бог пожалует святостью, а язычники тебя львам в Колизее скормят.
Может, и смолчал бы Афанасий Лаврентьевич, поберегся, но очень он был зол. Столько глупости вокруг, и никто ее не стыдится. Глупость наравне с добродетелью овеяна легендами и почитанием. У иных всей заслуги-то перед отечеством только и было, что глупость.
Афанасий Лаврентьевич не далее как вчера слышал престранную похвальбу. Боярин Лыков родовой дурью перед Бутурлиным хвастал:
– Дед мой охоч был рыбу ловить. Насадил на крючок живого утенка и удит. Сом тут как тут, утенка с крючка сдернул, удочка распрямилась, и крючок впился рыбарю в верхнюю губу. Слава богу, пастух подошел. Дедушка ему и говорит: «Постой тут за меня, я за ножом домой сбегаю, леску обрезать». А пастух был умом-то ровня дедушке. «С великой охотой, – говорит, – ради мово господина приму печаль». Вытянул крючок из дедушкиной губы да и вонзил себе.
Боярин Василий Васильевич Бутурлин, выслушав тот рассказ, вроде бы и согласился, что действительно простоват был дедушка у Лыкова, но тотчас и призадумался, а подумавши, сказал:
– То – дедушка, а у меня батюшка сам себя деревеньки лишил душ на тридцать… Взбрело ему на ум, что он лучше любого печника печь сложит. Изразцовую, прежнюю, приказал сломать и тотчас взялся за дело. Не вышло. «От прежней всего и толку было, – говорит матушке, – что свет заслоняла, будет у нас лежанка». Сложил, затопил и вдруг – трещина. Батюшка, недолго думая, накрыл лежанку половиком, а сверху сам сел. С месяц потом кушал стоя, но и тут не сплоховал. Дал перед иконами обет: за столом на коленках стоять. А тут праздник. Гости пожаловали. На коленках при гостях за столом стоять непригоже, но батюшка опять молодец. Подошел к архимандриту и попросил отпустить клятву, а за молитву деревеньку пожаловал.
Вспомнив сей спор, вспомнив, как сидят по шатрам бояре без какого-либо дела, проживая и на войне день за днем без мысли и пользы, Афанасий Лаврентьевич сказал в сердцах:
– Великий государь! Слава тебе, что ты, ведомый промыслом Господним, идешь на запад… Ныне мы далеко от мастеров, коими полна Европа. Ныне они не хотят идти на службу, ибо Москва для них неведома и далека. Твоей волей мы к ним идем. Коли Бог даст, станет Россия на море, по морю все лучшее скорее скорого перетечет в пределы твоего государства, великий царь. Со стен Смоленска стреляет огромная пищаль «Острая Панна». Лил ее иноземец Кашпар, но на Лобном месте стоят две пушки, которые во всем превосходят литье Кашпара. Те пушки его ученика, русского человека Чохова. Ты, государь, – все о том знают – с великою охотою ищешь в Европе мастеров. От тех мастеров русские быстро добрые дела перенимают. Когда будем на море, мы сами будем – Европа. Прости, государь, за искреннее слово и помилуй.
– Ты еще про католиков скажи! – напомнил Алексей Михайлович, слушавший дворянина с одобрением и радостью.
Ордин-Нащокин поклонился.
– Государь, ты пожаловал Киеву, Переяславу и многим другим украинским городам магдебургское право. Такой же щедрости ждут от тебя и новые, поклонившиеся твоему величеству города. Признание магдебургского права за городами Белой Руси и Литвы избавит твое царское величество от забот всякий раз думать о том, кто католик, а кто православный.
Алексей Михайлович закивал головой, однако сказать что-либо остерегся. Как бы Илья Данилович злой памятью к дворянину не проникся. За Ильей Данилычем этакое водится.
Однако вскоре после этого разговора в Могилев и другие города были отправлены из-под Смоленска жалованные грамоты. Горожанам разрешалось носить одежду по принятому обычаю, дворы их были освобождены от солдатского постоя, школы разрешалось устраивать по киевскому образцу.
14
Никон пробудился задолго до света, но почувствовал, что выспался, что полон сил и готов ко деяниям. Тотчас вспомнил сон. У великих людей и сны великие. Всю нынешнюю ночь летал он над землей, благословляя народы и грады жемчужным крестом. На нем были белые, как облака, одежды, и сам он был бел от седин и походил на Бога. И Бог был близко. Никон его не видел, не смел возвести глаза к солнцу, но знал: Бог видит его полет и благословляет.
Теперь, проснувшись, пожалел, что не вглядывался в грады, кои осенял крестом.
Облачась в легкую рясу, легкий на ногу, светлый ликом, он погляделся в зеркало, лежавшее у него в столе под запором. Понравился себе. Сотворил молитву и поспешил к делам. На столе лежало грустное письмо царя о неудавшемся приступе. Прочитал он его вчера и теперь собрался написать утешение.
Перо полетело по грамотке опять-таки легко, словно ангел водил рукою:
«Великий государь, Бог испытует возлюбленных своих чад не токмо дарованиями радостей, но и горестями, – начертало без запинки перо. – Да не сокрушит тебя, наследника порфироносной Византии, потомка света в свете багряноносца великого Константина Мономаха, печаль и туга. Помни, великий венценосец, без солнца дня не бывает, так и без царской радости не бывать благоденствию подвластных твоей руке царств и народов. Ступай, государь, смело в пределы твоих врагов, ибо враг от одного имени твоего трепещет и падает ниц. Ступай на брань с радостным сердцем, ибо ты не покоритель, но возвращающий похищенных и отторженных в лоно преславного Русского царства».
Писание воодушевило Никона. Он отложил перо, ибо все главное было сказано. И подумал: «Для того и призван на патриарший престол, чтоб царя укрепить».
И вдруг почувствовал, как на плечи его навалилось нечто невидимое, но столь огромное и тяжелое, что он замер: шевельнись – раздавит.
То была власть.
Он не испугался, но и не спешил вывернуться из-под ноши. Он уже много раз думал о власти, о том, что скажи он «делайте так», и все пойдет в одну сторону, а скажи этак – в другую. Он еще на Соловках носил в себе смутную надежду на эту сладчайшую из человеческих тягот.
Встал. Ноша поднялась вместе с ним на его плечах. Он улыбнулся, перевел дух и забыл про нее.
«Главное – взять Смоленск, – думал он о сермяжных, о нынешних делах. – Смоленск для русских царей – притча. Ее надо разгадать, чтоб отворились двери в иное. Взять Смоленск – все равно что из курной избы выйти на белый свет… Хмельницкий бездействует. Выжидает. А чего он ждет?.. Свершилось Божьим промыслом деяние изумительное. Москва приняла Киев, и Киев принял Москву. Древнее соединилось с новым. Свет куполов оперся на несокрушимые стены – и стал собор, главою и сутью не менее собора Петра».
Вдруг Никона осенило: он сам и есть собор. Стало тесно в просторной келии. Сунул ноги в мягкие чеботы. Возложил на грудь золотую цепь с панагией. Ни на кого не глядя, весь в себе, пошел на реку.
Стоял над Волгой недвижим. Велик ростом, величав гордою головой.
И опять-таки казался себе собором, стоящим на брегах вечности.
15
Письмо Никона обрадовало царя. Никон, не в пример занудам боярам, был против того, чтоб Россия-матушка сидела на старых сундуках… Старое добро молью побито.
Многое в письме было приятным, особенно о родстве с Мономахом. Царапнула лишь напористость, с какой патриарх взбадривал якобы упавшего духом царя.
Духом царь был бодр. Бодрости этой прибывало с каждым днем – воеводы старались дружно. Сдались на имя государя Усвят и Шклов.
Казак Иван Золоторенко добыл Чечерск, Новый Быхов, Пропойск.
Но то было полрадости, а вся радость – Смоленск запросил пощады.
Воеводами в Смоленске были шляхтич Обухович и полковник Корф, и государь, дабы ни в чем не уронить своего величия, послал на переговоры не бояр и не окольничих – стольников. Двух Милославских – Ивана Богдановича да Семена Юрьевича. Илья Данилович о своей родне словечко замолвил, да настойчивое. Царь хотел на переговоры Ордина-Нащокина послать. Впрочем, свой человек на переговорах у государя был – стрелецкий голова Артамон Сергеевич Матвеев.
Поляки всячески тянули время, ожидая помощи городу. Но государевы тайные люди тоже не дремали. Ходили по Смоленску грамоты, в коих рассказывалось о жаловании Алексеем Михайловичем всем городам, взятым на государево имя, магдебургского права, о принятии на службу желающих, об отпуске в Литву всех, кому присяга русскому царю против совести.
Переговоры вроде уже и завершились, осталось дату сдачи назначить, и тут Обухович и Корф начинали юлить.
В ту ночь сон у горожан Смоленска был воробьиный, вздрагивали и пробуждались от тишины.
Утром не пушки – петухи разбудили. С первыми лучами солнца полковник Корф и воевода Обухович взошли на городскую стену и пошли от башни к башне, дабы убедиться в возможности продолжать боевые действия.
– Эй, паны! – окликнули их в Наугольной башне, с которой они начали свой осмотр. – Не довольно ли вам нашей пролитой крови?
Обухович схватился за саблю, но Корф положил на его руку свою, солдатскую.
На командиров глядели исподлобья, а у крикнувшего голова была замотана тряпкой со следами засохшей крови.
– Сколько у вас пороха и зарядов? – спросил Корф.
Ответили смешком.
– Где капитан? – вскипел Корф.
– Убит.
– Кто за старшего?
– Я, – ответил человек с перевязанной головой.
– Отвечайте вашему полковнику!
– Зарядов на три-четыре выстрела. Только не о том, полковник, спрашиваете. Вы спросите, сколько у меня людей.
– Сколько у вас людей?
– Здоровых не более десяти. Остальные с ранениями.
Когда покинули строптивцев, Корф с досадой выговорил Обуховичу:
– Вы же видите?! Где, где давно обещанное вами ополчение из горожан? Башни тогда крепость, когда в них люди!
Обход получился долгим и горьким. Из тридцати восьми башен четыре были разрушены. Народ на восстановление добровольно не шел, сгоняли силой. Одного из понукальщиков казаки убили. Пороха на два-три дня осады. Но, главное, прознав о переговорах, многие защитники ушли со стен.
– И все-таки надо бы еще выждать, – сказал Обухович. – Какое-то время мы протянем, затеять бы новые переговоры. Ведь сентябрь. Пойдут дожди. Дороги раскиснут. Вот тогда уже бунты начнутся у русских.
– Если вы игрою пустословия добудете мне две недели, – сказал Корф, – я обещаю вам выстоять в боях не менее десяти дней.
Они подъехали к центру города и увидели толпу, окружившую дом Обуховича.
Все смотрели вверх.
Несколько смельчаков, забравшись на крышу, вырвали из гнезда воеводскую хоругвь и кинули толпе под ноги. Люди с яростной радостью топтали полотнище и всей массой, взбадриваемые предводителями, побежали к Малаховским воротам. Не менее трети толпы составляла гарнизонная пехота.
– Вот и заботам нашим конец! – сказал Корф.
Ворота распахнулись. Смоляне двинулись на поклон московскому царю.
То была, может, самая счастливая пора Алексеева царствия.
Окруженный полками, сошел великий царь с Девичьей горы и стал против Малаховских ворот.
В доспехах, под знаменем, на зеленом холме – царь был сама радость и величие. И шли к тому холму польские хоругви, клали у подножия знамена и бунчуки, а хорунжие, поручники, капитаны и ротмистры всходили на холм и кланялись.
Одна печаль была в тот день у Алексея Михайловича: гарнизон Смоленска был мал и поклонение кончилось уж очень скоро.
Две тысячи солдат, пройдя перед государевым холмом, построились, ударили в барабаны и пошли в литовскую сторону.
Было это 23 сентября, на праздник Зачатия славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.
И как ушли поляки, подошел к государю Никита Иванович Романов и, склоня седую голову, сказал:
– Воистину был я как Захария, отец Иоанна Крестителя, который в святилище Иерусалимском видел и слышал ангела, говорившего ему: «Твоя молитва услышана, жена твоя родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И не поверил Захария ушам и глазам своим и был наказан немотою до дня рождения сына. За неверие наказан. Также и я должен бы сегодня лишиться своего вредного языка. Но, признаюсь тебе, царь великий и радостный, не ради одного неверия супротивничал, печаля тебя, света нашего. Пуще гнева твоего, а может, и самой смерти пуще боялся я, старый пень, самоуверенным-то словом твое государево счастье спугнуть. А ныне уж и не боюсь. Вот он, Смоленск, отворивший перед тобою все свои ворота. Владей на вечные времена!
И обнялись племянник с дядюшкой, и смешали слезы прощения и радости. И на радостях ударил Никита Иванович государю селом Измайловом на царские его расходы.
16
25 сентября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, на царском стану перед Малаховскими воротами казанский митрополит Корнилий освятил тафтяную, походную стало быть, церковь во имя Воскресения Христова.
После обедни бояре, окольничие, стольники, стряпчие, представители московского дворянства и дворяне от других городов поздравляли Алексея Михайловича со Смоленском, подносили ему хлебы и соболей.
Все поздравлявшие были званы на царский обед в столовый шатер.
Государь указал всем быть без мест, то есть не придерживаться строгой родословной лестницы, и всем быть веселыми ради великого государева счастья.
На тот пир пригласили и казаков с наказным их гетманом Иваном Золоторенко.
Жаловал государь воинов кубками вина из своих рук: боярам, окольничим, головам стрелецких полков, сотенным головам своего, государева, полка, казакам, а также царевичам, грузинскому и сибирскому, сидевшим с государем за одним столом.
Велика была радость, и печаль была велика. Привезли государю два письма. В одном князь Хилков извещал скорбно, что боярин князь Михайла Петрович Пронский умер от морового поветрия 11 сентября. А другое письмо было от думного дьяка Алмаза Иванова: боярин князь Иван Васильевич Хилков умер от морового поветрия 12 сентября.
Государю и радость, и горе – дело. Отправив к московским засекам гонца с указом о назначении московским начальником боярина Ивана Васильевича Морозова, Алексей Михайлович отправился в Смоленск. Подивился мощи стен, осмотрел пушки и места проломов.
В этот свой приезд Алексей Михайлович пригласил смоленскую шляхту на свой, государев, пир, на котором угощались также есаулы государева полка.
Кончились пиры, и на три дня зарядил осенний дождь. Все чихали, перхали, и государь решил, что пора становиться на зимние квартиры. Но где? В Москву хода нет, Смоленск войной разрушен, припасами беден. А главное, хоть и свой, но все же на исконной-то земле покойнее.
– Пошли, государь, в Вязьму! – предложил царю Борис Иванович Морозов, а царь и сам знал, что лучшего города на сегодня у него и нет, не хотел только сам про то объявить.
5 октября царский поезд двинулся по хорошим еще дорогам в Вязьму. В день отъезда царя порадовали сеунчем о взятии города Горки, а по дороге еще одним: сдались на милость московских воевод Дубровны.
17
Он открыл глаза.
Пчела, жужжа, поднялась с цветка, повисла в воздухе, трепеща крылышками, и снова опустилась, почти упала в белую чашечку.
Он не знал, кто он, где, почему.
Пчела снова зажужжала, и он догадался: это она его воскресила из мертвых.
Он так и подумал: «Воскресила из мертвых». И сразу кое-что сообразил. Если воскрес, значит, умирал.
– Меня Саввой зовут, – сказал он пчеле, снова закрывая глаза.
Он все вспомнил. Ночь. Смоленская стена. Башня. Далее нить обрывалась, но на стене он был в августе, а тут – яблоня цветет!
«Может, я на том свете?»
Он пошевелился. Ноги целы, руки целы. Стало быть, душа с телом не рассталась.
Чуть запрокинул голову, чтоб углядеть, где же он, в каком таком саду. Увидел яблоню и пожухлые редкие листья. Видно, яблоня зацвела по осеннему теплу. Савва успокоенно вздохнул и заснул, похрапывая, с улыбкой. Как живой человек заснул.
И видел Савва: лежит он на осенней, на бурой неласковой земле, а над ним снега. Такие сугробы, что и вовек не выкопаешься. Но дивное дело! Лежит под спудом, а что наверху делается, видит очень даже ясно. Прилетела птичка. Вроде бы синица. Получше пригляделся – нет, не синица. Головка черная, и спинка тоже, а вот на шее и на груди белое. Такая чистая птичка. И принялась она в снегу купаться. Раскидывает туда-сюда снег, а Савве жалко ее. Ну где ж такой крохе к нему через три сугроба пробиться?! Хотел помочь ей, снизу покопать, а силы – ни в руках, ни в ногах. Глядь, другая птичка-невеличка. Обе захлопотали. Стыдно ему смотреть, как такого большого такие крохи спасают, себя не жалеючи, но как помочь птахам? Тело будто цепями сковано. От горя-то и вздохнул. Вздохнул, а снег тотчас и подтаял. Засмеялся Савва от радости и принялся дышать, дышать…
Тут и пробудился.
Улыбаются.
Ему улыбаются. Женщина. Никогда не виданная, но знакомая. Прекрасное лицо, усталое, нежное.
«Опять сон», – с тоскою подумал Савва, но женщина подала ему серебряную чашу:
– Выпей!
Он знал этот голос. Когда – неведомо, но знал. Она сама приподняла ему голову, и он прильнул к чаше и выпил ее до дна, охваченный жаждой. Только с последней каплей почувствовал: горькое питье, жестоко горькое. Но ничего не сказал.
– Я молюсь за тебя, – прошептала женщина.
И он только теперь увидел, что перед ним монахиня. Она перекрестила его и ушла.
Вот тогда-то он и догадался! Это была одна из птиц, выручавших его из-под сугробов. Та, что с черными крыльями и белой грудью. После того сна пошел Савва на поправку – продышал, значит, в снегу дырочку для жизни. Сначала поднялся по нужде сходить, на другой день в сад насмелился выйти.
И тут-то и стало ему опять казаться, что монахиня, которая улыбалась ему да в птицу оборачивалась, – сон. Ну а как же не сон, коли то женщина, то птица. Сон и есть.
Другая птица, что сугроб крылышками разметывала, не показывалась в человечьем облике. Но Савва и ее узнал. То была Енафа. Да вот о чем думалось наяву: все ли в том сне было сном?
В монастырском лазарете за ранеными ходили монахини. Все больше пожилые, с лицами строгими, отрешенными. Иные словечка не скажут. Выслушать выслушают, все исполнят, глаз не отведут в сторону, но – ни словечка! Молчальницы!
Савва, где можно было, шастал по монастырю – искал знакомое лицо. И не находил. В женском-то монастыре кругом запретные места. Для раненых монашенки отвели двухэтажный дом с яблоневым садом, ну и в церковь еще пускали. А дальше – ни-ни!
И тут новое наваждение. Что ни ночь, Енафа снится. Да ладно бы по-бабьи, когда сон в краску вгоняет. Нет! Снится она ему – девочкой. Идет он лесом. Не так, как все, а вроде бы по вершинам. Лесу конца нет, и тут вдруг дорожка между деревьями, а на дорожке – девочка. Сверху плохо видно. Савва наклонится, как с небес, с вершин елок-то, изогнется и увидит – Енафа. Или по реке плывет. Плывет, плывет, а берега нет. Хоть утони. И вдруг – Енафа. Гребет. Савва к Енафе из последних сил. И вот он, берег, а на берегу махонькая девочка.
И еще снился луг. Цветы по пояс. И все невиданные. Один другого краше. Сначала покойно идти по такому лугу, а потом – страшно. Ни дерева, ни избушки – цветы, цветы, и все глазастые. Глядят на Савву и тянутся к нему со всех сторон. Листья у них с лапками, царапаются, как майские жуки, за руки хватают, за ноги.
Страшный сон, и конца ему нет. Да вдруг – девочка! Стоит одна. Стоит себе и стоит. Савва глаза от солнца рукой прикроет – Енафа!
Окончательно придя в себя, Савва понял, что по чьей-то оплошности принят он монахинями за человека не только белой кости, но и крови голубой. Виданное ли дело! Немецкие офицеры: полковник, два капитана – и свои: стрелецкие головы, сотники, есаулы – лежат в палатах человек по десяти, по двадцати, а у него келия, от него сиделки не отходят.
Савва, когда поправляться стал, пошел к простым стрельцам, а те при нем слова лишнего не скажут. Не чета, мол, мы тебе, к своим ступай.
Игнашка-драгун, без обеих ног, напрямик брякнул:
– Чего ты к нам ходишь? Мы люди простые, неумные.
– Так ведь и я простой и неумный!
– Не прикидывайся, господин! – рассердился Игнашка-драгун.
– Да откуда ты взял, что я господин?
– А оттуда, что по всему видать. Ты – птица высокая. И в сад его носят, и молебны возле его постели служат.
– Про то не помню, – сказал Савва, – без памяти я был. Может, ты и правду говоришь, а может, и врешь как сивый мерин.
– Был я мерином, был, – сказал Игнашка-драгун, – да вот поубавили меня, и ныне я не мерин, а вроде глиняного болванчика… Коли нами, простолюдьем, не брезгуешь, возьми меня, господин, к себе в хоромы. Заместо собаки возьми. Меня и учить не надо на задних лапах стоять.
Савву даже слеза прошибла.
– Да что же вы, мужики, напраслину на меня городите? Колодезник я. Простой колодезник… А то, что в сад носили… Пожалели, значит. У вас вон и то, и се, но ведь вы хоть себя помнили. А я только неделю назад узнал, что жив, имя свое не сразу вспомнил.
– Все равно брешешь! – сказал стрелец со свернутой набок шеей. – К тебе, когда везли нас, сам царь подходил. Я рядом лежал и слышал, как он сказал возницам: «Берегите его».
– Ну и подходил! – рассердился Савва. – Потому и подходил, что мы с ним – знакомые!
– С царем?!
– С царем.
– Хорошего ты себе товарища сыскал!
– А я его не искал… Так уж Господь распорядился: сначала царь меня выпорол, а потом пожалел.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.