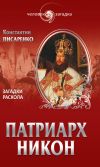Текст книги "Никон (сборник)"
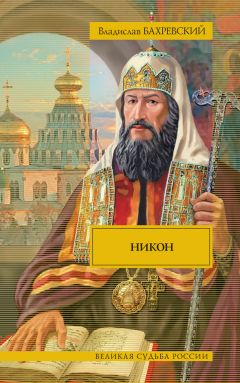
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр: Исторические приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
И сам, вытащив из-за пояса пистолет, поскакал в проулок.
Пришла вдруг дурная мысль: а что, если чумной в его двор забежит, ведь тогда и домой к себе не войдешь.
Детишек представил, Любашу. На лбу испарина выступила.
– Господи! Упаси нас, Господи!
20
Полковника Андрея Лазорева не взяли в смоленский поход ради слабого здоровья, а еще потому, что человек он надежный. Верный, умный человек. И хоть Лазорев приходил жаловаться на судьбу своему благодетелю Борису Ивановичу Морозову, тот сказал ему честно:
– Я сам просил государя оставить тебя в Москве. Тати небось уж руки от радости потирают, почитая себя ныне хозяевами не токмо темных, но и денных слобод и улиц. Будь же в ответе, Андрей, за покой домов наших, наших жен и чад. В награду обещаю тебе сельцо душ на двадцать.
Хорошие слуги на виду не перечат. Никон пожелал, чтобы Лазорев с его драгунами охранял царицын поезд, но князь Пронский полковника не отпустил.
– В Москве пустобрехи того и гляди бунт учинят. На кого тогда положиться?
И Никон, покидавший Москву в недобрый час, промолчал.
Так вот и решилась судьба полковника Лазорева и его семьи заодно.
Моровое поветрие…
И скоморохам не тягаться с потешником, имя которому Страх.
На врага – сабля, на черта – крест, на чуму ничего нет у человека. Сиди и жди – всего ума.
Однако ж и тут исхитрились. Мужья отрекались от жен, жены от мужей и детей, и вместе – от мирской жизни. Постригались в монахи целыми семьями, принося в монастырскую казну все свое имущество, лишь бы живу быть! Постригся в те дни и Семен Башмак, ведавший в Сибирском приказе пушной казной. Богат был Башмак, за сорок лет службы от сибирских атаманов набежало и в его сусеки! Да ведь и дня жизни за серебро, за золото, за соболью шубу – не купишь. Судьба у Бога на небе!
Побежал Башмак от царя и от себя самого – к богу. В Чудовом монастыре постригся. Был Семен Башмак – стал старец Савватий Башмак, не отлепилось прозвище.
Потихоньку Лазорев домой ехал. О Башмаке чего-то вспомнил, о самом себе раздумался. Подвела его добрая служба. Ладно бы его, но и семью… Мор не затихает. Вот и нынче незадача. Не нашли убежавшего.
– Беда, – сказал Лазорев и, уронив голову на грудь, забылся короткой дремой.
– Полковник!
В сердце, как кулаком, поддало. Открыл глаза – конь у ворот, а на заборе человек. Ковригин.
– Стой! – крикнул Лазорев. – Назад! Богом молю!
– Черта с два, полковничек! Я давно тебя тут дожидаюсь. Ты – мне, я – тебе! Ты у нас правдой жив, вот я и погляжу, для всех ли одна правда. Для себя небось и у тебя, правдолюбца, – иная.
Купец засмеялся и прыгнул внутрь двора. Лазорев встал ногами на седло, вскочил на забор. Купец, хохоча, шел к крыльцу. Лазорев поднял пистолет, выстрелил.
Визжа, как бешеная кошка, Ковригин катался по земле, и проснувшиеся домочадцы Лазорева бежали к раненому со всех сторон.
Андрей прыгнул во двор.
– Не подходите к нему!
Снял с пояса другой пистолет. Выстрелил.
– Соломы! Дров! Огня! Сжечь!
Костер запылал огромный, смрадный. Проснулись соседи, думали, пожар.
К людям вышел Лазорев.
– Ко мне во двор чумной прыгнул. Скажите стрелецкому голове, чтоб поставил вокруг моего двора засеку. Никого со двора не выпускать. Побежит моя жена с детьми – стреляйте, сам я побегу – стреляйте в меня. А теперь расходитесь, и дай вам Бог спасения.
Увел во двор коня. Ворота запер. Домой не пошел. Велел затопить баню. Одежду, хоть и дорогая была, сжег, сапог и тех не пожалел.
Вместе с солнышком в опочивальню явился.
Любаша ждала. Помолились. Легли. Обвила руками:
– Не ко времени нам помирать! Не ко времени!
И любила, и пылала, словно впрок любовью запасалась.
Давно соборная кремлевская площадь не видала столько народа. Молча стояли люди. Ждали конца обедни. Князь Хилков с выходом замешкался. Пошел к иконам приложиться да и чмокал всех святых, ни одного не пропуская.
Князь Пронский поглядел на рвение товарища своего, вздохнул и один предстал перед Москвою.
Тогда двинулся к нему из толпы человек, неся перед собою большую икону Спаса. Лик безобразно выскребен, нимб и тот попорчен.
– Говори, Лапотников! – крикнули из толпы.
Несший икону поднял ее над головой и стал рассказывать Пронскому:
– Взяли у меня образ Спаса на Патриарший двор, а вернули из тиунской избы, словно татя. Велено переписать. Только было мне видение от иконы. Обозначилось вдруг прежнее лицо Спасителя, и был глас: «Покажи содеянное со мною мирским людям. Кто правдой жив, тот за меня станет!»
Говорил Лапотников негромко, но толпа слушала его, затаив дыхание, и всем было слышно.
Кто-то один сказал:
– Мы пришли за патриаршим греком! Патриарх дал ему волю книги исправлять, а грек все книги перепортил.
Потом сказал другой:
– Арсену Греку смерть Соловками заменили, а патриарх его Москвой пожаловал! Своим Патриаршим двором!
И тут заголосила баба:
– Патриарху пристойно быть на Москве, за нас, православных, Бога молить! А он выдал нас, сирот, Антихристу!
Бабу потолкали в бока, затихла. Опять стал говорить Лапотников:
– Боярин, отпиши царю, царице и царевичу, чтоб патриарх и Арсений Грек не утекли в заморские страны. Всю правду отпиши! Попов у нас нет! Глядя на патриарха, разбежались.
Князь Пронский подождал, не скажут ли еще чего, и, перекрестясь, стал держать ответ:
– О всем, что просите, напишу к великому государю, к государыне царице и к царевичу. О патриархе же слова ваши непристойны! Святейший патриарх покинул Москву по указу великого государя. Пришлите ко мне людей, которым верите, я покажу им государеву грамоту.
На то князь поклонился людям и пошел во дворец, и люди, постояв и поговорив меж собою, стали расходиться и разошлись.
Не сразу и глазастые приметили – среди дня темнеет.
Собаки первые всполошились, такой лай и скулеж пошел, что и люди наконец на небо поглядели, а там – солнце на ущербе!
Ветер поднялся. Нехороший ветер! Как из задохнувшегося погреба – дохнуло на Москву.
Замычали коровы на лугах.
Кошки брызнули по улицам, словно кто их в мешке держал. И все черные.
Тьма пожирала солнце не торопясь, и люди смотрели на небо, ожидая Страшного суда, ибо все к тому сходилось: война, чума, Антихрист, испортивший святые книги, погубивший святые иконы.
Любаша, полковничья жена, собрала в тот немилосердный час всех чад своих на своей постели, и полковник Андрей к ним пришел.
– Господи! Об одном молю: не разлучай! – всего и попросила у Бога Любаша.
Ничего, однако, страшного не случилось. Завечеревший на середине день снова набирал силу. Света прибывало с каждой минутою, и вскоре солнце сияло по-прежнему.
Тут и кинулись москвичи, захватив с собою испорченные иконы, обратно в Кремль. Собрались с великим галдежом и угрозами у Красного крыльца.
Князь Пронский опять вышел к людям один. Хилкову занедужилось. На князя махали выскребенными досками, орали друг перед дружкою:
– Мы разнесем порченые доски по всем слободам!
– По всем сотням!
– Коли с патриарха нет спросу, с вас, бояр, спросим!
Пронский кланялся рассерженным людям в пояс, а потом и сам закричал:
– Да что ж вы с меня спрашиваете и за что?! Кому худа желаете, и так уж хуже некуда! Вы в чумном городе, и я с вами! Я от чумы не бегаю! Своего часа жду честно. Коли вам помирать, так и мне. А даст Бог жизни – будем жить! Бог затмил солнце, Бог и свету дал.
И заплакал. И люди заплакали.
Поразмыслив, выкликнули гостиной сотни троих купцов, послали с князем о делах говорить. Князь об одном просил:
– Ради бога, не будоражьте людей в лихой час! Зачинщиков всячески унимайте. Толпа для мора – большая потеха.
Купцы с князем во всем были согласны.
Показал он им грамоту, присланную от царицы. До царицы дошло, что недобрые люди о патриархе распускают богомерзкие слухи.
Прочитав царицыну грамоту, купцы тотчас ударили челом: сами они о патриархе бесчестных слов не говаривали, а коли услышат, то заводчиков воровства велят поймать и к боярам привести. Однако пусть патриарх пожалует Москву, пришлет обратно убежавших попов, чтоб было кому служить в приходских церквах.
На том и потишало волнение. Сникали люди, мор с каждым днем усиливался. Стало некому умерших подбирать.
21
Полковник Лазорев поутру, как было у него теперь заведено, обходил двор, проверяя посты, которые он надумал выставлять на ночь якобы от чумных – не дай бог, еще кто-нибудь во двор пролезет, – а на самом деле от своих: вдруг надумают бежать, заразу по Москве разносить.
Под утро прогремела короткая гроза, дождь умыл землю, и Лазорев тоже почувствовал себя молодым, сильным – на коня бы да в поле!
«Коня надо проведать», – решил он, продолжая обход и окликая дворовых: все ли на месте, здоровы ли?
Все были на месте, все были здоровы, и мелькнула у Лазорева проклятая мыслишка: пронесет! Как бы ни был силен мор, не все же помирают. Кто-то и останется. На развод.
Веселость и легкость, бродившие в крови, Лазореву не нравились, попробовал принахмуриться, да рассмеялся. Два воробья таскали у петуха корм. Пока петух кидался на одного, другой воровал.
Лазорев зашел в конюшню. Конь, нетерпеливо перебирая ногами, заржал.
– Ах ты, как обрадовался! – Андрей пошел было вглубь конюшни и – встал.
В яслях корчило старика конюха.
Перехватило дыхание, отступил, выпрыгнул за дверь. Закричал, себя не помня:
– Дегтя! Смолы! Огня!
Сам убежал в баню.
Вечером за ним пришла Любаша.
– Отворись!
– Нет, Любаша! Ты ступай, живи. Тебе к детишкам надо.
– Отворись! – повторила. – Зачем нам… в такие дни друг от друга хорониться? Может, дни-то последние.
Он подумал-подумал и покорно отворил дверь. Не зная, как выразить жене любовь свою, сказал:
– Умру за тебя!
– А я умру с тобой, – ответила Любаша. – Дня без тебя на белом свете не останусь.
И смотрели они, сидя на порожке, на звезды. Звезд было видимо-невидимо.
– Матушка моя любила на звезды смотреть, – сказала Любаша. – Матушки давно уже нет, а звезды светят и светят. И после нас будут светить.
– Ты про что? – испугался Лазорев.
– А не про что! Хорошо, коли есть вечное. Не забудут они нас.
– Кто не забудет?
– Луна, солнце, звезды, Господь Бог.
– Чудно ты говоришь, Любаша.
– А что ж чудного? Не хочу, чтоб про нас с тобою забылось. Я так люблю тебя, что об одном только и жалею: не могу дышать твоим дыханием, не могу твоим сердцем стучать.
– Да ведь и слава богу, что мы не один человек. Слава богу, что двое нас.
Утянула Любаша Андрея в баньку, а когда налюбились, спросила:
– Неужто нам отсюда хода нет?! Царица с патриархом уехали. И боярыня Морозова с ними. И все иные… Что ж мы-то сидим и ждем?
– Теперь поздно уезжать, – сказал Андрей.
Она посмотрела ему в глаза.
– А если бы… а если бы я… побежала?.. О! Я вижу, как ты смотришь. Ты ради царской службы и меня бы не пощадил?
– Зачем ты так говоришь? – Андрей опустил голову. – Да ведь если бы и побежала отсюда, так то была бы уже не ты, не Любаша.
– Но кто же?
– Та, что охотится за живыми.
Жена перевела дух.
– А ведь и правда… Господи, ведь никогда и не думалось, что жить так хорошо. А ведь хорошо, Андрюша?
– Хорошо, Любаша.
– Ах, коли можно было бы с конца да назад все прожить, все самое хорошее. Да и плохое тоже.
– А пошли-ка спать-почивать, – сказал Андрей. – Утро вечера мудренее.
Нет, не всякое утро мудренее вечера. Не всякое.
22
Сел Андрею на голову красный петух.
Проснулся – кругом пламя. На потолке, на стенах, сам воздух в огне. Поглядел на руки – с пальцев огонь стекает, снизу вверх.
«Горим!» – хотел закричать Андрей. И не закричал: побоялся пламенем, сидящим у него в груди, сжечь дом, двор, а то и всю Москву.
Однако ж тотчас и пожалел, что огня из себя не выпустил. Стало его распирать огнем во все стороны. Прошиб головой крышу, проломил задом постель, боками – стены. Зубищи, как у верлиоки, все клыками стали. С каждого клыка – огонь и кровь.
«Боже ты мой! – завопил Андрей. – Да бегите же вы от меня прочь, люди! Сожру вас всех! Кого не сожру, сожгу!»
– Любаша, беги! Прячься! Я иду!
Но Любаша, крошечная, ему по голень, тянула к нему руки и не бежала от него прочь.
Тогда он застонал, грохнулся с высоты оземь и рассыпался жалящими насмерть искрами.
23
Письма Пронского и Хилкова на имя царицы передавали через огонь.
Первые письма Никон нетерпеливо принимал от Арсена Грека и читал.
На этот же раз он убрал руки за спину, а на Арсена Грека закричал:
– Что вы всякое мне под нос тычете? Для того ты и состоишь при мне, великий грамотей, чтоб читать и писать!
Арсен Грек поклонился и прочитал письмо, в котором князь Пронский сообщал о волнениях, о том, что мор усиливается, померших сосчитать невозможно. Сообщал также, что некая Степанида Калужанка рассказывает с папертей о видении: мор послан в наказание за печатанье новых, испорченных греками книг. О том же проповедует и ее брат Терешка, хотя рассказывает иное видение.
– Садись и пиши! – приказал Арсену Никон. – Степанида с братом своим Терешкою в речах рознятся. Значит, врут! И вы бы впредь таким небыличным вракам не верили. Печатный двор давно запечатан. Книг не велено печатать для морового поветрия, а не для бездельных врак! Так все и напиши, как я сказал. И про враки оставь. Высек бы за враки всех, да ведь им, злодеям, даже чума не страшна.
Царицын стан был на реке Нерли.
Луга цвели в тот год, как перед концом света. Цветы лезли из земли красоты невиданной, лохматые, глазастые. Грибы росли колдовские – кругами. Меж деревьями порхали синие сойки, лебеди на реку садились черные, красноклювые, со змеиными шеями.
И вдруг – заморозок. Посреди лета!
Проснулись, а трава поседела. Даже Никону страшно стало.
Но к тому времени он уже знал: всюду мор – в Нижнем Новгороде, в Калуге, в Торжке, в Твери, в Туле и Рязани, в Угличе и Суздале, в Переславле-Залесском, в Звенигороде, а вот в Калязинском монастыре покойно.
Как проснулась царица, так тотчас собрались, и огромный поезд тронулся в путь. В Калязин.
24
На войне так не берегутся в походе, как Никон шел. Впереди три разведки: дальняя, средняя и короткая. И не зря.
Уж солнце садилось, когда вдруг скачут, машут, кричат:
– Стой! Впереди через дорогу перевезли мертвое тело!
Стали. Через полчаса новый гонец.
– Перевезли тело дворянки Гавреневой. Умерла от чумы.
– Сколько верст до заразного места? – спросил Никон.
– Али пять, али семь!
– На дороге и по обеим сторонам сажен на десять, а то и на двадцать накласть дров и место выжечь. Да смотрите – гораздо выжечь! – строго-настрого приказал, а сам пошел успокоить царицу.
Мария Ильинична сидела, затворясь, в карете, царевич Алексей Алексеевич был с нею.
Сверху с кареты спустили полог, Никон вошел под этот полог и только потом отворил дверцу.
– Что там? – осторожно спросила Мария Ильинична, а у самой страх в глазах.
– Дорогу починяют, – сказал Никон. – Дорога нехороша.
– Я слышала – чумную перевезли. Рисковать-то я не вольна, – снова сказала Мария Ильинична, указывая глазами на спящего в пеленках царевича.
– Беспокоить тебя попусту не хотел, великая государыня, – признался патриарх. – Я приказал место выжечь. Огонь спалит заразу.
– Землю тоже надо бы срыть, – сказала царица.
– Как же без этого? Обязательно сроем. Сажени на полторы на дороге и на сажень по обочинам.
– От царя вестей нет. Я уж плакала нынче.
– Ан и напрасно! – улыбнулся Никон. – Письмо есть! Я его тебе, царицушко, принес. Заплутало письмо, ища наш поезд. А письмо доброе. Почитай-ка вот.
Письмо было короткое, писанное с первой до последней строки рукою Алексея Михайловича.
«А об нас бы вам не печаловаться, – писал государь, – а мы милостью Божиею и отца нашего великого государя, святейшего Никона, патриарха Московского всея Великая и Малая и Белая России молитвами, в своем государеве походе. А мы, перебрався на вьюки, пойдем сего дня на Смоленск. А грязи непроходимые, и того ради дела Божия не оставим».
– Ах, святейший! Ах, милый ты человек! Все-то успокоишь и обрадуешь. Я коли смела, так одними твоими молитвами. – Царица вдруг взяла Никона за руку и прижалась к ней щекою, слезы так и закапали из прекрасных глаз.
Никон смутился царицыному порыву. Благословил ее, благословил кормилицу и младенца.
– Распоряжусь пойду.
Вышел из кареты и, отойдя от нее подальше, приказал своему человеку Агишеву:
– Скачи на то место, где дорогу выжигают. Как выжгут, пусть уголье, пепел и землю снимут на сажень. Старую землю пусть увезут версты за две – за три, а на старое место пусть новой земли насыплют.
Агишев ускакал.
– Помолимся! – сказал Никон свите. – Под частыми звездами, под куполом небесным, как молились издревне пустынники и пророки. За бедную нашу Россию, казнимую недугом.
Глава 10
1
Небесный купол над Рыженькой был столь чист и высок, что Малах только вздохнул. Под такою-то синевой творилось на земле великое несчастье. Откуда его надуло, одному Богу известно. От дождя – крыша, от половодья – лодка, от морового ветра и в подполье не отсидишься.
За три дня половина Рыженькой померла. Кинулись к монахам, чтоб отмолили напасть, но монастырские ворота затворились перед толпою. Приходский поп Василий в первый день мора скончался, дьячок во второй. Ходили всем селом на святой ключ. Омылись, окропили дома и дворы, но болезнь не убывала.
Малах ударил в било. Люди сбежались в надежде услышать, где и как искать спасения.
– Надо мертвых похоронить, – сказал Малах. – От их смрада болезнь настаивается и крепчает.
– Кто же убирать будет? – удивился Емеля. – Страшно!
– На «Отче наш» будем считаться, – предложил Малах. – На кого падет «Аминь», тот и могильщик. Троих будет достаточно.
Посчитались. Трое мужиков, одевшись в белые рубахи, выкопали под горою яму, снесли в нее мертвых, яму закопали, а на следующий день сами померли.
Тут, однако, болезнь замешкалась. Помирать люди помирали, но уже не косяком.
Черными тараканами побежали из монастыря монахи. Что для чумы каменный забор? Может, и повыше избяного, да на много ли?
Жители Рыженькой снова вышли на улицу выбрать могильщиков.
«Нынче на меня счет падет», – подумал Малах и не ошибся.
Настена, дочь, заголосила, но Малах цыкнул на нее.
– Мирское дело – доброе, – сказал он, ожидая себе товарищей.
Жребий пал на старика и на Емелю. Все трое были спокойны, но тут ударилась народу в ноги Матрена – мать Емели.
– Дозвольте мне сыновье место заступить! Весь корень наш переведется.
Емеля покраснел от такого заступничества, набычился, набираясь гнева, но Малах сказал ему:
– Мать права: мельчает народ. Живи, Емеля, плодись! Даст Бог, минует тебя черная болезнь.
Люди не расходились, ждали от Малаха какого-то доброго, ограждающего от беды слова. Тогда он сказал им:
– Мы, как свое дело сделаем, в баньках поселимся. Вы же ступайте истопите нам бани, чтоб помыться нам было где, и те баньки закидайте сухим хворостом. Коли помрем, баньки надо будет тотчас сжечь.
Прежде чем взяться за дело, вымазал Малах дегтем свою одежду. Дедок с Матреной не стали пачкаться.
Малах не только покойников похоронил, но и скарб их собрал и сжег. Потом и с себя снял одежды, тоже в огонь бросил.
В баню пришел голяком. Баня, обложенная хворостом, была истоплена, щелок наведен. В предбаннике порты и рубаха, хлеб, лук, соль, бадья с квасом.
Вымылся Малах, квасу попил, хлеба поел. Лег в предбаннике, а ночью в баньку перешел.
Утром выглянул – горит банька дедка.
«Один готов», – подумал.
Вечером запылала баня Емелиной матери.
– Теперь мой черед! – сказал себе Малах и стал ждать смерти.
Впервые за свои полвека остался он без дела. Бывало, осердясь, грозился домашним: «Лягу на печи – пальцем не шевельну! Живите своим умом, своими досужими руками».
Полежал на высохшем полке, попялился в потолок, ища в себе зачатки болезни. Болезнь, ввалившаяся в Рыженькую, была скорая. Малах сам видел: едет человек на телеге, вдруг – торк головой в колени, и все. Умная лошадь станет, а которая шалава – летит, пока телегу не расшибет и сама не расшибется.
Полежавши, встал. Осмотрел печь. Не все камни стояли прочно. Трещины в кладке, над каменкой как раз. Пошел было кликнуть Настену, чтоб несла ведро, воду, глину… Да и прикусил язык.
Настена сама, будто почуяла, что нужна, вышла в огород, сложа ладони у рта, крикнула:
– Папаня!
– Ну чего?! – откликнулся Малах. – Соскучилась?
– Па-па-ни-чок! – радостно взвизгнула Настена. – Живый!
– Ишь, рот раззявила! – рассердился Малах. – Мор ветром носит! Сиди в избе, коли жить хочешь. Прочь!
И сам на себя обиделся:
«Дочь с лаской, а он как бык! А слова-то от тебя, может, последние слышала. Хорошо напутствие – „прочь!“ Скотина и та нежнее друг к другу».
В сильной тоске лег Малах на пол и стал вспоминать грубую жизнь свою. Все делалось с руганью, с битьем! Потому что тяжело ведь! Мужик и мураш одного племени.
Попробовал представить всю свою работу, собрать ее в одно – велика ли копешка? Не получилось. Пахал, сеял, косил, жал, рубил, метал, тянул, забивал, резал, мазал, клал… А еще ведь строил, искал, возил, собирал… Нет, все это в одно не соберешь. Как дождь, ушло в землю. А из земли – трава.
И вспомнилось вдруг: косит он, трава яхонтами, над ним – над самой головой – жаворонок. И кто кого? У Малаха руки занемеют, в спине немота, а жаворонок – поет. Как привязанный к небу! Но и у него силенки тоже не покупные, с верхов-то, из-под облак-то, потянет его к земле, и песня – тыр-пыр. Да и спохватится – мужик знай себе косит. Тут жаворонок зазвенит на весь луг и, как со дна реки, – толчками: вверх, вверх! И голосок-то уже у него не серебряный – золотой. Как и не позолотеть у солнышка под боком?
И еще вспомнилось. Экие глупости в голове сидят. О дельном о чем подумать, так нет! Вспомнилось, как впервые залез к девке за пазуху. Все одногодки уж про то бахвалились, а ему и стыдно – поотстал. Ну, случилось наконец. На Купалу. Попридержал девку за деревом, как к реке шли, да и лапой через ворот. Цапнул! И в жар кинуло. Боже ты мой! Ну, словно птенчика в гнезде поймал. Бьется тот птенчик, торкается жилками, теплый, нежный!
Чуть на колени не бухнулся перед девкой. Упаси бог – не ради прощения! Ради того тепла живого, что носила за пазухой.
Никогда в жизни не поднял Малах на жену руки. И она его любила. Чего-нибудь мастерит, шлею шьет, хомут, поднимет глаза, а она – смотрит. Дети про тот материнский погляд знали. Перед всей деревней гордились: папаня маманю ни разу не побил. Мужики-то сперва всё похохатывали над чудным Малахом, а потом признали верх над собой, его ум признали.
…Ночью Малах смотрел на звезды. Ох и падали! Не зря говорят, у каждой души – своя звезда. Пала звезда – значит, и человек угас.
Грешным делом, искал Малах среди дружно мерцающего скопища ту, что ему была определена. Да ведь как пшена в мешке. Одни горят ясно, чинно, не вздрогнут, другие ж так и этак себя выказывают: и синим, и красным. О чем волнуются – Богу понятно, а человеку – нет!
Спал Малах недолго. Петухи разбудили. Орали, как на пожар. Заря и впрямь разгоралась на полнеба. Малах в щелку глядел. Цветок ему на глаза попался – петров кнут.
Этот всю красоту свою, всю синеву для солнца бережет, на ночь сворачивается. Глядел Малах, как медленно, недоверчиво разжимал петров кнут лепестки-ресницы, но солнце взошло, и все свои синющие глаза так и вытаращил.
– Живу, – сказал себе Малах, виновато улыбаясь в сторону сгоревших банек.
И так захотелось жить! Не лучше, не хуже – по-прежнему. Таскать, носить, пахать, косить…
– О господи! – Аж в груди всхлипнуло.
Хотел молитву прочитать – побоялся. Что, если… жизнью-то правит другой? Недаром ведь угодников Господь любит к себе призывать!.. Вдвойне страшно стало… От Господа Малах отступить не смел, а о даровании жизни просить не смел еще более того.
Прошло с полнедели.
И тут в огород заявились Настена и Емеля.
– Папаня! – басом гаркнул Емеля.
– Какой я тебе папаня? – откликнулся Малах.
Емеля и Настена бухнулись вдруг на колени.
– Прости! – взрычал Емеля, мотая лохматой, как у быка, головищей.
– Это что же? – спросил Малах, приоткрывая дверь баньки.
– Согрешили мы! – пискнула, и очень даже весело, Настена.
– Благословил бы ты нас! – сказал Емеля.
– Да я тебя, сукин сын! – заорал Малах, но тотчас и смолк.
– Это я виновата! – храбро пискнула Настена. – Помереть, греха не изведав, боялась.
– Сначала к попу ходят, а потом уж и грешат! – сказал Малах и чуть было не рассмеялся.
– Попы-то все… того, – помолчав, откликнулся Емеля.
– Ладно! – сказал Малах. – Благословлю вас! Встаньте.
Настена и Емеля поднялись.
«А парочка неплохая, – подумал Малах. – Да и работник неплох! Молодец Настена!»
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! – сказал Малах. – Будьте, детки, счастливы. Об одном прошу: поберегитесь. Недельку-другую еще посидеть по избам надо… А теперь, Настена, слушай. Еда у меня кончилась. Принеси и поставь в огороде еды и горшок щей не забудь. Без щей кишка кишке песни поет. И еще поставьте глины, в катухе припасена, да лохань воды. В печи хоть щели замажу… А там как Бог даст. Ступайте, детки, с Богом! Коли мор минет, обвенчайтесь, чтоб честь по чести.
– Кланяйся! – шепнула Настена Емеле.
Тот согнулся, бубня, как в бочку:
– Благодарствуем, папаня!
– Папаня и есть, – согласился Малах и покрутил головой. – Вон как все у жизни. Потому-то и зовется не так и не этак, а зовется – жизнь.
2
К царевнам и к царице все еще приходили от царя письма с жалобами на дорожную великую непролазь, а сами-то дороги уже пообсохли, и Дворцовый полк бодро и весело шел к Смоленску.
Уже намечены были последние два стана и само место под городом, откуда Алексей Михайлович будет смотреть на подвиги своего войска. И тут – гонец. На реке Колодне Передовой полк Никиты Ивановича Одоевского сшибся с поляками: сеча идет жестокая, кому Бог победу даст – неведомо.
Государь по случаю теплой и приветливой погоды ехал в открытой карете – гонца слышали многие. Тотчас бояре из ближних окружили царя, наперебой советуя, что ему надобно предпринять.
– Дойдешь, великий государь, до стана и залегай всем полком в оборону, – предложил легкий на слово и на решение Илья Данилович Милославский, второй воевода Дворцового полка.
– Не разумнее ли отойти на прежний стан? – вопросил царя и самого себя Борис Иванович Морозов. – Может статься, что и разумнее. От прежнего стана мы всего-то верст с десять прошли.
– Меня, старика, послушайте! – Никита Иванович Романов даже шапку снял от волнения, а может, для того и снял, чтоб сединами озадачить зеленую молодость. – Государю на войне не место. Мало ли что на войне бывает. Какой-нибудь заблудший полк выскочит хоть сейчас вот из кустов, и будем мы все в плену. Отступить надо назад, в Вязьму. Если король пожалует под Смоленск, то нас ему непросто будет достать, русские грязи всегда на стороне русских!
Тут Алексей Михайлович и встал в своем возке. Гневно встал, но со словом скорым замешкался. Постоял, помолчал, сел, а уж потом только молвил:
– День нынче пригожий. Бог нас в такой день не оставит. Спасибо вам, добрые мои бояре, за разумные советы. Знаю, печетесь вы о своем государе пуще, чем о себе. А все ж давайте поступим по первому сказанному здесь слову. Илья Данилович до стану, говорил, надо дойти. Вертаться, сами знаете, не к добру. Уж не будем, пожалуй, вертаться-то?
– Верно! – раздались голоса. – Вертаться нехорошо.
– Еще как нехорошо-то!
– Вот и поехали помаленьку вперед! – обрадовался государь согласию в боярах.
Полк тронулся в путь, а возле царя уже объявились Ботвиньев и Перфильев. Было им тотчас сказано: Ботвиньеву ехать в конец полка, торопить отставших, а Перфильеву – в голову, к Артамону Матвееву. Пусть Артамон со своим стрелецким приказом наиспешно идет на реку Колодню и узнает у самого князя Одоевского, нужна ли ему какая помощь.
И, словно бы забыв о всех всполошных тревогах, Алексей Михайлович позвал к себе в карету старичка. Старичок этот, милый праведник и постник, был в старые годы у турок в плену и вместе с войском неистового падишаха Мурада ходил воевать превеликий и прекрепкий город Багдад.
– Поначалу все над падишахом смеялись, – рассказывал старичок. – Пришли под город и хоть бы раз пальнули. Велел падишах траншеи рыть, а всю вынутую землю таскать на вал. Вокруг Багдада вторую стену поставили, земляную. Персы кричали нам со стен: спасибо, мол, была у нас одна стена, а ныне две стало. Только напрасно радовались. Покопали и потаскали мы землицы вволю, до кровавых мозолей, зато потом было просто. Поставил султан Мурад пушки на земляном валу и стрелял по городу не на авось… Турки воюют, себя не жалея. Верь не верь, но чего хочу рассказать, то видел своими глазами. – Старичок даже дотронулся до глаз. – Сам, государь-царь, видел я страшное то видение, и все видели, все войско, и турецкое, и персидское. Один янычар на стену залез, а ему голову-то и срезали… Как сейчас вижу, держит он свою голову рукой за волосья, а саблей кызылбашей, персов значит, рубит справа налево да слева направо.
– Диво! – сказал царь.
– Страшно злой народ в бою, – подтвердил старичок. – В жизни люди как люди, но в бою – упаси господи!
И тут старичок очень зорко поглядел на государя. Беленький, бороденка, как белое солнышко, во все стороны, кожа на шее, как на старом сапоге, обвисла, потрескалась, а глаза – живут, играют.
– Вот скажи мне, великий царь! Был я, значит, в самых что ни на есть басурманских странах. Наслушался, как муэдзины кричат: «Алла бесмела!» Вот скажи: отчего это вера у них – ихняя, а святые-то – наши! В городе Дамаске, в самой что ни на есть мечети, покоится голова Иоанна Крестителя. Уму ведь непостижимо! Посреди мечети домишко каменный, а в нем за зеленым пологом, в зеленом гробу – усекновенная голова… И в том же самом граде, в небольшой совсем церквушке – но уж, слава богу, православной! – уверовал, прозрел, крестился сам апостол Павел… Как же это, великий государь? Святость наша, а володеют ею – они. Нехорошо!
– Нехорошо! – согласился государь и вздохнул.
Старичок тотчас и подбавил заботы:
– Думаю, все беды наши оттого и проистекают, что все мы, грешные, от святых мест отвержены… Сам ты, может, и не знаешь, а патриарху Никону про то Богом открыто. Спросил бы ты у него, будут ли те святые места нашей вере отданы али так, как есть, навеки останется?
Государь еще раз вздохнул.
– Нам бы, господи помилуй, свою бы землю вернуть. Коли возьмем Смоленск, великий камень с души моей спадет. Моему батюшке счастья в том деле не было. А город-то – уж такой русский! Царь Борис еще стены-то возводил – Россию оборонять.
– Выходит, царь Борис крепкие стены поставил на наши же, русские головы!.. – удивился старичок.
– Не было ему счастья. – Алексей Михайлович перекрестился. – Помолись, старче, за мою, государскую, удачу, добре помолись.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.