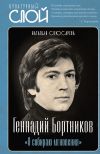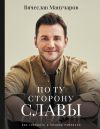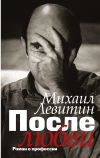Читать книгу "Звук натянутой струны. Артист театра «Красный факел» Владимир Лемешонок на сцене и за кулисами"

Автор книги: Юрий Усачёв
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
6. Исповедь студента
Двоечнику, напротив фамилии которого в журнале грозились поставить пометку «у.о.», было отказано в переходе в 9 класс. «Твое место в ПТУ либо оставайся на второй год», – приговорили в школе номер 99. От одного слова «ПТУ» его передергивало. Деваться было некуда. Пришлось идти в театральное училище.
Ну что значит «пришлось». Лем, как и положено детям актерских семей, вырос в театре. Вся эта волшебная, так сказать, пыль кулис ничуть его не щекотала, а была будничной атмосферой. Кругом репетировали, учили роли, спорили с режиссерами, отмечали премьеры, сплетничали, влюблялись, ну и он воображал свой театр, а чаще кино. Представлял, что его снимает камера, а он играет роль. Бормотал что-то про себя, вел диалоги с воображаемым партнером, а чаще сам с собой. В отличие от отца, на табуретку не вскакивал, что давало основание бабушке Анне Андреевне качать головой: «Нет, Володя не артист. Женя – да, а Володя – нет». Но ему и в голову не приходило, что он будет кем-то другим, например космонавтом. Лет с тринадцати начал отдавать себе отчет, что иные стремления, кроме как в артисты, не имеют места быть. Окончил бы школу, поехал бы в Москву, поступил бы в ГИТИС, блистал бы на лучших сценах России. Но после 8 класса не только в ГИТИС, а и в НТУ было рановато.
Евгений Семенович, принимая меры, обратился к главрежу «Красного факела» Константину Чернядеву, набиравшему курс в НТУ, с личной просьбой встретиться с его малолетним сыном. Беседа была проведена, Чернядев спрашивал, Лем давал витиеватые ответы, в результате был допущен к вступительным экзаменам. На первом туре читал рассказ Бабеля «Смерть Долгушова» из «Конармии». Чернядев немного помолчал, переваривая, и сказал: «Думающий мальчик, я его возьму». Пришлось совмещать студенчество с ненавистной вечерней школой.
В Новосибирское театральное училище поступали солидные господа и прекрасные дамы, то есть законные выпускники десятилетки. Печальный демон, дух изгнанья, был самый младший. Абитура восприняла его как недоросля, была уверена, что взяли в храм искусства по блату. Якобы сыну актера и журналистки все дается легче в разы, ни труда не надо, ни таланта, и все двери распахиваются левой ногой. Ничего, злился Лем, я им еще докажу. Доказал при первом удобном случае.
Начинающие студенты решили устроить день рождения курса и поближе узнать друг друга. Собрались у кого-то дома, набрали винца, расселись на полу, читали отрывки, с которыми поступали в училище. Слушали друг друга уважительно, заинтересованно, что не мешало иногда посмеиваться, перешептываться, перекидываться словом, осторожно чокаться стаканами, употребляя только что освоенную студенческую поговорку «чтоб декан не слышал».
«А теперь ты!» – приказала красавица Оля Розенгольц по прозвищу Роза, в которую все успели влюбиться с первого взгляда. Встал пацан в желтых клешах, испещренных чернильными почеркушками, рисунками Аксанова, записками на манжетах, именами Beatlеs и Rolling Stones. Рядом валялся такой же желтый, разрисованный, видавший виды бомжеватый портфель, набитый всевозможными вещами по принципу «все свое ношу с собой».
Лем пихнул ногой портфель, сердито оглядел публику, кашлянул. Девочки ободряюще улыбнулись. Парни иронически переглянулись. Кто-то завозился, полез в сумку за бутербродом. Скрипнула дверь. Пол начал уходить из-под ног. И вдруг среди зрителей образовалась мизансцена из детской игры «Морская фигура, замри».
Нервные руки, одухотворенное лицо, светлый взгляд куда-то поверх голов, промельк улыбки, печальная самоирония, удивительного тембра голос, и вот это его непревзойденное интонирование, с едва уловимыми цезурами между слогами, с каким-то особым ритмом расставления слов:
«Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны.
– Наскочит шляхта – насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что…
– Нет, – ответил я и дал коню шпоры.
Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво.
– Бежишь? – пробормотал он, сползая. – Бежишь, гад…
Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством»…
Горькую историю о невозможности поступка и несвободе выбора, гуманной жестокости и жестокой гуманности, ужасе смерти и убийства, привыкании к тому и другому Лем рассказал так, будто сам только что оттуда, из военной бригады, от вздыбленной земли. Будто только что прогремел выстрел, избавляющий от страданий раненого товарища, а потом был взведен курок и у него за спиной, мигом покрывшейся холодным потом. Он беспомощно оглянулся назад. Оседала пыль из-под конных копыт.
Первым вскочил Мишка Аблеев, пожал руку. Роза решительно встала, подошла и поцеловала в щеку. Наверняка это означало, что салага пробил брешь во взрослый мир.
Мысли вслух от Михаила Аблеева
– В тот момент, когда он читал Бабеля, я понял, что он уникум. Это для меня было потрясение. Нельзя было это мерить обычным понятием «хорошо» или «очень хорошо» – это было из ряда вон выходящее куда-то за пределы. И все это поняли. Его выступление вдохновило нас! Он был недоволен собой, и это как-то сравнивало его с нами. Мы испытывали фантастические ощущения – мы вместе, и нас ничего не интересовало, кроме того, что происходило между нами. Мы стали курсом новосибирского театрального училища.
Май 2016 г.
С того дня новообразованная троица плюс примкнувшая к ним подруга Розы Люся Лосякова, в силу своей великолепной комплекции получившая прозвище Лось (Аблеев чуть было не женился на ней), стала неразлучной. Образовалось ядро курса, внутри которого созревали грандиозные планы, рождались идеи, делались открытия. Вокруг ядра крутились планеты, носились кометы, группировались созвездия.
В большом перерыве между парами, прихватив с собой бутылицу портвейна, бегали в пельменную за углом, где в лучшие времена брали «четыре гарнира», а в худшие сооружали бесплатную закуску из хлебушка с намазанной на него горчичкой. Скромно кутили по ресторанам, где своим человеком, как, в общем-то, и на курсе, считался Аксанов. Лилась и Лемовка рекою, толкая на ночные безумства, например, проникновение в пустую аудиторию училища через приоткрытую заранее форточку.
Но салага лихорадочно искал путь самоопределения. Он страдал от недоступности великосветских дам, что окружали его на лекциях и после занятий. Первая красавица курса Ольга Розенгольц в качестве бойфрендов выбирала юношей постарше, а этого малолетку считала всего-навсего своим закадычным однокурсником. Роза подтрунивала: «Какая у Вовки мальчишеская фигура». В их кругу сразу выработался такой способ общения – подкалывали друг друга, подначивали беззлобно, но метко, и никто не обижался. И лишь намеки на неравенство лет его изводили, «царапали за самое больное». Комплексы хватали за горло, и оно сжималось в беззвучных рыданиях.
Он даже представить не мог, что через много лет журнал «Театральный мир» напишет: «Про его любовные приключения на курсе ходили легенды». Что очень скоро самая харизматичная актриса Новосибирска будет рыдать о нем. Что в 60 лет, когда его ровесники сильно сдадут, он будет отличаться моложавостью, стройностью, стремительной походкой. А тогда… Никто не отдавал себе отчет, что юность – недостаток, который быстро проходит. Что младший еще достигнет возраста старших, а те уже никогда не будут такими, как он. Каждый совершенно искренне считал, что старость предназначена для других, а они будут всегда молоды, с небольшими перепадами давления. Им было не до диалектики, они были непосредственны, задиристы, насмешливы. И очень ранимы.
На собрании курса решали текущие вопросы. Потом начали о чем-то препираться, кто-то с кем-то повздорил. Заспорили горячо, а Роза усмехнулась: «Да вы лучше у Вовки спросите, он у нас самый умный». Лем, себя не помня, вскочил с места и выплеснул на злодеев наболевшее. Повествовал о том, как ему одиноко среди них, таких взрослых и состоявшихся. Как невозможно существовать в этом жестоком мире. Как он презирает себя, такую бездарь. Как не хватает родной души. Бурным потоком лилось из подростка страстное признание в изгойстве, трусости, малодушии, во всех своих унизительных слабостях, во всем самом обидном и невыносимом.
Сгорал от стыда за то, что не мог унять слезы, стекавшие за воротник. Сейчас его поднимут на смех, закидают жеваными бумажками. Он провел ладошкой по лицу и в упор воззрился на однокурсников. Девочки тоже плакали. Роза и Люся сидели опустив голову. Это был актерский триумф. Зритель был покорен сокровенной исповедью души, что впоследствии станет уникальным качеством артиста Владимира Лемешонка.
7. Лем, Узда, Аблей
На втором курсе к ядру примкнул дембель Советской Армии Толя Узденский. Он еще в колыбели решил, что везде и во всем должен быть первым. И вот отслужил срочную службу и теперь волен выбирать, до кого снизойти, чьим лидером стать, кем именно окружить себя, звездного. Отказа в этом деле не знал, ведь, как заметит Лем спустя некоторое время, был «способен долететь на ядре своего обаяния аж до Луны». Узда с порога почуял, где находятся точки притяжения – и без обиняков шагнул туда. Пацана с желтым портфелем он удостоил кличкой Дурашка.
Кличка не прижилась, да и сам дембель осознал ее нелепость, оправдывался, что прилипла от обратного. Не мог же бывалый боец не замечать, к чьим оценкам и мнениям прислушивается народ. Чей вердикт признается истиной в последней инстанции. Кого после каждого этюда припирают к стенке, чтобы выслушать приговор себе, любимому. Кому на занятиях по актерскому мастерству нет равных. И это при том, что курс талантлив, как на подбор.
Позже Анатолий Узденский в своей книжке «Как записывают в актеры» сообщит: «Подозрение, что Лем зачислен в училище по протекции, улетучилось, когда я прослушал его на зачете по сценической речи – он читал прозу Хэмингуэя. Читал искренне, страстно, и даже удивительно было, откуда в этом тщедушном мальчишеском теле столько силы.
В нем было много любопытного: например, несмотря на то, что держался гением, отзывался о себе всегда в уничижительном тоне, и мне это казалось странным: ведь люди обычно приукрашивают свои достоинства. Володя в ответ на мое недоумение отвечал классической фразой: «Я странен, а не стране кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож»».
Далее автор повествует, как в процессе короткой стычки на глазах у однокурсников Лем дал понять, кто есть кто: «Я замахнулся и… нет, не ударил его, удержался, просто сильно толкнул в грудь. Володя отлетел на несколько шагов, схватился за стол, медленно выпрямился. Наши взгляды встретились. В этот момент я понял, что значит читанное много раз „побледнел как полотно“. Лем оглядел примолкнувшую аудиторию, потом еще раз посмотрел мне в глаза, губы его шевельнулись, будто он силился что-то сказать, но не мог, и вышел из комнаты. Я попытался рассмеяться, чтобы разрядить атмосферу, но заткнулся, не получив поддержки. Стояла гнетущая тишина. Никто не смотрел в мою сторону. Мне было безумно стыдно. Я вышел вслед за ним».
Лем, не сговариваясь с Уздой, гораздо раньше описал этот случай в эссе «Сбивчивый монолог на венском стуле»: «Однажды достал я своего друга так, что ему пришлось основательно меня пихнуть. Отлетел я тогда далеко, обиделся ненадолго, а запомнил его силу навсегда. И по сей день это качество в нем я считаю главным, хотя, конечно, не о физической силе идет речь».
Что касается кличек, то в юности любая дружеская компания ловит их из воздуха. Клички так органичны, что заменяют имена. Имя дано тебе в самом начале жизни, покуда ты еще никто, следовательно, звать тебя никак. По имени называют все – и свои, и чужие, вне зависимости от того, подходит оно тебе или нет. Поэтому оно формально, номинально, обезличено, лишено индивидуальности: Иванов, Петров, Сидоров. Тут и выясняется, что имя надо выбирать тогда, когда уже что-то из себя представляешь. Вернее, друзья это сделают за тебя. Они нарекут тебя так, как не зовут больше никого, вложив в прозвище свое особое отношение, свое понимание и восприятие тебя, окрасив оттенками и обертонами. Данное при рождении имя останется пожизненной печатью в паспорте, которая ничуть не мешает оригинальному тексту.
Многие прозвища как производные от имен сценических героев были подсказаны учебными спектаклями – но прилетали и улетали, придумывались и забывались. Комедия плаща и шпаги «Живой портрет» с красивыми испанскими именами спровоцировала романтизированные клички. В комедии дель арте «Венецианские близнецы» ведущий артист краснофакельской труппы Альберт Дорожко так уморительно играл свою роль – «Я маркиз Лелио, синьор Холодной горы, граф Лучистого фонтана, подданный Тенистых ущелий…», что все мигом стали маркизами и кабальеро, в том числе дон Лемио. Стоило сплоховать, совершить малейший промах, как он мигом становился доном Лемио, и произносилось это, естественно, с насмешкой, но обижаться считалось дурным тоном.
Спектакль «В день свадьбы» имел особое значение. Там обнаружилась сакраментальная реплика, которая вошла в анналы. Один из второстепенных персонажей обращался к персонажу Лемешонка: «Таких, как ты, без Узды оставь – наворочают!». Эффект был тот еще. Выражение в одночасье стало крылатым. Фразочку произносили на все лады, смаковали так и эдак, стебались на тему, что будет, если Лемешонка оставить без Узды, а сам Узденский неоднократно произносил афоризм назидательным тоном. И на всю жизнь остались клички от сокращенных фамилий: Узда, Аблей, Лем. Лет через сорок однокурсница, прилетевшая в Новосибирск из Москвы (они не виделись всё это время), блеснула отменной памятью, сохранившей осколки юности: «Что, Володя, поди, никто уже не зовет тебя Лемом?». «Володя» рассмеялся: до сих пор только Лемом и зовут!
8. Курс Лемешонка
Все они красавцы, все они таланты, все они поэты! Их поэтический клуб называется «Шанзэлизе». Девиз клуба – «Всё что ни проза – то стихи». Берут туда каждого, кто рифмы плесть умеет. Упражняются в прекрасном, сочиняют всякую фигню, читают друг другу вирши нараспев, с пафосом, с простиранием длани. Лем плетет рифмы весело и задорно. Особо гордится жуткой сюрриалистической поэмой, отразившей его упадоническое мировосприятие, им самим же и высмеянное. От себя не убежишь:
Все в мрак и пустыню кругом обращалось.
Багровое вымя в пространстве вращалось,
Вперив в бесконечность свой взор воспаленный,
В белесую вечность рояль раскаленный
Вонзался хрустальною клавиатурою,
Струя меж светилами музыку бурую.
Четыре шага на балконе надломленном,
Всего лишь четыре удара по клавишам…
Четыре удара по жизни загробленной!
Он брел по дорогам, в дожди окунаяся,
Он бился ладонью о лоб свой обветренный
И муками творчества умственно маялся,
Считая бесцельным свой путь километрами.
И вздыбилось время, пространство восстало,
Звучащее бремя на землю упало,
Расплавленной массой залитые звуки
К бесформенной страсти пристывшие руки.
Влача свою «загробленную жизнь», он не променял бы театральное училище ни на какое другое учебное заведение. Все больше неожиданных возможностей открывалось в самом себе! Преподаватель танцев Николай Иванович Косырев, смягчая тяжесть физических нагрузок, учил всё делать легко, весело, непринужденно, по-пушкински. На каждом шагу сыпал шутками-прибаутками, нес студентам мудрое слово: «Публика – дура, и, коли она скучает, нужно научиться тросточку крутить». Тросточка появится у лирического героя «Пылинок в луче бытия», у Антонио Сальери в «Амадеусе», у Афанасия Палыча Казарина в «Маскараде», у Павла Петровича Кирсанова в «Отцах и сыновьях». Лем будет «крутить» с особым шиком, и не только тросточкой: Порой я стих повертываю круто, Все ж видно, не впервой я им верчу.
Педагог по вокалу Анна Дмитриевна Прудникова расковала их, раскрепостила, заставила петь с утра до вечера даже тех, кому медведь на ухо наступил, а это были Лемешонок с Аблеевым. Оба заливались соловьем, не унять: «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю…». Масть пошла, время их урока истекало, расписание сбивалось с графика. На выходе из аудитории изнервничавшийся однокурсник заорал: «Вы мое время забрали, я зуб сломал из-за вас от злости» – и предъявил обломок зуба, пострадавшего от гранита актерской науки. На экзамене по вокалу даже обладательницы абсолютного слуха Роза и Лось, наши, по выражению Аблеева, главные девки, получили четверки. А эти два обормота удостоились пятерок. Пианистка Таня, одарившая Лема особой благосклонностью, по секрету шепнула ему, что, все-таки, в вокале ему не хватает музыкальности.
Вскоре Владимир Лемешонок, загримированный под дона Фернандо, пел серенаду под окном Ольги Розенгольц в образе доньи Инесы. Дуэт в дипломном спектакле «Живой портрет» по испанцу Агустину Моретто однокурсники сочли самым пылким за всю историю мирового театра. Комедия плаща и шпаги выявила романтические наклонности этой парочки, кои прекрасно сочетались с нарушением норм советской морали.

С Ольгой Розенгольц в спектакле «Живой портрет», 1975 год. Фото из семейного архива.
Образцом поведения ядро курса не являлось. Мастер по сценической речи Лидия Алексеевна Николаева частенько удаляла из аудитории Лемешонка и Аблеева. Они разлагают дисциплину. Их ирония выводит из себя, а противопоставить нечего. Насмешники. Циники. Негодяи. Ничего святого. Даже на похоронных церемониях они ржут, как ненормальные.
Михаил Аблеев ныряет в толщу времен:
– Нам невмоготу было выносить эти фальшиво-скорбные лица, весь этот советский похоронный пафос. Эта хрень раздражала! Роза и Люся от стыда опускали глаза. Мы с Лемом пытались подкрасться к ним, как из-под земли, поймать наших девушек неожиданно, со своими дурацкими рожами, и мы уже ржали вчетвером. Это был наш легкий такой мягонький перформанс.
– Разумный человек не выносит серьезного отношения к чему бы то ни было. Люди, которые пытаются не врать, таковы – подтвердил Лем.
Их главный педагог был именно тем, кто учил не врать – ни в жизни, ни на сцене. Главреж «Красного факела» Константин Чернядев был мастером курса всего год. Но этого года хватило, чтобы сформировать у молодежи понимание профессии. Через много лет Лем посвятит Чернядеву личное признание: «Каким умом и какой эмоциональностью, какой мягкостью и какой силой была полна каждая его фраза… Мой первый и единственный подлинный учитель дал мне главный урок – урок общения с личностью. Его дар смотреть и видеть стал моим идеалом на всю жизнь. Этот человек, а не методики и учебные планы, были моей школой. Школой, которой я горжусь».
В эссе «Сбивчивый монолог на венском стуле» Лем выделил главное, что оказало воздействие на его формирование как актера: «Мой педагог вырастил и закрепил во мне убеждение, что человек театра – это прежде всего личность, что театр – альянс самостоятельных и независимых личностей (потому и не может быть в привычном смысле „коллективом“). От столкновения мощных разнозаряженных частиц высекаются искры искусства. Так смешно получилось, что именно режиссер заразил меня неизлечимой болезнью, которую большинство режиссеров приравнивают в актере к профессиональной непригодности. Актер, требующий пространства для самостоятельного творчества в роли, актер, которому для полноценной работы необходимы свобода и уважение, для многих режиссеров и не актер вовсе».
Текст был опубликован и отправлен друзьями Лема Чернядеву в Одессу. Тот, уже пожилой человек, читал его и плакал. Вспоминал свой последний педагогический курс в новосибирском театральном училище, когда мысленно прочерчивал судьбу своих любимых студентов и почти не ошибался. Про пацана в желтых клешах заранее знал: этот – настоящий.
Однако первые выходы юного Лемешонка на профессиональную сцену не попали в историю мирового театра. Тюзовские роли были даже не второго, а десятого плана. К ним прилагались усы и борода, что превращало производственную практику в балаган. И вот Чернядев дал ему роль со словами в спектакле «Венецианские близнецы» по пьесе Карло Гольдони – целых две реплики! Эта был дебют Владимира Лемешонка на сцене «Красного факела», где пройдет вся его сценическая жизнь. Новичок был полностью дезориентирован: не понимал, где право, где лево, где вперед, где назад, где рампа, где кулисы. Язык заплетался, голос был чужим. Сцена, такая пленительная снаружи, оказалась чуть ли не Зоной из «Сталкера». Пройдет много времени, прежде чем она одарит дивным, но мгновенным ощущением полета, которое специально не вызвать, никакими приемами и уловками не создать – неизвестно, как это приходит и почему так быстро пропадает… Чехов сказал об этом проще некуда: «Что непонятно, то и чудо».
Поначалу Лем пытался выявить закономерность душевных состояний. Ступив из гримерки в темноту кулис, закрывал глаза, сжимал кулаки, шептал: «Иже еси на небеси, да приидет царствие твое да будет воля твоя…». Бесполезно, и он, как и его любимый писатель Набоков, стал безбожником с вольной душой в этом мире, кишащем богами. Пытался поймать вдохновение с помощью напитков. Оказалось еще хуже, чем молитва. Конфуз, случившийся году в 1985-м, избавил его от алкогольного заблуждения на всю оставшуюся жизнь.
Слегка выпив перед спектаклем «Восемнадцатый верблюд» и пребывая в приподнятом расположении духа, то есть не испытывая никакого мандража перед выходом на сцену, Лем легко и вдохновенно отыграл первый акт. В эйфории от успеха решил добавить в антракте. Второй акт отыграл на автопилоте. Лемешонок Первый, вынужденный свидетель позора, сделался мрачен, наполнился презрением, разговаривать с негодяем не пожелал. А прима Анна Яковлевна Покидченко обыгрывала его невменяемость, помогала устоять на ногах, в перерыве между эпизодами всеми силами приводила в чувство – била по щекам, давала нашатырь, уговаривала. Возилась с ним, как нянька.
Не помнит, как добрался домой. Утром, выкарабкиваясь из сна, опрокинулся в гадкий стыд. Во время гигиенических процедур сломал зубную щетку. На работу шел как из-под палки. Молил Бога провалить его под землю, но тот, как водится, не реагировал. Нашел в себе силы извиниться перед каждым участником вчерашнего спектакля. Анна Яковлевна потребовала с него слово, что подобного не повторится. Через несколько лет Лем начнет свое знаменитое «Письмо актерам» с признания ей – «прямая и звонкая, как игла, сумевшая прошить неподатливое время».
Немеркнущая звезда «Красного факела» сыграла решающую роль в его сценической жизни. Слово, данное Анне Яковлевне, Лем держит и после ее ухода. Глоток коньяка, а то и не один, ждет его в гримерке после поклона. Предвкушая момент, иной раз заранее наполнит рюмочку, накроет ее листом бумаги, дабы на нектар не покусилась алчная муха. За исключением периодов, которые он назначает себе сам – на несколько месяцев добровольного воздержания.
Ничего не осталось от юношеских молитв, ритуалов, заговоров, приворотов, только осмысленное профессиональное волнение перед выходом на сцену. И мамино серебряное колечко, которое он надевает на мизинец, если это не противоречит роли. От талисмана мало что зависит, просто на душе чуть-чуть теплее.
…Первый практический урок профессионального мастерства Лем получил на третьем курсе в ТЮЗе. Там на законных основаниях уже блистал Игорь Белозёров. Обогнав Лема на восемь лет, он стал звездой первой величины, красавцем с роскошными кудрями, стальным взглядом и громовыми раскатами зычного голоса.
Репетируя влюбленного в учительницу Алёшу Смородина в спектакле «Ключ без права передачи», Лем очень старался. В сценах с Игорем Белозёровым Лем старался неистово. В очередной раз он бросился на партнера и схватил за грудки, вложив в сей порыв всю страстность своей кипучей натуры. Белаз, оставаясь невозмутимым, вылил на салагу ушат холодной воды: «Осторожно, не помни мне рубашку». Так на съемках фильма «Марафонец» юный Дастин Хофман психовал, бесился, сходил с ума, падал, как подкошенный, лежал пластом, и великий Лоренс Оливье сказал ему: «Молодой человек, а играть вы не пробовали?».
Первая интрига настигла Лема на четвертом курсе. Его назначили на главную роль в спектакле ТЮЗа. В паре с ним репетировал актер, который уже окончил НТУ и был зачислен в труппу. Тот с младых ногтей отдавал себе отчет, какие действия нужно предпринять, чтобы добиться успеха, заявить о себе сразу и навсегда, стать ведущим актером труппы. В ход шли сплетни, подметные письма, жесткое давление во время репетиций, доклады режиссеру о хамстве партнера во время работы. Едва почувствовав мышиную возню, Лем просто-напросто перестал ходить на репетиции, ведь выпускной курс требует полной отдачи на лекциях. Соперник сыграл главную роль достойно. И стал ведущим актером труппы. А у Владимира Лемешонка было всё впереди.
Первая значимая работа пришла в 1975 году. Педагог курса Александр Левит в дипломном спектакле по пьесе Виктора Розова «В день свадьбы» отдал роль Мишки – Узде и Аблею, а роль его детдомовского друга Васьки – Лему. Он вытащил из своих студентов главные свойства их актерской природы: из Михаила Аблеева мягкость и обаяние; из Анатолия Узденского значительность, весомость, эдакий габеновский взгляд; из Владимира Лемешонка лихость и кураж.
Васька Заболотный предстал ярко выраженной индивидуальностью: врожденная веселость и разгульность, детдомовская развязность и дерзость, презрение к запретам и «слабость по женской части». «Трахальщик», определил для себя Лем и придумал особый раздевающий взгляд, бросаемый на женский пол. Васькины жесты были резки и порывисты, он двигался стремительно, наотмашь принимал решения. С Мишкой они яро спорили о свободе и нравственности, ответственности и выборе. Формально Михаил был прав. Но прописные истины давали крен, их приходилось подвергать проверке и пересматривать.
Васька таил в себе духовную глубину, которая удерживала его от лжи, не позволяла сделать вид, что происходящее его не касается. «Не люблю, когда мне жизнь на завтра откладывают. Завтра, мол, тебе будет хорошо, а теперь потерпи», – сердился Васька, настаивая, чтобы и друг немедленно совершил честный поступок и отменил свадьбу с нелюбимой девушкой. Не признающий никаких уз, он в результате оказывался прав в том, что слушать нужно только голос сердца. За этим персонажем хотелось идти, сверять с ним свое отношение к жизни, к событиям в семье и за ее пределами. А Мишка благодаря ему открывал новую правду и нового себя.
Профессор ГИТИСа знаменитая Евгения Козырева приехала в НТУ как председатель аттестационной комиссии. Поставила Лемешонку «отл.», резюмируя: «Этого мальчика я могу устроить в любой театр Москвы». Сообщила коллегам о своих намерениях пригласить будущую звезду в ГИТИС сразу на третий курс. Те отрезвили профессора: «Проблема одна: этот мальчик сильно пьет». – «Алкашей у нас и своих хватает», – безутешно вздохнула Евгения Николаевна.
Приговор был приведен в исполнение. Лем навсегда остался сибирским артистом. А в театральном училище их курс еще долго называли курсом Лемешонка.