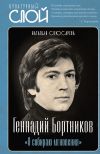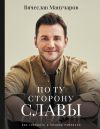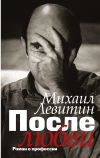Читать книгу "Звук натянутой струны. Артист театра «Красный факел» Владимир Лемешонок на сцене и за кулисами"

Автор книги: Юрий Усачёв
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
17. Феномен Америки
Кино его влекло, как и любого актера. В 1992 году Владимир Лемешонок впервые попал на съемочную площадку. Это была пустяковая комедия «Безумный рейс», сделанная КВН-щиками на коленке. Собрали актеров из разных театров, дали им самодеятельный текст, сказали, что надо посмешнее. Каждый изгалялся как мог. Владимиру Лемешонку досталась роль пилота, да и то второго. Говорил не своим голосом (на озвучании сэкономили), но весьма эффектно смотрелся в кадре. «Оскара» за этот авангард так и не дали.
Позже случилось еще несколько попыток попасть в кино. Пару раз даже доходило до съемок в ментовских сериалах, но лучше бы его глаза этого не видели. Он даже названий не запомнил.

Кадр из кинофильма «Безумный рейс», 1992 г.
Монолог главного героя. Про кино и свободу
– Я очень люблю кино. Но оно меня не любит. Камера меня не любит. В театре репетирую роль два месяца, за это время освобождаюсь, текст перестает быть мертвым, оживает на языке. У меня нет способности быстро учить текст, я его не учу, а присваиваю. Это процесс длительный. А в кино нужно выдать результат мгновенно, здесь и сейчас. Организм с этим не справляется, страх ошибиться, быть неточным, несвободным не покидает, а от этого становлюсь еще более несвободным. Пробовался у Прошкина, у Хотиненко, но чувствовал себя невыносимо перед камерой, паниковал, нервничал. А после проб еще неделю испытывал отходняк. Как-то в каком-то городе, в гостинице, в маленькой убогой комнатушке я, приехав с кинопроб, понимал, что пробовался я чудовищно, был ужасен. Находился в таком мучительном состоянии, что хотелось себя убить. Но не хватило мужества. В тот момент я решил, что отныне буду отказываться от кинопроб. И с тех пор стал отвечать, что в кино не снимаюсь.
Октябрь 2010 г.
Странное дело – умеющий совладать с любой ролью, он оказывался непригодным к вещам простым и незатейливым. Буксовал там, где требовалось не творчество, а ремесленничество, не импровизация, а механистичность действий. Не пошла у него озвучка, которой подрабатывали многие коллеги. Навсегда для себя решил, что голос у него «сильный, но противный». Выбивала из колеи халтура, особенно если была плохо организована. В День города его пригласили читать текст в прямом эфире, вынудив работать в экстремальном режиме. В радиорубку постоянно вбегали какие-то люди, мельтешили, суетились, выхватывали у него из-под носа листы и подсовывали другие, что-то вычеркивали и вписывали. Довели чтеца до белого каления. По завершению процесса он уносил ноги, решив никогда более не вляпываться в подобные авантюры.
Завязал и с елками – теми самыми, ради которых актер из анекдота отказался сниматься у Спилберга. Для легких на подъем коллег новогодние каникулы – дело святое. Они пашут по пять елок в день, проворно перескакивая с одного утренника на другой, легко управляясь со всеми этими переодеваниями по закуткам, мешками с подарками, играми и хороводами – только шуба заворачивается. Заработок того стоит – позволяет разрулить долги, рассчитаться с кредитами, провести отпуск за границей, купить дачу, приобрести авто. А он терялся в ораве невоспитанных детишек, уставал кривляться, страшно потел под бородой, паниковал при малейшем отступлении от сценария, выползал из зала чуть живой. Вот Идолище лесное – это да, по-нашему, тут есть что сочинять и где разгуляться, а дед Мороз – сплошное мучение и позор. Нет, с меня хватит, решил он после очередного елочного стресса и уступил доходное место конкурентам.
Ему вообще претит многое из того, что для других дело обычное и даже приятное. Не ездит в отпуск по турпутевке, потому что это слишком хлопотно, и вообще, путешествие промелькнет быстро, а напоминать о нем будет лишь дыра в бюджете. Впрочем, зачем артисту турпутевки, если он и так везде бывает с гастролями. Реже – по профсоюзной линии. В 1990 году ему как члену правления СТД выделили бесплатную путевку в санаторий «Актер», и он, прихватив десятилетнего сына, отправился в Крым, на Черное море. Встретил там однокурсниц с их спутниками, сложилась компания. Валялись на мисхорском пляже, плавали наперегонки, поглядывали на высоченный пирс, откуда мало кто решался прыгнуть. А он решился! Превозмог себя, сиганул, короче, сыграл в героя, и не только от Жени удостоился восхищения: «Ой, мой З. никогда бы так не смог!». Уложив детей спать, они с З. полночи пили «Кинзмараули» и спорили за искусство.
Засим на него, как снег на голову, свалилась поездка в Америку. В 1993 году Владимир Лемешонок отправился в Миннеаполис с группой новосибирских деятелей культуры в рамках обменного дружественного визита. Группу составил цвет Новосибирска – главный дирижер оркестра русских народных инструментов Владимир Гусев, режиссер Вадим Цхакая, художник Владимир Фатеев, композитор Борис Лисицын.
Великолепная пятерка чувствовала себя как на другой планете. Языковой барьер усугублял пропасть. Мозг лопался от фантастических картин. Где они и где мы. Обрушившиеся на него образы заокеанского мира Лем по дороге домой, не выходя из самолета, сложил в поэтическое эссе, которое выхватила у него из-под пера газета «Советская Сибирь».
Там есть много ярких сравнений и оригинальных метафор, а завершается текст, по закону Штирлица, описанием наиболее значимого впечатления. И это впечатление было не от городов, не от людей, не от вещей и даже не от атмосферы. Впечатление было от того, что для него в жизни всегда было самым значимым – от искусства: «То, что делали эти поистине грандиозные артисты, было на сто процентов неповторимо; жанр, в котором они работают, не укладывается в испытанные формулировки. Это дерзкий, алогичный сплав клоунады, пантомимы, хореографии, гимнастики, сатиры и юмора. Это феноменальный профессионализм и высочайшее одухотворенное искусство… Среднеарифметический любовный сюжет не требовал и секундного напряжения мысли. Ни для малейшей глубины и объема не было места в игре актеров. Ошеломляющее впечатление и пушечный энергетический заряд заключала в себе неправдоподобная техническая виртуозность исполнителей – от первых до третьестепенных. Не передать, с какой небрежной грацией демонстрировал свои вокальные, хореографические и, прямо скажу, каскадерские возможности исполнитель первой роли – довольно не молодой мужчина, который после трехчасового беспощадного актерского марафона выглядел, пел, танцевал и был прост и легок так, будто сию минуту вышел на сцену. И еще одна загадка – все это не подавляло, не повергало в прах. А напротив, было вдохновение. Видимо, это нормально – когда видишь, что люди здорово делают свое дело, хочется не плакать, а делать свое».
18. Эскиз Островского
На рубеже 80—90-х кругом воцарился бардак, и в «Красном факеле» тоже творилось непонятно что. «Меня всегда поражала железобетонная режиссура театра. Впечатление от спектаклей оставалось такое, что режиссура отстает от актерского искусства лет на пятнадцать как минимум. „Красный факел“ производил впечатление театра без руля и ветрил», – говорил о том периоде Юрий Шатин на секции критиков.
Новый главреж появлялся в «Красном факеле» чуть ли не каждый год. Владимир Кондратьев успел за короткий промежуток поставить знаменитую «Великую Екатерину» по Бернарду Шоу с царственной Валентиной Мороз, но не чурался проходных поделок. Вызвал Лемешонка к себе в кабинет и на чрезвычайно душевном подъеме вручил ему большую советскую пьесу: «Почитайте, здесь для Вас главная роль!». – «Это вообще нельзя ни ставить, ни играть», – отрезал Лем на следующий день, возвращая манускрипт. Расправы за вольнодумие не последовало, пьесу забросили на полку.
Некую живость внес приглашенный на постановку Юрий Котов. Это была фигура странная, экспрессивная, несколько комичная. Такими же получились и «Богатые невесты» по Островскому. Советская сцена подобных вольностей не допустила бы, но к 1992-му году цензура пала, и стало можно всё. Котов напитал спектакль сексуальной энергией, воплотив свои тайные и явные фантазии. Откровенные сцены он поставил с фрейдистским размахом – девушки бегали в панталонах и купальниках телесного цвета, пары кувыркались и безобразничали с криками, воплями, стонами. Роль вдовы Бедонеговой, изнывавшей от неутоленного либидо, красавица Ольга Шелевая, сгоревшая на взлете, считала своей самой любимой.
Подключившись к режиссеру, к его сумасшедшинке, Лем сочинил Виталия Петровича Пирамидалова эдаким вертлявым господином без царя в башке, без внутренних запретов и границ. Этот бодрый дядька с молодцеватыми усами и кудрями до плеч захлебывался скороговоркой, постоянно суетился, куда-то бежал, запинался, махал руками, выделывал коленца. То принимался отплясывать чечетку, то срывал с себя сюртук и, кипя от страсти, кидался на вдову Бедонегову. А жениться хотел на другой.
Постепенно в этом клоуне, мальчике на побегушках, услужливом чиновничке, забавном пресмыкающемся, в этой доступной добыче ненасытной вдовы открывались неведомые ему самому качества. Укреплялось осознание себя как личности. Появлялось понимание своего унизительного положения. Нарастал протест против навязанных ему клише. Обнаруживалось чувство собственного достоинства. «Не желаю утешать покинутых фавориток, не желаю подбирать того, что другие бросают», – дрогнувшим голосом произносил Виталий Петрович, сглатывая ком. Несостоявшаяся любовь его усмирила, задетое самолюбие лишило привычных хохмочек и ужимок. Образ становился глубоко драматичным; среди радостных и довольных лиц, рядом со счастливым соперником сирый Пирамидалов был соринкой в глазу, перегоревшей и, стало быть, подлежащей выбросу лампочкой. «Без драмы меня нет, не могу ее оставить за кулисами», – подтвердил Лем свое творческое кредо.
Эта парочка, Бедонегова и Пирамидалов, точнее всех воплотила чаяния режиссера. Котов отметал всякую серьезность и требовал стеба, насмешки, иронического подтекста. Владимиру Лемешонку удавалось показать страдание Пирамидалова так, что оно было еще и картинно, как у человека, который преподносит себя обществу в новом, неожиданном даже для самого себя качестве. Пирамидалов, которого Островский писал как предтечу своих любимых персонажей, стал изящным эскизом к Карандышеву. Через несколько лет Лем доведет образ до логического завершения, вырастив из комического источника подлинную трагедию страдающего человека.
19. Путь к Чехову
Пора было от Островского продвигаться к Чехову, что и предложил большой друг Владимира Лемешонка, очередной режиссер Вадим Цхакая. Чехов дался не сразу, предложив более трудный, зато увлекательный путь. Этот путь доказывает, что закон зависимости актера от режиссера не так уж и всемогущ. И если его нарушить, то актерская индивидуальность расцветет, окрепнет, засверкает новыми гранями. Но чтобы выйти на этот путь, необходимы отвага, цельность и, возможно, случай. Именно случай, подкинутый Судьбой, помогает принять решение и выступает толчком к самостоятельным действиям. Так было с Гоголем. А теперь вот и с Чеховым. Только это был несчастный случай.
Лем познакомился с Вадимом Цхакая гораздо раньше, и был польщен, когда в 1988-м году новый главреж Облдрамы пригласил его в свой первый на этой должности спектакль «Музыка» по пьесе Маргарет Дюра. Надо было сделать шаг в сторону другого театра, ступить на чужую территорию, вытерпеть злостное шипение труппы, недовольной привлечением чужаков из «Красного факела», когда самим ролей не хватает. Но оно того стоило. Работа захватила, и рядом с неугомонным Вадимом Цхакая, радом со звонкой, нервной Татьяной Черепановой всё так и искрило.

С Татьяной Черепановой в спектакле «Музыка», 1988 г. Фото Геннадия Седова.
Из архива. Про парадоксы любви
Спектакль «Музыка», как писала Валерия Лендова, получился «об одном из самых интимных парадоксов любви – неизбежном угасании чувства при каждодневном сближении любящих, о невозможности удержаться на той самой высокой высоте, которую всегда обещает начало». Гармоничный дуэт «Музыки» она описала в газете «Советская Сибирь»: «Героиня Татьяны Черепановой живёт в спектакле трагическим сознанием этого парадокса, яростным его неприятием и неизбежным ему подчинением, безжалостным сознанием тяжкой своей вины перед бывшим мужем при полной, казалось бы, независимости… Обаяние игры её партнёра Владимира Лемешонка в ином – в полном отказе от себя, в растворении в любимой, которую он носит с собой, шатаясь в одиночестве по городу, где когда-то был так необыкновенно счастлив. Если, глядя на Черепанову, вспоминаешь строки Аполлинера, то игра Лемешонка воскрешает лирику Пастернака, как, впрочем, вся пьеса Дюра в какой-то миг вдруг начинает звучать драматургической перефразой восьми строк о свойствах страсти.
Мелькающий скальпель в руках В. Цхакая препарирует глубины внутренней жизни героев в самых больных, тщательно оберегаемых от постороннего взгляда пластах. За актёрским дуэтом, как всегда у этого режиссёра, чудится нечто большее, чем конкретная история любовных разминовений. В непредсказуемых паузах и переходах, в перетекании музыки в свет и света в музыку, в думе машин по мокрому асфальту, скольжении ветвей по стёклам холла, внезапно налетающем шорохе листвы чудится извечная загадка бытия, ее гул, ее волнующий трепет. Режиссер продолжает упорно исследовать «линию интуиции и чувства», «линию символизма», уже знакомую нам по предыдущим спектаклям».
Отношения с Вадимом Цхакая вне работы складывались взаимообогащающие. Ночами просиживали на кухне, беспрестанно мололи кофе на самодельной кофемолке, иногда добавляли в него коньяк, и спорили, и ссорились, и опять спорили. Мечтали, фантазировали, строили планы, собирались создать театр в Академгородке. В застольных беседах Лем впадал в состояние творческой приподнятости, хотелось немедленно вершить великие дела. Он, искренний и открытый, завораживал горением, увлекал в свою стихию собеседника. А на площадке атмосфера накалялась, подтверждая репутацию Вадима Цхакая как талантливого, но конфликтного художника.
Газета «Новосибирская сцена» посвятила целый разворот размышлениям критиков и актеров о причинах увольнения Вадима Цхакая из очередного театра. Заголовки были характерные: «Верю в этого человека», «Его надо удержать», «Пустеющий кокон культуры». Лем выступил в эссе «Неудобен и взрывоопасен»: «Пробираясь своим единственным тайным лазом к ему одному ведомому результату, он вообще не думает об актёрских амбициях. Он бывает жесток – этот хрупкий и совсем не жестокий человек. Это не его личная жестокость – это единственность избранного им пути. И, даже если он заплутает по дороге, то, видимо, и без этих заблуждений он как без рук».
Склонность автора эссе оправдывать все поступки художника уникальностью его творческой природы продиктует еще множество романтически прекрасных строк, посвященных людям искусства. Но мучительные размышления о сути взаимоотношений приведут к печальным выводам. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Как, впрочем, и малое. Какой след в театральном Новосибирске, в душе актера оставил художник, покинув город? Звезда театра «Глобус» Людмила Трошина, например, в интервью Ирине Ульяниной по прошествии лет расскажет: «Вадим Цхакая считал меня профнепригодной и однажды публично нанес такой сокрушительный удар по самолюбию, что я подала заявление с просьбой об увольнении. К счастью, директор его просто порвала».
В 1991-м Вадим Цхакая, которого вежливо попросили из Облдрамы вон, пришел очередным режиссером в «Красный факел». У него в портфеле ждал своего часа шедевр Евгения Шварца «Убить дракона». Час пробил, и парадокс из спектакля «Музыка» трансформировался в разногласия на площадке, когда при каждодневном сближении партнеров невозможно «удержаться на той самой высокой высоте, которую всегда обещает начало».
Именно тогда дружба дала крен. Режиссер добавил свою скромную лепту в заниженную самооценку актера: «Володя, Ланцелота ты не потянешь». Зато осчастливил эпизодической ролью Генриха. Требовал мгновенного результата, играл на нервах, пользуясь своим руководящим положением, орал: «Ты ничего не можешь!». Набрасывался на актерскую индивидуальность, как коршун на добычу, в целях нивелировать до нуля. Идеальный актер – тот, кому не должно сметь свое суждение иметь. Ибо только режиссеру предназначена миссия творить Искусство, и актер для него – лишь строительный материал. В этом есть свой резон, коли режиссер обладает лидерскими качествами. Он – ведущий, остальные – ведомые, ведущий должен быть всего один. Иначе неразбериха, хаос, скандал, лебедь, щука и рак. Но куда прикажете девать актерское свободомыслие, если оно не вмещается в очерченные режиссером рамки?
Чудом удавалось успокоиться, работать дальше и обниматься на банкете. Можно простить режиссеру всё ради результата. Но результат не оправдал ни ожиданий, ни амбиций. «Дракон» получился не нервным, а неровным, и, честно говоря, рыхлым и затянутым. Актеров затмили режиссерские конструкции, сценографические навороты, визуальные эффекты. «Ни Эльза, ни Ланцелот, ни прочие герои так и не обретут красок жизни», – заметила Валерия Лендова в «Петербургском театральном журнале». И еще: «Актер – главная проблема его театра».
В 1993-м в режим творческой войны вступила «Чайка». К моменту, когда Лем готов был сорваться на скандал, сердце не выдержало.
Вторую неделю кололо в левой части груди, скакала температура. Каждый вечер выходил на сцену, а после работы еле-еле плелся домой. Наверное, поздновато играть Треплева в 37-то лет, размышлял Лем в машине скорой помощи. Но их с Треплевым ждали великие дела.
В «Красном факеле» тащили к выпуску мертворожденный спектакль, а Лем валялся на больничной койке с инфарктом. Под капельницей он размышлял о собственном пути к Чехову. У него должен быть свой Треплев, такой, каким он его видит и понимает. И сделал Треплева связующим звеном между избранными героями мировой классики, его поиски истины распределил между ними. Получились «Люди, львы, орлы и куропатки» в жанре «Исповедь лицедея». Это был первый моноспектакль Владимира Лемешонка, ставший прологом к его главным темам в искусстве.
Тем временем «Чайки» выпорхнули одновременно из трех новосибирских театров: ГДТ, «Глобус» и «Красный факел». Последняя была признана критиками самой неудачной, несмотря на то, что главную роль исполнял звездный Слава Росс – неотразимый Ромео, в будущем яркий кинорежиссер. Кто-то сравнил постановщика этой «Чайки» с Никитой Михалковым, который в молодости снимал шедевры, но, возомнив, что велик, стал утрачивать чутье большого художника.
20. Исповедь человекоартиста
Монолог главного героя. Про тотальное обнажение
– Актер может воспринимать свою профессию по-разному. Можно понимать ее как способ все скрыть, а можно – как способ максимально открыться. Я всегда понимал эту профессию как исповедь. Не потому, что я так хочу, а потому, что так было назначено. Так я пришел в эту профессию. Мне свойственно стремление обнажиться, открыться. Не всегда мне это нравится, иногда мучает, но ничего с этим не поделаешь.
Январь 2017 г.
Известный кинорежиссер, телеоператор и театральный фотограф Геннадий Седов сочинял художественную галерею актерских портретов. «Лучше, глубже, профессиональнее, чем Гена, меня не снимал никто», – признал Владимир Лемешонок. В один прекрасный день Геннадия Иваныча осенил образ лицедея с оголенной душой. Получился портрет артиста с раздетым торсом, очерченным рамой, которую держат его руки в свитере. Седова заподозрили в фотомонтаже, на самом же деле его жена Лариса специально для фотосессии связала рукава свитера. Полураздетый Лем был любимой хохмой Геннадия Седова. В каждой хохме лишь доля хохмы.
Как нельзя лучше этот портрет иллюстрировал «Исповедь лицедея». Выходя на сцену, артист сдирает с себя все покровы, полностью обнажая душу перед миром. Правда, Лем не делит себя на человека и артиста. Он всегда был человекоартист, у которого исповедь на сцене переплавляется в исповедь за ее пределами. И наоборот. Он может обжечь собеседника такими откровениями, которые обычный человек хранит за семью печатями. Но какой смысл молчать об этом, если на сцене играешь про самого себя? Всегда – про себя, каким ты стал через своего персонажа, про то, через что вместе с ним прошел и что выстрадал, о чем вместе с ним мучительно думаешь и к чему стремишься. Иначе и смысла нет выходить к залу.

Исповедь лицедея, 1993 г. Фото Геннадия Седова.
В семье Седовых это понимали. Вели долгие полночные разговоры. Говорили о силе искусства и бессилии бытия. Седов с бессилием не соглашался. Этот огромный, великанской комплекции бородач был через край наполнен энергией жизни. Они сидели на полу, пили разбавленное красное вино, рассматривали разбросанные повсюду фотоотпечатки, читали вслух «Мастера и Маргариту». Обсуждали детали совместного проекта.