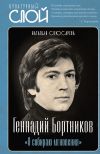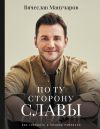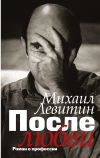Читать книгу "Звук натянутой струны. Артист театра «Красный факел» Владимир Лемешонок на сцене и за кулисами"

Автор книги: Юрий Усачёв
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Из архива. Про слабость и пьянство
Дочь Седовых Лена всю эту демагогию вбирала по крупицам – и тоже освоила театральную профессию. Карьеру она начала завлитом в театре Афанасьева, попутно сотрудничая с прессой. Для друга семьи она находила особые слова, точно передающие многообразие его перевоплощений и саму атмосферу, которую Лем создавал на сцене. Делясь впечатлениями о его моноспектакле, Елена Седова в газете «Советская Сибирь» отметила его невероятный дар перевоплощения: «Мармеладов – кажется, не найти другой роли, которая так не шла бы Лемешонку. Слабенький и пьяненький, жаждущий публичного унижения герой Достоевского – что у него общего с Лемешонком, который мечтает сыграть Гамлета? Где подсмотрел, в каких тайниках актерской интуиции нашел Лемешонок эту удивительную пластику: вялые расслабленные кисти рук и одновременно резкие, широкие жесты. Как догадался он, как разглядел, что едва державшийся на ногах, но столь витиевато изъяснявшийся Мармеладов непрерывно мусолит одной рукой уголок драной шаленки. А главное – глаза! В них все: сила и слабость, любовь и ненависть, вера и безверие. Все, чем так дороги и интересны никогда не познаваемые до конца герои Достоевского»
Творческий вечер Владимира Лемешонка «Люди, львы, орлы и куропатки» проходил в Доме актера. Собралась исключительно театральная публика, включая коллег, родственников, журналистов, поклонниц. Такой зал априори был расположен дружелюбно, междусобойчик штука приятная, но и ответственная. А еще и Белаз за кулисами с чувством пожал руку, выразившись кратко: «Замечательно!». Это дорогого стоило, если учесть, что на похвалу он не горазд. Но это еще не всё. Новый главреж «Красного факела» Алексей Серов остановил фигуранта по дороге на банкет: «Гениально! Нужно сделать спектакль и включить его в репертуар».

Творческий вечер в Доме актера, 1994 г, Мармеладов. Фото из семейного архива.
Лем поискал в толпе Вадима Цхакая, но тот исчез сразу же после занавеса. Даже на банкет не остался. А через несколько дней они, как ни в чем ни бывало, снова сидели на кухне и пили по десятой чашке кофе. Тогда и была поставлена точка бифуркации. Лем как человек отходчивый зла не держал, вопрос «как тебе?» все же задал. Собеседник вяло, равнодушно, с кислой физиономией, не скрывая пренебрежения, заметил: «Ну, это все истории местного розлива». Прозвучало это так, как если бы режиссер не терпел актерской самостоятельности, если бы не умел радоваться чужим удачам, если бы его раздражал любой успех, кроме собственного, если бы не признавал никаких талантов вокруг, считая всех нулями, а единицею себя. Да еще вслед за этим прозвучал намек, что лучше бы ты, Володя, сделал роль в «Чайке». «Вообще-то инфаркт я заработал у тебя», – пожал плечами Лем. Друг побагровел и рявкнул: «Вон из моего дома!». Лем ни слова не говоря встал и ушел.
Вскоре Вадим Яковлевич попытался заговорить с ним о своем новом замысле, но Владимир Евгеньевич отрезал: «Прошу отныне меня в ваших проектах не занимать». Это был первый из тех нескольких случаев в его жизни, когда дружба себя исчерпала, а обстоятельства вовремя не развели в разные стороны. Нужно было самому решить, что дальше не по пути, дабы, как говорится, более собою не обременять.

Творческий вечер в Доме актера, 1994 г. Фото Михаила Перикова.
21. Первый моноспектакль
Ему бы и в голову не пришло заявлять самостоятельную работу в репертуар театра. Но от главрежа Алексея Серова в тот самый вечер он получил поддержку, которой не ожидал. Взвесив свои силы, Лем приступил к кардинальному усовершенствованию своего творения. Проанализировал сделанное Геннадием Седовым видео, изругал себя за бездарность, отказался от банальных решений, придумал новых персонажей и углубил прежних.
Возник замысел выстроить кольцевую композицию: обрамить микс из классических произведений, ставших личным высказыванием, своими собственными, с неба прилетевшими, тем самым сплести единый текст, свободно льющийся из души. Фонограмма стихотворения предварила бы его выход, а «Письмо к актерам» завершило. И снова сомнения и колебания, стоит ли, а зачем, кому это нужно. 14-летний Женя пришел на выручку. По своему обыкновению добродушно улыбаясь, он заверил папу, что стихи очень хорошие, обязательно надо читать их вслух. И, пока зрители рассаживались и гас свет, звучал негромкий печальный голос:
Переворачиваются страницы.
Шелестит и хрустит пергамент.
Мелькают будто бы сами,
Все же моими руками
Помараны эти страницы.
И вспугнуты, словно птицы.
Читать их я не успеваю.
Не вчитываюсь. Едва ли
Два лепестка срываю.
Полмысли в полбуквы вливаю,
Болтаю, чтоб мутными стали,
Зажмурившись, выпиваю.
По стенке сползаю у края.
И все-таки выживаю.
Молясь, я молитву пытаю,
Коверкаю, забываю,
Томлю неокрепшую суть.
Улыбкою всех поминаю,
С улыбкою тех вспоминаю,
Пытаясь спокойно уснуть,
Барахтаюсь, но не вплываю
Туда, где прохлада живая,
Где снится осмысленный путь.
И только шепчу, лепечу я,
Скользя и скуля, как на льду:
Куда же, куда я пойду?
А как не пойду – полечу я,
На лед полечу, упаду,
Там, скорчась, целковый найду,
Примерзну, твердя: не сойду!
И дальше уже не пойду,
Ни бреда, ни чуда не чуя?
Н-ская публика, ничего подобного ранее не видевшая, была ошеломлена. А вслед за ней и публика города Минска. Едва отметив свое сорокалетие в гостиной Дома актера, Владимир Лемешонок получил приглашение в столицу Белоруссии на Второй международный фестиваль моноспектаклей «Я». И вернулся оттуда со спецпризом жюри «За лучшее воплощение классики» в моноспектакле «Люди, львы, орлы и куропатки. Исповедь лицедея».

Гамлет в моноспектакле «Люди, львы, орлы и куропатки», 1995 г.
Владимир Лемешонок сыграл сам себя – артиста, примеряющего образы совершенно разных персонажей, гардеробная с их костюмами стояла тут же. Он снимал с вешалки футболку с трафаретом Шекспира, и между ними, этими господами с бородой и бакенбардами, вдруг обнаруживалось портретное сходство. (Кстати, через несколько лет все заметят, как поразительно Астров Владимира Лемешонка похож на Чехова.) Родство еще и духовное, ведь персонажи моноспектакля были выбраны по ключевому признаку, отличающему его самого, – категорическое недовольство собой, своим местом в этом мире.
Их объединила тема нереализованности, невозможности состояться как личность. Одна за другой несчастные души вселялись в нутро лицедея, чтобы явиться перед зрителем в состоянии наивысшего напряжения, когда уже невозможно жить дальше. Это был момент исповеди на самом краю жизни, за которым решалась судьба. Момент требования наивысшей справедливости, которая, как выяснялось, невозможна. Момент отчаянного обращения к Богу со своим самым страстным желанием и самым неистовым покаянием. Момент осознания, что Бог оставляет тебя наедине с твоей мукой.
Костя Треплев, освобождаясь от «декадентства», приходил к необходимости новых форм в искусстве, но они не давались, что обесценивало и искусство, и его самого. «А если их нет, то вообще ничего не нужно», – заявлял этот максималист, резким жестом скрещенных рук обрывая действо. Гас свет, сцена погружалась во мрак, но рано было прощаться. В искусстве надо идти до последнего – вздоха, шага, попытки, усилия, надежды, если уж ты соизволил выбрать эту профессию.
Счастливцев, прикрываясь деланной игривостью, мучился от ощущения себя ничтожеством, в котором погибает большой артист: «С возвышенной душой – в суфлеры». Хлестаков выхлестывал мечты о своей значимости и значительности, форсировал до фарса величие своей особы, заговаривался, позволял над собой смеяться, и, понимая, что через миг рухнет мираж, выкрикивал запретную мечту: «Да я талантливее вас всех!». Сальери, этот сын лавочника, выглядевший утонченным аристократом, постигнув, что «нет правды на земле, но нет ее и выше», пройдя путь безжалостного самоанализа, занимался казуистикой, в своих умозаключениях то лукавил, то убеждал сам себя и других в сомнительных истинах, и мелькала в нем молодецкая хитринка, и вот он терял самообладание и впадал в истерическую ярость. И окончательно решался на главный в жизни поступок – страшный, запретный и преступный, но поступок.
Сирано читал свой монолог о свободном человеке звонко, весело, смело, жизнелюбиво, с окрыленной душой, по-юношески вскочив на табурет, какие самоубийцы используют при повешении. Гас свет, слышался стук упавшего табурета, а потом из лужи, куда был низвержен зарвавшийся мечтатель, выползал омерзительный пьяница. Мармеладов представал с отвисшей губой, мутными глазами, замедленной речью, расхлябанными движениями. Пропивший все, кроме совести, которая стала бесполезным довеском и уже не спасала даже его самого, возвышался в пароксизме самоуничижения, ибо ничем другим возвыситься не мог.
Гамлет… Гамлет примерял образ, откашливался, искал подходящую позу, пробовал устойчивость площадки – и наконец усаживался на пол. Прикидывался эдаким бодрячком, которому все нипочем, хоть быть, а хоть и не быть. Но освобождался от напыщенной театральности, против которой выступал Костя Треплев, убирал пафос и начинал спокойно размышлять, почему человек не может прекратить такое жалкое унижение, как жизнь. Потому что там – неизвестность, возможно, еще более унизительная, чем земное прозябание. Потому что страшно, потому что не хватает мужества. Вот это он и презирал в себе больше всего – трусость. Резко сам себя обрывал: «Довольно». Надоели «слова, слова, слова», если нет поступка.
Никто из них не умел распорядиться ни своей жизнью, ни своей смертью.
После всего горьковский Барон, нейтрализуя накал страстей, спокойно задавался вопросом: «А ведь для чего-то я родился, а?». На этот вопрос придется отвечать всю жизнь. Человек отчаянно пытается вырваться из собственной оболочки, но приговорен к ней пожизненно. Не получается смириться с этим. Бунт против самого себя вырастает до претензий к Богу. Но диалог с ним невозможен. У Бога есть дела поважнее. Он занят управлением мириадами галактик, и стенания человеческих ничтожеств его не интересуют. Эта тема и есть вечная исповедь. Она не закончена до сих пор. У нее вообще не может быть точки.
А тогда Владимир Лемешонок остро нуждался в материале, который выжал бы его без остатка, бросил без дыхания навзничь. Где же режиссер, который с ним одной крови…
22. Самая трудная роль
И понеслась душа в рай. Основатель театра имени себя и его худрук Сергей Афанасьев, с которым они под алкоголь неоднократно уносились в театральные эмпиреи, взял к постановке пьесу бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка «Великодушный рогоносец» (переименовав ее в соответствии с замыслом в «Великолепного рогоносца»). И пригласил на главную роль актера театра «Красный факел» Владимира Лемешонка. Случай беспрецедентный. Труппа афанасьевского театра считалась замкнутым организмом, никого в себя не впускала, да никто и не мог вписаться в этот уникальный коллектив, выработавший свой собственный устав, стиль, форму, способ существования, взгляд на мир.
Владимир Лемешонок посвятил Сергею Афанасьеву «Портрет постмодерниста», завершив его дружеским дифирамбом: «Соучастники этого азартного, открытого, загадочного и искреннего процесса – актеры – чувствуют себя абсолютно свободными, никем и ни в чем не обманутыми художниками. Они все делают сами, но однажды вдруг вспоминают, что в самом начале кто-то элементарно „зажег свет“ и бьют в ладоши, вызывая на сцену ослепительного мужчину в бабочке и сверкающих штиблетах».
В 90-х годах ХХ века Новосибирский городской драматический театр «Молодежный» под управлением Сергея Афанасьева (с возрастом приставка «Молодежный» исчезла) был самым ярким явлением культурной жизни Новосибирска. Молодой режиссер, выпускник «Щуки», Афанасьев решил следовать собственным путем и строить собственный театр – с нуля. Новый театр был втиснут в ДК им. Октябрьской революции, (в просторечии – Кобра), расположенный через дорогу от респектабельного «Красного факела», но эта дорога вела в иное измерение. Крохотный зальчик на 28 мест (а если утрамбоваться, то аж на 33) вмещал столько подлинных чувств, что казался огромной планетой. При этом Афанасьев вел интимный, вполголоса, разговор со зрителем, все равно что на кухне Геннадия Седова за бокалом красного вина.
Крохотному пространству, осваивающему Кроммелинка, понадобился такой герой, который не вмещался бы ни в него, ни в жизнь. У которого все бурлило внутри и рвалось наружу, корежилось и выворачивалось наизнанку, кровоточило и клокотало. Который в поисках абсолюта доходил до конечной точки абсурда. Здесь нужен был герой, который меряет жизнь запредельными категориями. Если счастье, то так высоко, куда не долететь, а значит, счастья не бывает. Если стихи, то стихия – совершенно вне быта, вне реальности, за границами земного притяжения. Если боль, то удар током.
Средневековый поэт Бруно вообразил, что возвышенное чувство «любовь» не может оставаться во власти земного притяжения. Отказывался принять взаимность и благополучие любви. Он был не великодушным, как на самом деле переведена пьеса, а именно великолепным в своей упертости маньяком, изощренным извращенцем, виртуозным садомазохистом, добровольно вставшим на путь саморазрушения.
Поэзия задавала способ мышления. Требовала небытового жеста, нетривиального поступка. Слово, рождаемое на лету, выпеваемое вслух, уносило в лабиринты воображения. Искусство не одухотворяло, а толкало в смертельный омут. Обожаемую жену Стеллу Бруно увлекал за собой.
«Моя любовь подобна ребенку во чреве, она растет, я питаю ее всем своим существом. Скажи, так может длиться вечно?» – сверкая глазами, публично распалял себя Бруно, не выносящий состояние покоя. Любовь рвалась наружу, и Бруно обрушивал ее на весь мир. Его преследовал страх, что если он расслабится и поверит в свое счастье, то счастье сразу обернется ложью, и за него придется расплачивается стократными муками. И громоздил эту муку собственными силами. Подозрения, для которых не было никаких оснований, он создавал силой своего поэтического дара. Сладострастно описывая прелести Стеллы, бесстыдно изучал реакцию и свою, и других. Принуждал Петрюса любоваться своей безраздельной собственностью, ножкой, грудью, впивался взглядом в его взгляд. И вдруг ловил себя на совершенно новых ощущениях. Это была ревность, взращенная на пустом месте. Ревность вскипятила кровь и стала точкой отсчета нового пути – пути в никуда.
Ревность выносит мозг. Ревность корежит тело. Плавные танцующие руки попадают под ток высокого напряжения, как и мысль, как и он весь. Вскакивает, срывается с места, носится по дому, мечется по углам, колотится об стены, бесится, неистовствует, обрывает крики и жесты на полуслове и полушаге, затихает в оцепенении, чтобы тотчас взорваться в новом припадке безумия. Его темперамент зашкаливает, и никто из близких, тем более покорная Стелла, катализатор вулканического извержения, не в силах возразить, уберечь, предостеречь, остановить его.
Ему все мало и мало. Сначала было мало ее воздушности, легкокрылости, порхания, свечения. Мало ее детской доверчивости, ее лучистой открытости. Мало ее счастливого смеха. Мало ее солнечного мироощущения. Потом стало мало слез, мольбы, покорности, самоотречения. Мало готовности пойти на все ради него. «Поди сюда, ведьма!» – орет с презрением, как шлюхе, и делает из жены шлюху. Устраивает в доме оргию и нависает над нею на канате, как Тибул, с той лишь разницей, что лишен чувства опасности и самосохранения. Канат становится метафорой звенящей струны, натянутой между разумом и безумием, реальностью и фантазией, возможностями и стремлениями. Между жизнью и смертью.
«Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – канат над пропастью. В человеке ценно то, что он мост, а не цель», – утверждал Ницше. Великолепному рогоносцу было до сверхчеловека никак не дотянуться, и он рухнул в пропасть.
А в начале пути Бруно был совсем еще юным, гораздо моложе физического возраста артиста. В нем, стройном парне с бакенбардами, чувствовалась порода. Односельчане уважали его за образованность, удачливость, веселость, успех у женщин, в общем, за харизму. Бруно на глазах старел, изнашивался, расклеивался, становился расхристанным, как после затяжного запоя. Глаза стекленели, отвисала нижняя губа, нарушалась координация движений. Бруно мог бы стать прекрасным объектом для психиатров, если бы не смел их с лица земли, попадись они ему на пути. Теряя человеческий облик и остатки разума, Бруно становился комичен, и зал вздрагивал в нервном смехе. Выстрел – и сатанинский хохот. Тело жены повисло в чужих объятьях. Финита ля комедия.
Чем абсурднее казались поступки героев «Великолепного рогоносца», тем психологичнее выстраивалась линия спектакля. Чем больше гротеска содержалось в игре актеров, тем органичнее существовали они на площадке, достигая высочайшей актерской техники. Чем трагичнее заканчивалась история, тем больше театральности выплескивалось на поклоне, в средневековых танцах и песнях, возвращающих зрителей из состояния интеллектуального напряжения, куда они были вынуждены погружаться на протяжении всех трех актов этого взрывного действа.
Бруно был герой, который разрушил свое счастье сам. Который в страхе потерять гармонию собственноручно ее уничтожил. Который расправился сам с собой, пожрал самое себя. Его сыграл артист, который для себя уже решил, что на сцене будет играть только про самого себя. А в жизни всегда самим собой оставаться. И которому тоже будет всегда не хватать дарованного ему природой, отчего в разборках с богом до конца дней своих будет вопрошать, обвинять, приходить в ярость, биться головой о стену, терять почву под ногами, напиваться в хлам, сжигать мосты, возрождаться из пепла и доводить себя до полного изнеможения…
Стелла была героиня, которая родилась для счастья. Богиня света и полета, она и в служении безумию тоже находила свет и полет. Ее сыграла актриса, которая для себя уже решила, что на сцене будет играть себя, но не только себя. В театральном училище Светлану Галкину считали дурнушкой и снисходительно советовали идти в кукольный театр. В 1991 году она дебютировала в роли обезьянки Чичи ТЮЗовского «Айболита», там ей и было место. Афанасьев забрал Галкину в свой театр и сделал из нее звезду, ослепительную и в своей рыжеволосости, и в своей органике. Звезда сыграла в НГДТ Нину Заречную, Офелию и, наконец, Стеллу, участь которой была решена трагичнее, чем у Дездемоны. ТЮЗ рыдал от зависти.
Вскоре после явных неудач женских ролей в некоторых спектаклях других театров продвинутые зрители будут вздыхать: «Эту роль должна была играть Галкина». – «Галкину надо клонировать», – пошутит Лем. Они присвоят себе «Дядю Ваню». А потом не раз сыграют вместе на театральной сцене Новосибирска. Дуэт «Великолепного рогоносца» останется в анналах как судьбоносный для каждого из них творческой рывок.

С Константином Спасским и Константином Ярлыковым в спектакле «Великолепный рогоносец»,. 1994 год. Фото Геннадия Седова.
23. Начало Олега Рыбкина
Из архива. Про дремучую Москву
В 1995 году в «Красном факеле» появился авангардный режиссер Олег Рыбкин и взбаламутил труппу. А в 2012 году, когда Новосибирск остался в его безвозвратном прошлом, юбилейное интервью Елене Коноваловой в «ПТЖ» фиксирует благожелательные воспоминания мастера об этом периоде. Олег Рыбкин не считает нужным ворошить старые обиды: «В начале 1990-х я начинал репетировать его (Бото Штрауса) пьесу в театре «Современник», это был один из первых проектов Гёте-института в России. Но, увы, в Москве тогда никто толком не понимал, что такое современная драматургия, особенно западная (да и сейчас не очень-то ее понимают) … Мы не смогли найти общего языка с артистами «Современника». И я был вынужден прийти к Галине Борисовне Волчек, поблагодарить ее за приглашение и отказаться от постановки…
В Сибири эта драматургия оказалась понятной и востребованной. По итогам творческого сезона в Новосибирске спектакль «Время и комната» получил премию «Парадиз» за лучший спектакль и лучшую режиссуру. Его поддержала интеллектуальная элита города. И как-то стало понятно, что Сибирь – не медвежий угол. Напротив – здесь есть условия, чтобы делать вещи, которые в то время оказались невозможны в Москве. Такой парадокс. Так что первый успех пришел ко мне в Сибири. А это очень важно – место, где тебя впервые поняли».
В начале своей работы в «Красном факеле» Олег Рыбкин чувствовал себя не стесненным ни финансовыми, ни политическими рамками. Он поставил неожиданную, непонятную, загадочную, многомерную вещь «Время и комната». Спектакль высветил, насколько актеры способны осваивать новую для них стилистику в работе с режиссером-интровертом.
Для Лидии Байрашевской, приглашенной из НГДТ на главную роль, это была тоже первая работа в «Красном факеле». Она вошла в репетиции уже готовой Марией Штойбер: певучая интонация, текучая пластика, ироническое остранение, непринужденная отдельность даже от самой себя, существование вне быта, вне вещей и над ними, вне людей и без них. Режиссеру даже не понадобилось ничего ей объяснять, да и не был он склонен к пространным рассуждениям. Ему нужны были актеры, которые нутром чувствуют атмосферу, навеянную текстом и создаваемую на площадке.
Владимир Лемешонок расслышал в чужестранце Бото Штраусе своего любимого Чехова. От одного к другому пролегла Ариаднина нить и вывела на новый уровень прочтения текста. Стало ясно, что абсурд, сочиненный Чеховым, питает абсурдистов ХХ века. Кстати, когда Бото Штраус адаптировал к западной сцене горьковских «Дачников», переписав их под свою эстетику, то критики разом обнаружили, что пьеса получилась воистину чеховская.
Тузенбах в «Трех сестрах» говорил: «Смысл… Снег идет. Какой смысл?». Во всех этих чеховских разговорах какой смысл? И в заумной белиберде «Время и комната» какой смысл. «Драматургия метафизических осколков»: перевернутый мир, поток сознания, столкновение времен, пограничное пространство, потусторонние персонажи, призрачная женщина, оживающая в воспоминаниях и ассоциациях. Ни логики, ни хронологики, ни жанра. Обособленность человеческих фигур друг от друга и от реальности. Предчувствие катастрофы.
Тексты ролей, которые Лем постоянно таскает с собой в распухшем портфеле, похожи на древние манускрипты. Помятые, истрепанные листы испещрены пометками чуть ли не в каждой строчке, значками и поправками, витиеватыми рисунками на полях. Текст казался запутанным, логика не выстраивалась, сначала было мучительно трудно, затем упоительно и азартно продираться сквозь эти дебри, выстраивая певучие реплики Юлиуса: «Уже февраль, а рождественские елки все еще валяются на обочинах. Воробьи с притворной нервозностью болтаются на ветках платанов, как помпоны на шапках».
Его генетическое чутье к слову увлекает в самые глубокие подводные течения пьесы, и бытовой мир остается далеко снаружи. В толще воды и звук меняется, и ритм становится другим. Приплывает особая интонация, ирреальный текст обретает ясность и прозрачность. Лем-Юлиус произносил этот текст легко и просто, с подкупающей человеческой теплотой, и верилось, что в этой фантастической комнате, где скользила и растворялась женщина-фантом, только так и должен он звучать…
С Рыбкиным дружбы не получилось. Бото Штраус, как и Чехов, вопиюще многообразен, и чувствовать его тончайшие нюансы можно по-разному. Прогон и сдача и тому, и другому показались ужасными. Настроение было ни к черту. Но близилась волна успеха. А дух Чехова парил где-то рядом, как всевидящее пенсне в «Вишневом саде» Някрошюса. Пора было двигаться к Астрову.