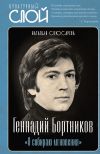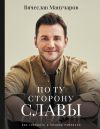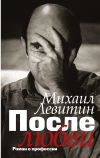Читать книгу "Звук натянутой струны. Артист театра «Красный факел» Владимир Лемешонок на сцене и за кулисами"

Автор книги: Юрий Усачёв
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Монолог главного героя. Про критиков и смерть
– Жанр «Ворона» был для меня нов, образ Дженнаро давался с трудом. Центральная роль, героический персонаж, весь из себя такой благородный, жертвенный, произносит высокопарные монологи – не сразу у меня получилось найти баланс между героической и иронической интонацией. На премьере, подозреваю, был малоубедителен. Но я думал, искал, набирал, в общем, обживал роль. Не ранее чем через год жизни спектакля почувствовал, что мне за нее не стыдно. Но вначале получил массу пинков.
После сдачи «Ворона» секция критиков организовала в Доме актера обсуждение спектакля, куда пригласили меня. Досталось по полной программе. Кто-то из критиков вполне беззлобно заметил: «У тебя там всего две позы». Затем встала первый директор театрального училища Софья Болеславовна Сороко и устроила разнос за беспомощность, однообразие, пластическую невыразительность, сказала, что меня нужно уволить за профнепригодность. Я вскочил и в непозволительно резком тоне орал что-то вроде «для вас было бы лучше, если бы я вообще умер!». – «Молодой человек, нельзя так болезненно реагировать на критику», – посетовала она.
Шел по улице, состояние истерическое, принимал решение уйти из театра, а куда?, тогда уж сразу из жизни уходить. Потом остывал, успокаивался, но перед выходом на сцену волновался так, что всего трясло и колошматило, нога самопроизвольно сгибалась, ходила ходуном, и ничего нельзя было с этим сделать! Вскоре я понял, что бесполезно бороться с этим состоянием, нужно направлять его на пользу, на дело, в спектакль, в сценическое присутствие.
Я всегда болезненно реагировал на критику. Она мне нисколько не помогала, наоборот, выбивала из колеи, приводила в бешенство. А если в рецензии на спектакль, где я играл, меня не упоминали, то считал это плевком в лицо. Мне казалось, весь мир обернулся против меня, и я ненавидел этот мир. Много лет изживал в себе эту черту. Преуспел незначительно.
Сентябрь 2016 г.
12. Прекрасен наш союз
Компания единомышленников в «Красном факеле» сложилась отборная: Лемешонок, Аблеев, Белозёров, Болтнев. Их объединяло то общее, что сразу притягивает друг к другу и делает друзьями: честность, самоирония, независимость мышления, страсть к профессии, интерес к женщинам, выпивка опять же. Атмосфера воцарилась ничуть не хуже, чем в ТЮЗе, с той лишь разницей, что иным был возраст и жизненный багаж. Лем был среди этой четверки самый младший, но постепенно разница в летах стиралась, они становились на равных. С Аблеевым, с которым вместе съели много пудов соли, никакого старшинства вообще не было никогда, они понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда, с полунамека. У них выработался свой птичий язык, окружающим незнакомый. За редким исключением.
Андрей Болтнев, приехавший из Майкопа, появился в труппе тоже в 1978 году. Казался провинциальным, неотесанным, неорганичным, пока не исполнил роль Мефистофеля в спектакле Дмитрия Масленникова «Святой и грешный». И друзья, и недруги без обиняков признали, что он обыграл самого Владлена Бирюкова, назначенного на ту же роль.
Не всем это понравилось. Не нравилось и то, что часто улетал на съемки. Он и не стремился нравиться, не скрывал этого, и к нему относились настороженно, а то и с опаской. Слишком много на себя берет. Чересчур прямой, резкий. Что думает, то и говорит. Гнет свою линию и не заботится о карьере. Никакого уважения к начальству, никакого почтения к старшим. Главный режиссер Виталий Черменёв призывает: «Если коммунисты скажут: встань с нами к стенке, – встанешь?», а он нагло усмехается: «С вами, коммунистами, – не встану!». Веселый, простой и открытый. Наш человек.
Михаил Аблеев и Андрей Болтнев в «Красном факеле» не задержатся. А Игорь Белозёров и Владимир Лемешонок останутся здесь навсегда. У них сложится дуэт, вопреки обыкновению, не по принципу толстого и тонкого, умного и глупого, разности величин, фактур и темпераментов, а в силу единства и борьбы сложностей. Они станут на сцене единым целым, их скрестят друг с другом и выведут новую породу сверхактера, но это случится в далеком будущем – в 2006 году.
А пока они играют одну роль на двоих, в очередь – прокурора в однодневке «Тринадцатый председатель», старшего сына в загадочном «Долгом путешествием в ночь», корреспондента советской газеты в быстро стершейся из памяти «Моей надежде». «Я много лет гнался за ним бессознательно, и в какой-то момент мы сравнялись в весовых категориях», – скажет Лем. В их первом совместном на этой сцене спектакле «Аладдин и волшебная лампа» расклад опять, как и в ТЮЗе, получился неравный. Белаз сочинял Алладина, а Лему досталась роль всего-навсего какого-то евнуха. Недоумевая, как вертеть эту дурацкую роль, Лем придумал тонкий издевательский голосишко, и на этом успокоился.
Игорю Белозёрову пришлось сложнее. Он вступил в конфликт с главным режиссером: «Игорь, бытовишь образ, Сережа ближе к правде!». Семену Иоаниди больше нравилось, как Аладдина играет Сергей Грановесов. Тот огранивал роль, придавал ей вес и значимость, держал спину прямо, голову гордо, формулировал: «Аладдин – человек избранный, и сознающий это». Белозёров же считал, что внучка великого Образцова, Елена Образцова, по образованию кукольник, поставила хрестоматийный спектакль, события которого просты и понятны, и нечего тут пальцы гнуть. Актерская интуиция подсказывала пригасить свою природную мощь там, где она не требовалась.
Склонность Игоря Белозёрова к резонерству создавала ему немало трудностей в работе, но в этом он весь. Проговорить свои соображения ему требуется вслух, на площадке, в процессе, а не додумывать дома. На худой конец можно поразглагольствовать и в гримерке, и Лем с готовностью откладывает книгу. Игорю Афанасьевичу необходим оппонент, с тем чтобы обязательно возражал, из этого он черпает творческую энергию. Именно так он идет к образу, будь то главная роль или второстепенная. Лем, постигая этот феномен, сочинил «Стихотворение, посвященное Белазу, самому простодушному из известных мне суперменов». Оно было напечатано много позже – в газете «Ведомости» в сентябре 1997 года как часть эссе «Сбивчивый монолог на венском стуле»:
Так пусть, не чая выжить,
Не тщась стяжать успех,
Актер крахмалит брыжи
И просится на грех.
Дрожит в тени кулисы,
На реплику спешит,
От быта не зависит,
Не льстит, не мельтешит.
Пусть пьет, блудит и плачет,
Боится сквозняка,
Но ради сверхзадачи
Умрет наверняка.
И, кланяясь в финале,
Усталый полубог,
Он будет горд, нахален,
Нелеп и одинок.
13. …и счастье в личной жизни
С отвращением листаю жизнь мою! Вернувшись из армии, он захотел пить любовь большими сладкими глотками – и захлебнулся. Временно упустил из виду, что отношения с прекрасным полом придуманы для сплошных мучений.
Господи, сколько женщин говорили ему «Я тебя люблю»! Наиболее умные добавляли при этом: «Я понимаю, что это не взаимно». Приближаясь к нему, женщины намагничивались надолго, а то и навсегда. И даже если он решал увеличить расстояние и отрубить по живому, магнит продолжал притягивать без его на то согласия. «Те, кто его любил, были с ним, как правило, несчастны, а без него – еще несчастнее», – через много лет напишет Дмитрий Быков о Маяковском в одной из его любимых книг «Тринадцатый апостол».
Вереница страдающих возлюбленных никак не могла повлиять на самооценку самоистязателя. Самолюбие требовало более утонченных доказательств собственной значимости – и не находило их. А если он влюблялся, то именно в этом состоянии наиболее остро ощущал свою ничтожность. Что за слово нелепое – любовь, почему его произносят всуе, как горько, что все это происходит низко, приземленно, внекрыло. Он, с его максимализмом, требовал от любви абсолюта, а не получая его, проклинал недостижимую бесконечность.
Костюмерша Оля Скрябина возникла случайно, но надолго. Своей выступающей нижней челюстью Оля ассоциировалась у него с Алисой Фрейндлих, чем и покорила. Она была единственной из всего донжуанского списка, с кем Лем явился ярым инициатором отношений. Подруги предупреждали Олю, что не надо бы с ним связываться, и она оставалась холодна к его уловкам. Как у Маяковского: «Приду в четыре, сказала Мария. Восемь. Девять. Десять»…
1979 год собирались отмечать вчетвером: Оля и ее подруга пригласили в гости Лема с Уздой. Артисты, нагруженные мандаринами и шампанским, постучали в дверь коммуналки на Ипподромской. Застыли на пороге: в комнате уже расположились два кавалера и чувствовали себя как дома. Друзья ни слова ни говоря повернулись и вышли. Узденский выводы сделал сразу. Он не прощал ударов по самолюбию. Лемешонку оставалось только восхищаться твердостью его характера.
На их счету свидания на морозе, куда Оля не стеснялась приходить в валенках, объятия в костюмерной, выяснения отношений, взаимные обиды, хлопанье дверьми, мольбы и слезы, горький привкус мезальянса, интересное ощущение на пальце обручального кольца, стремление поскорее съехать от родителей и поселиться в коммуналке, где у них не переводились звоны бокалов и разборки с соседями.
Странное дело, они познакомились на работе, но Оля была в театре человек случайный. Творчество было отдельно, личная жизнь отдельно. Олю больше волновало, как муж ведет себя в быту и сколько денег отдает на хозяйство. Особо не вдаваясь в тонкости искусства, она элементарно хотела семью и детей. Она вышла замуж не за того человека. Лем не перестанет терзать себя, что искалечил ей жизнь.
В один момент захотелось все бросить и замыслить побег. Хоть куда, лишь бы отсюда. Лем выбрал Омский театр драмы, где в то время происходил творческий взлет. Легендарный директор Мигдат Ханжаров согласился принять в труппу молодого, но уже известного артиста. Стали обговаривать детали, директор задумался, куда поселить приезжего, задал уточняющий вопрос: «Вы женаты?» – «Если останусь здесь, то уже нет». Директор понравился, театр понравился, город понравился. Проблема обозначилась в нем самом: он – человек места. Каким бы ни было это место, оно у него одно, и другого не будет. И поэтому невозможно жить в чужой квартире, в чужом городе, в чужой стране. Работать в чужом театре. В тот же день Лем взял обратный билет и вернулся домой. Новосибирск не отпускал, но брак был под вопросом. Вся жизнь была сплошной брак. За исключением сына Жени.

Мужская часть семьи, 1990 г. Фото Геннадия Седова.
Честно говоря, Лем не собирался взваливать на себя такую ответственность. Он категорически не представлял рядом с собой ни домашних любимцев, ни комнатных растений, не говоря уж о детишках. Как напишет один из его любимых писателей Людмила Улицкая в «Лестнице Якова» про гениального математика Витасю, собственная жизнь виделась ему «навязанной и мучительной, и производить на свет еще одно страдающее существо, подобное ему самому, он не желал».
В 24 года Лем стал отцом и приступил к взращиванию Лемешонка Третьего.
Монолог главного героя. Про нервы и детей
– Я не считаю Женю другим, то есть отдельным от меня человеком. Считаю его частью себя. Он – это я. У нас одна кровеносная система. Предчувствовал, что это произойдет, что на детей придется тратиться так же, как на себя, что они никогда не будут отдельно, и всё это будет моим бюджетом, моими нервами, и никуда от этого не деться. Поэтому не хотел детей, не видел в себе для этого сил. Но когда появился Женя, я понял, что люблю это крошечное существо, а теперь горжусь им, многому у него учусь и слушаю практически не перебивая. Сын – самый главный человек в моей жизни.
Июнь 2016 г.
Никто Женю особо не воспитывал, ведь понятие «воспитание» принадлежит кисейным барышням. Привел к себе на работу, отпустил бродить по закоулкам закулисья – вот и всё воспитание. Но прежде чем впервые переступить порог «Красного факела», трехлетний Женя доказал наличие в своем организме театральной крови.
В понедельник, то есть в актерский выходной, дома наступили редкие часы перемирия. Родители уселись смотреть по телевизору «Три поросенка» – первую за многие годы детскую сказку, которая, как признал худсовет, имела художественную ценность. В веселой, остроумной, увлекательной постановке Дмитрия Масленникова Наф-Наф, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф были непростыми ребятами, а заправлял оравой волк. Из всех волков, сыгранных Владимиром Лемешонком, этот был самый креативный.
Женя невозмутимо ползал по полу. Вдруг он поднял голову от игрушек и заявил о своем открытии: «Папа – вок!». Застыл у телевизора. Не шелохнулся на протяжении всего зрелища. Теперь уже родители смотрели не на экран, а на него. В общем, с ребенком стало всё понятно.
Совсем скоро, в почтенном возрасте пяти лет, Лемешонок Третий впервые вышел на сцену. Вместе с дедом играл в спектакле «Виноватые» по Арбузову. Роль была эпизодическая, но возвышенная – главный герой в детстве. Женя взлетал туда-сюда на качелях, читая при этом стихи Тютчева. Стихи выучились легко, на сцену бежалось вприпрыжку. Вот вам и готовый артист, умилялись родители. Они еще не знали, что эта роль останется единственной, потому что Судьбой уготовано выходить на сцену только на поклоне, да и то лишь в премьерном спектакле. Зато он будет присутствовать в каждой своей постановке весомо и зримо, с начала и до финала.
«Женина мама своим генетическим вкладом спасла его от похожести на меня. Жизнелюб, он защищен от жизни позитивом, который смягчает удары, попадающие в меня напрямую», – констатирует отец.
И характером, и внешне Женя вышел в мать. Но с годами окружающие всё чаще стали замечать, что Женя – вылитый отец. Будто бы он один-в-один скопировал с оригинала и походку, и мимику, и жесты. А главное, отцовская наследственность пригвоздила его к театру. Не пройдя на актерский факультет, Женя решил, что всё, что ни делается, к лучшему, – и выбрал профессию художника-сценографа.
В общем, привязанности-женщины-друзья приходят и уходят, а сын остается.
14. Явление Хлестакова
С самого училища он мечтал о двух заветных ролях мирового репертуара. Одна роль – удачливого самозванца, другая – рефлексирующего принца. Сыграть их – дело чести, иначе жизнь прожита зря. Но в «Красном факеле» ловить было нечего.
С авангардным «Вороном» соседствовали проходные поделки, и надо было сильно покривить душой, чтобы увидеть в них хоть какую-то правду. В школьные годы Лем, сопротивляясь советской пропаганде, пересел на камчатку и стал двоечником. Для театра подобный способ протеста не годился.
Он, уже вкусивший успех и выдержавший разгром, был охвачен тайным стремлением быть первым, а материал не давал на то оснований и возможностей. Существовала опасность принять весь этот бред всерьез, чтобы избавить себя от дискомфорта, уверовать в навязываемые идеалы, считать себя патриотом Родины. Но не мог он себе позволить такой роскоши. Стойкое чувство ответственности перед работой вытеснялось вынужденным пофигизмом, ставшим самозащитой от компромиссов с совестью, от разрушения души идеологическим пафосом.
Семен Иоаниди поставил не только авангардное «Гнездо глухаря», а еще и пропагандистского «Тринадцатого председателя». Это была дань методу социалистического реализма, против которого не попрешь. Весь СССР бросился ставить эту пьесу, и дружно забыл о ней через год-другой. Также повсеместно ставили Михаила Шатрова, «Красный факел» не исключение. Играя в пролетарском спектакле «Синие кони на красной траве», Лем был не в состоянии запомнить текст комсомольской клятвы: «Моя идеологическая платформа была такова, что не позволяла присвоить этот противоестественный для меня текст». Он стоял на сцене в гимнастерке, пилотке, с гордым видом, а помреж, скрываясь за ближайшей кулисой, подсказывал слова. Они в одно ухо влетали, а в другое, соответственно, вылетали. «Володя, мусор у тебя в голове», – журил глубокоуважаемый Альберт Дорожко, игравший Ленина, по совместительству директор «Красного факела». Альберт Иваныч наставлял и Аблея: «Миша, ты как-то разболтанно себя ведешь на сцене, какой-то ты весь расхлябанный, а ведь перед тобой вождь партии!».
Несмотря на вынужденную дань соцреализму, Семен Иоаниди был отправлен партократами на пенсию. После его ухода в «Красном факеле» началась натуральная свистопляска режиссеров. Первым главрежем из череды пришельцев-временщиков был Виталий Черменев. В официальной истории «Красного факела» о его периоде сказано: «Возникали такие ложно-пафосные постановки, как „Правда памяти“ или „Не был, не состоял, не участвовал“. Немалую дань в эти годы театр отдал и развлекательным „Притворщикам“ и „Жизнерадостным ребятам“, а вот к русской классике обращался реже, чем хотелось бы, порой по два-три года не осуществляя новых постановок».
Из архива. Про дурные анекдоты
1 декабря 1990 года газета «Вечерний Новосибирск» к 70-летию театра «Красный факел» опубликовала обзорную статью профессора Юрия Шатина, где он дает критический анализ репертуарной политики театра за два десятилетия. Период Виталия Черменева отмечен автором как кризисный. В качестве примера взят спектакль «Хмель»: «Эстетическая беспомощность и полное отсутствие вкуса, характерные для романа, не только не преодолены были театром, но, скорее, оказались возведенными в квадрат. Техническая слабость, несведенность основных сюжетных линий инсценировки откровенно дисгармонировали с претенциозной режиссурой». Далее автор анализирует другую художественную неудачу: «Сегодняшнему читателю и зрителю пьеса Ю. Макарова „Не был… не состоял… не участвовал“ может показаться дурным анекдотом, но она отчетливо выражала господствующую в официальных кругах точку зрения, согласно которой любые художественные недостатки могут быть компенсированы избытком идеологического пафоса».
И вот ради этого стоило рваться на сцену? Репетировать противно, выходить к зрителю стыдно. Тухлые советские штампы вызывают тошноту. Шершавые слова царапают горло. Бесполезно превращать персонажа в живого человека. Главреж репетирует вдумчиво, раскладывает листы с напечатанным текстом пьесы по всему своему необъятному столу, звякает ножницами, купирует, монтирует, перекраивает, переклеивает реплики, предлагает варианты, увлекает в дебри поиска. Веселый, обаятельный, трясет эффектной, как у Стеньки Разина, бородой, которая действует на актрис гипнотически. Двери его гостиничного номера по вечерам распахнуты для теплых встреч.
Монолог главного героя. Про брови и смех
– Лемешонок-старший был безумно смешон в «Ревизоре». Еще на читке мы покатывались со смеху над каждой его репликой, над каждой, всегда неожиданной, паузой. Он был центром спектакля. Казалось, ему достаточно было пошевелить бровями, и все становилось ясно – и партнерам, и зрителю. Зал то корчился от смеха, то замирал в изумлении. Это была его роль, от начала и до конца!
Июль 2010 г.
Именно такого эффекта и ждал режиссер, приглашая Евгения Лемешонка на роль Сквозника-Дмухановского. И конечно же, эффект усиливался в дуэте с сыном, который оттенял важность Городничего своей непосредственностью, привносил сюда романтическое звучание.
Лемешонок-младший безраздельно присвоил себе Хлестакова, нисколько не сомневаясь в праве собственности на эту роль. Поначалу согласие с командой было во всем. Репетировал в паре с Сергеем Петровым, приятелем по театральному училищу. В те времена назначение двух артистов на одну роль было априори, и Лемешонок с Петровым, вместе сочиняя образ, чувствовали себя единым целым. Пока один работал на площадке, другой исследовал героя со стороны. Каламбурили, радовались каждой совместной находке, после репетиции лакировали эйфорию алкоголем. Оба безоглядно ринулись в этот фантастический текст, в этот глубинный смысл, в эти упоительные реплики, помогавшие оторваться от земли и лететь на яркий сияющий свет, не замечая, как от ракеты осыпаются куски и осколки. Жизнь за бортом проходила как в тумане.

С Лемешонком-старшим в спектакле «Ревизор», 1982 год. Фото Геннадия Седова.
Ближе к премьере обнаружились разногласия. Режиссера не устраивало, что Хлестаков Лемешонка движется против течения спектакля. Натура неудобного артиста требовала нестандартных решений. Он видел своего Хлестакова глубже, ярче, чем ему предлагали, он его чувствовал таким, и делал таким, каким чувствовал. В который раз он создавал свой спектакль внутри спектакля. Белов всё активнее отдавал предпочтение Петрову, который и сыграл премьеру. Но Хлестаков Лемешонка жил вопреки всему, и жил взахлеб, каждый раз доказывая право быть самим собой.
Лему снились сны совсем не хлестаковские, начисто лишенные цветов удовольствия. Сны-насмешки, сны-издевки, сны-козни. Снилось, как он идет на сцену и не может дойти, запинается, качается, падает, не может подняться, паника, ужас, катастрофа, он силится объяснить, что трезвый, трезвый же, но не может произнести ни слова, даже двигаться не может. Еще снилось, что до выхода на сцену осталось пять минут, и вдруг выясняется, что он не знает текста и что вообще не репетировал. Впрочем, этот сон снится всем актерам, да и не по одному разу. Это сон-наваждение, сон-спутник, сон-клише. Был и самый издевательский сон. В этом сне он, не знающий текста, не затрачивающий ни нервов, ни души, всего лишь поворотом головы, легким мановением руки вызывает неистовый восторг зала. Проснувшись, он давился горьким хрипловатым смехом, плотно стиснутыми веками преграждая путь едким, как кислота, слезам.
И только раз, всего один-единственный раз приснилось, как он ступил на сцену, зная, что усилия не напрасны, и получит от нее всё, что хотел. Нет никакого земного притяжения, полная свобода, полет, невесомость, парение, воздух, астрал, космос. Он вытворяет неведомо что, ему подвластно и собственное тело, и собственная душа, и весь мир. И зал сходит с ума, млеет от восторга, рукоплещет в бесконечной нирване, вальсирует в вихре единения и любви. Просыпаешься – и еще находишься во власти этого неземного чувства, душевного трепета, теплой волны неизбывного счастья. Всего раз был такой сон. Всего один раз.
И Хлестаков обрел полет. Владимир Лемешонок играл историю про то, как фитюлька на один день попадал в мечту, и получал всё, что хотел. Как в той бардовской песне про лилипута, которому приснилось, что он великан. Хлестаков никак не инициировал это событие, на него оно свалилось неожиданно, само собой. Маленький человек в мечте вознесся до фельдмаршала, до героя-любовника, чуть ли не до полубога. И все сходили по нему с ума, млели от восторга, вальсировали в вихре единения и любви. Теплая волна неизбывного счастья обволакивала всё его существо. Всего на один день. Уезжая, он как будто умирал. Ведь жизнь только началась – и уже кончилась. Жизнь, которая могла только присниться…
Лем сыграл роль, о которой мечтал, – и к концу своего единственного сезона в ТЮЗе ощутил, что здесь ему делать больше нечего. Тем более сладкий роман с Марьей Антоновной, ошеломившей талантом и обаянием, к тому моменту совсем истощился. Тянуло домой, в родной театр.
Собутыльники подливали масла в огонь. Аблеев, Болтнев и Белозёров уверяли, что живется им легко и приятно. Шутили, что телеграфист в «Большевиках» вышел в тираж, кто только не переиграл вслед за ним эту роль с тремя словами, сидя спиной к залу и изображая азбуку морзе, возвращайся, мол, играть телеграфиста. Были и более ценные свидетельства. Особенно заразительно они описывали гастроли в Ленинград и Вильнюс, и особенно – упоительные любовные приключения там. Да и других было много событий, от участия в которых Лем не стал бы отказываться. Пора было возвращаться. Черменёв принял блудного сына с распростертыми объятиями. Шел 1983 год.
Потом режиссеры часто будут приглашать его и в НГДТ, и в «Старый дом», и в ТЮЗ, но отныне и навсегда в программке напротив его фамилии будет стоять пометка «артист театра „Красный факел“».