Текст книги "Эмансипированные женщины"
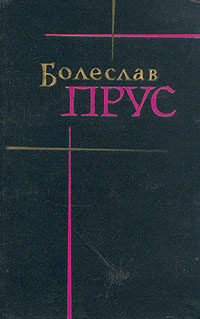
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 63 страниц)
Глава двадцать четвертая
Отъезд
Спустя несколько дней ксендз, майор и Ментлевич снова были на полднике в саду у доктора Бжеского. Ксендз только что протянул руку, чтобы взять себе сахару, как прибежала кухарка с криком:
– Телеграмма! Панночке телеграмма!
И, бросив на стол депешу, с беспокойством уставилась на Мадзю.
Доктор поднял голову, докторша встревожилась, Мадзя побледнела, а ксендз с рукой, протянутой к сахарнице, повторил:
– Телеграмма? Что бы это могло быть?
– Ну, что особенного? – заметил Ментлевич, который больше чем другие иксиновцы привык к депешам. Однако и на его лице изобразилось волнение.
– Телеграмма? Мадзе? – бормотал обеспокоенный ксендз.
– Уж не болен ли Здислав? – прошептала докторша.
Только майор, который на полях сражений привык к опасностям, не потерял присутствия духа при таком чрезвычайном происшествии, каким была телеграмма в Иксинове. Все взоры обратились на него, и все вздохнули с облегчением, когда неустрашимый старец взял со стола депешу, разорвал ее со свойственной ему стремительностью и, отодвинув подальше бумагу, начал читать по складам:
«Если принимаешь место приезжай воскресенье путевые издержки будут возвращены ответ оплачен.
Малиновская».
– Я что-то не соображу, – сказал майор.
– Все ясно, – сказала Мадзя, заглядывая в телеграмму через плечо майора. – Я сейчас же отвечу панне Малиновской, а в субботу уеду в Варшаву.
– Не увидишься с Зосей, – прошептала докторша.
– Ну, не говорила ли я, что беда пришла? – всхлипнула кухарка, поднимая к глазам передник.
– Прочти-ка еще раз, – в замешательстве сказал доктор. – Может, что-нибудь не так…
– Нет, папочка, – ответила Мадзя. – Это воля божья!
– Правильно говоришь! – вмешался ксендз. – Выше воли божьей не будешь.
– А может, вы, панна Магдалена, не согласитесь принять это место? – заметил Ментлевич. – Тогда и уезжать не надо…
Майор посмотрел на него глазами, налившимися кровью, и молодой человек под этим взглядом заерзал на скамье.
– Ментлевич! Ментлевич! – сказал майор, грозя ему толстым пальцем. – Знаю я, Ментлевич, что ты во сне видишь…
– Даю слово, пан майор, – запротестовал тот в испуге.
– Да, да! – настаивал майор. – Но только знаешь, что из этого получится? Вот что!..
И он поднес ему кукиш под самый нос, так что смиренный поклонник Мадзи даже отшатнулся.
– Так что же из этого получится? – спросила докторша, занятая своими мыслями.
– Кукиш, – заявил майор.
– Мадзя не поедет! – с радостью воскликнула бедная мать, хватая майора за руку.
– Отчего же ей не ехать? – с удивлением сказал старик. – Поедет в субботу.
– Вы же, пан майор, сказали, что нет, – ответила докторша.
– Э, да это я Ментлевичу сказал.
– Слово чести… – покраснев до корней волос, клялся Ментлевич.
– В субботу утром Мадзя поисповедуется перед обедней, которую мы отслужим за ее здоровье, – сказал ксендз, – ну и причастится…
– Боже, боже! И она должна ехать? – сокрушалась докторша. – Ведь и каникулы еще не кончились, да и сестру ей следовало бы повидать…
– Долг прежде всего! Надо о том думать, что кусок хлеба дает! – рявкнул майор, хлопнув кулаком по столу. – А вы, сударыня, не расстраивайтесь по пустякам, а то сделаете из девчонки слюнтяя. Надо так надо!
– Ясное дело! – прошептал доктор.
Мадзя присела к матери и обняла ее за шею.
– Знаете, мамочка, я очень довольна! Мне у вас хорошо, прямо как в раю, но я, мамочка, уже скучаю без дела. Да и прекрасно мне будет у этих господ, очень будет весело, ведь панна Малиновская такая благородная женщина. Жаль, что вы ее не знаете…
Но мать уже плакала, и Мадзя, опершись головой на материнское плечо, тоже начала плакать. У ксендза в глазах стояли слезы, доктор сосал дешевую сигару, пан Ментлевич склонился над столом, а кухарка ревмя ревела на кухне.
Увидав это, майор поднялся со скамьи и со словами:
– Я сейчас… – направился в глубь сада, на ходу вытаскивая из кармана фуляровый платок.
Мадзя чувствовала, как мучительная судорога сводит ей лицо, сжимает горло, медленно подступает к сердцу. Но она стала успокаивать мать:
– И чего это я? Ну не смех ли? Нет, вы только послушайте, мама, что я вам скажу: представьте себе, что у вас с папой не один, а два сына. Здислав уже устроен, а я, младший сын, только должна начать зарабатывать себе на жизнь. Боже мой, какой это грех горевать в такую минуту! Сколько людей не имеют работы и напрасно ищут ее. Они бы несколько лет жизни отдали за любую работу; а я такая счастливая, что без труда получила место, и – реву! И вы, мама, тоже… Правда, ваше преподобие, это грех? Мамочка, я говорю совершенно серьезно…
– Ты говоришь, как христианка, – поддержал Мадзю ксендз.
– Все это бабьи церемонии, – подходя к беседке, сказал майор, у которого нос стал совершенно сизым. – Вместо того чтобы бога благодарить, да девчонке уши надрать, чтобы хорошенько занималась с ученицами, вы ревете так, точно у вас палец нарывает. Скоро станете расстраиваться, когда муж к больному в деревню поедет.
– К больным ездит только ксендз со святыми дарами, а доктор ездит к пациентам, – прервал его ксендз.
– Вы, ваше преподобие, своих служек учите церковной службе, а мне не указывайте! – размахивая трубкой, отрезал рассерженный майор.
– Мадзя, принеси-ка шахматы, – сказал доктор.
– Я вам помогу, – вызвался Ментлевич.
– Ментлевич, ну-ка посиди! – рявкнул майор, стуча трубкой по скамье. – Он поможет ей принести шахматы, слыхано ли дело! Я тебе как-нибудь такое учиню, что ты сразу перестанешь за девками бегать!
– Что это вы там, пан майор, учинять собираетесь? – заметил ксендз. – А еще обижаетесь, когда вас поправляют!
– Чертов поп! – проворчал майор, высыпая на доску фигуры. Однако тут же смолк, заметив, что ксендз смотрит на него так, точно сейчас обидится и не станет играть в шахматы.
Вечер прошел не так весело, как обыкновенно. Ксендз делал ошибки, а майор не поднимал шума, только тихо ворчал, что не сулило ничего хорошего. Ментлевич с затуманенными глазами рассказывал вполголоса доктору, что не находит в Иксинове приложения для своих способностей; доктор сосал потухшую сигару и слушал его, глядя в потолок беседки, увитый густыми листьями. Мадзя стала было прохаживаться по саду, но почувствовала, что совсем расстроена, и решила наконец пойти прогуляться за город.
«Схожу на кладбище, – сказала она себе, – попрощаюсь с бабушкой».
Она нарвала в саду цветов, сделала два букета и, выйдя по переулкам за город, направилась по дорожке через поле.
Надвигался вечер. На холме раздавались крики пастухов, гнавших скотину в город: по дороге, между темными стволами лип, катились воза со снопами. Время от времени полевой кузнечик выскакивал у Мадзи из-под ног или баба, тащившая в рядне охапку травы, приветствовала ее словами: «Слава Иисусу Христу!»
Дорожка вывела Мадзю к кладбищу, и девушка вспомнила, что в этом месте Цинадровский обычно перескакивал через ограду, когда шел на свидание с панной Евфемией или прощался с нею.
– Бедняга! – сказала про себя Мадзя, сворачивая к кладбищенским воротам. – Надо за него помолиться. Обе мы забыли о нем, а ему, может, больше, чем другим, нужна молитва», – прибавила она, не без горечи думая о панне Евфемии.
Самоубийц хоронили в углу кладбища, отделенном кустами можжевельника, терна и шиповника. Немного там было могил: спившегося бондаря, служанки, которая покончила с собой из-за ребенка, да Цинадровского. Одна могила ушла уже в землю, другая поросла высокой травой, а третья, у ограды, была совсем свежая.
Вдруг Мадзя остановилась в изумлении. Кто-то помнил о Цинадровском, смотрел за его могилой. Неизвестная рука обнесла ее оградой из палочек, посадила цветы в горшках и, видно, каждый день украшала свежими цветами. Да, это ясно! Можно было даже отличить вчерашние, позавчерашние и совсем уже увядшие цветы.
У Мадзи слезы выступили на глазах.
«Ах, какая я гадкая, – подумала она, – и какая благородная девушка эта Фемця!.. Конечно, только Фемця помнит об этой могиле!»
Мадзя положила на могилу два цветка из своего букета и, опустившись на колени, прочла молитву. Затем она вернулась на могилу бабушки, помолилась за душу своей дорогой опекунши и с двойным старанием стала убирать ее могилу.
«Хорошая, благородная девушка Фемця! – думала она. – А мы все так сурово осуждали ее…»
Незадолго до захода солнца скрипнули ворота, и кто-то вошел на кладбище. Мадзя с бьющимся сердцем спряталась между деревьями, она думала, что это панна Евфемия, и не хотела обнаружить, что знает ее тайну.
Действительно, послышался тихий шорох, и на боковой дорожке вдоль кладбищенской ограды проскользнула фигура женщины в темном платье. За ветвями Мадзя не могла узнать ее, но была уверена, что это панна Евфемия, потому что женщина направилась прямо к месту захоронения самоубийц.
«Как она, бедняжка, видно, переменилась, – думала Мадзя, – даже движения у нее стали иными, какими-то робкими и благородными… Ах, какая я гадкая! Мне первой надо подойти к ней…»
Панна Евфемия действительно должна была очень перемениться, Мадзе даже показалось, что она похудела и стала выше ростом. Движимая любопытством, Мадзя осторожно двинулась вперед.
Дама в темном подошла к могиле Цинадровского. Она положила на нее небольшой венок, а затем наклонилась и начала убирать могилу.
«Фемця? Нет, не Фемця…» – говорила про себя Мадзя, всматриваясь в фигуру женщины. И вдруг крикнула:
– Так это вы, это ты, Цецилия!
И, подбежав к испуганной и смущенной панне Цецилии, она схватила ее в объятия.
– Так это ты помнишь об этом несчастном? И я не догадалась сразу, что это ты… Милая моя, золотая!
– Ах боже, дорогая Мадзя, – оправдывалась панна Цецилия. – Это такой маленький знак внимания! Мы должны помнить о чужих покойниках, чтобы другие помнили о наших. Только молю тебя и заклинаю. – прибавила она, складывая руки, – никому ни слова! У меня были бы большие неприятности, если бы кто-нибудь об этом дознался.
Мадзя помогла панне Цецилии огородить могилу палочками, помолилась вместе с нею, и они вдвоем ушли с кладбища.
– Итак, завтра ты уезжаешь? – спросила панна Цецилия.
– Я должна ехать.
– Я буду скучать без тебя, – говорила панна Цецилия, – тем более что мы так поздно с тобой познакомились. Что ж, ничего не поделаешь! Лучше тебе отсюда уехать! Девушки здесь стареют, как сказал почтенный майор, – прибавила она с улыбкой, – а люди, пожалуй, черствеют. Жизнь в маленьких городках ужасна…
– Тогда переезжай в Варшаву.
– К кому? Зачем? У меня нет никаких знакомств, а главное, я так оторвалась от жизни, что боюсь даже вида чужих людей. В конце концов и у нас есть дети, которых надо учить. Я останусь с ними, а отдыхать буду приходить сюда, – прибавила панна Цецилия, показывая на кладбище.
– Ты знала Цинадровского?
– Нет. Но сейчас я его очень, очень люблю. Он, видно, был таким же забро… таким же диким, как и я… Да и у меня, – прибавила она с горьким сожалением в голосе, – есть могила, которой никто не помнит[17]17
Да и у меня есть могила, которой никто не помнит… – Намек на то, что жених панны Цецилии погиб, очевидно, или в восстании 1863 года, или в ссылке. В условиях царской цензуры нельзя было писать об этом открыто.
[Закрыть], даже я не знаю, где она. Годами терзалась я от неизвестности, а сегодня обманываю себя, что это он здесь…
Они подходили к городу. Панна Цецилия умолкла, однако, успокоившись понемногу, сказала своим тихим голосом:
– Ты уж извини меня, Мадзя, но я с тобой сегодня прощусь. Я не посмела бы проститься при людях…
Они обнялись.
– Помни обо мне, если хочешь, – говорила панна Цецилия, – и пиши хоть изредка! Впрочем, я знаю, там ты найдешь новых подруг…
– Ни одна из них не будет такой доброй и благородной, как ты! – прошептала Мадзя.
– Вот увидишь, какой смешной я тебе покажусь, когда ты будешь в Варшаве. Но я тебя никогда не забуду!
Она пожала Мадзе руку и направилась в сторону аптеки. Мадзя осталась одна, ошеломленная этим странным прощаньем.
Дома мать гладила белье и укладывала вещи, и Мадзя ушла к себе в комнатку, куда вскоре зашел и отец. Он сел на диван и закурил трубку.
– Что ж, – сказал он, – завтра в это время ты будешь уже в вагоне?
У Мадзи захватило дыхание. Она села рядом с отцом, взяла его за руку и, заглядывая ему в глаза, спросила:
– Папочка, может, я плохо поступаю, что уезжаю и бросаю вас?
– Ну, ну! Только без излияний, – с улыбкой ответил отец, гладя ее волосы. – Разумеется, и нам и тебе жалко, что ты уезжаешь, не надо, однако, преувеличивать! Взгляни на меня, я и не думаю огорчаться, потому что наперед знаю, что это необходимо для твоего счастья, кроме того, я уверен, что через год-полтора ты вернешься, и мы будем жить вместе.
– Ах, как мне хочется вернуться сюда!
– Вернешься, милочка. Твой пансион – это дело неплохое. В Иксинове может существовать даже четырехклассная или пятиклассная школа, надо только серьезно взяться за это дело. Майор говорил мне, что он готов дать тебе на пансион тысячу, даже две тысячи рублей, только бы ты подобрала в Варшаве учительниц, а главное, сама на практике познакомилась с административной стороной дела.
– Пан майор сказал это тебе? – с радостью воскликнула Мадзя.
– Да, он и сам тебе скажет об этом. Ну вот видишь, ты уезжаешь вовсе не навсегда, а лишь временно, на практику. Поэтому я совсем не огорчаюсь, да и мать, хоть и прольет, наверно, слезу, все-таки спокойна. Через год-полтора мы снова будем вместе, и тогда ты уже не сбежишь от нас, моя милочка, – прибавил отец, прижимая дочь к груди.
Мадзя украдкой утерла слезы.
– А теперь, дитя мое, – продолжал доктор, – я дам тебе один-единственный совет, который ты постарайся запомнить. Знаешь нашу вишню, ту, что свешивается через забор на улицу? Всяк обрывает на ней не только спелые и неспелые ягоды, но даже цветы, листья, ветви. Так вот, дитя мое, тебе грозит такая же опасность…
– Мне, папочка?
– Да. Люди со всяким человеком поступают точно так же: они отнимают у него деньги, время, труд, красоту, ум, сердце, даже доброе имя. Они все отнимут у него, если он не защитится от них, противопоставив им собственный эгоизм. Поэтому умеренный эгоизм – благодетельная сила, забор для вишни…
– Эгоизм?
– Он самый. У тебя его нет, и с этой точки зрения ты калека, поэтому я не обращаюсь к твоему эгоизму. Но, дитя мое, – говорил доктор, обнимая голову дочери, – не из себялюбия, а из любви к людям, не позволяй обкрадывать себя и эксплуатировать. Жертвуй собой, ибо такова твоя натура, но жертвуй собой ради добрых людей; чтобы добрым дать больше, берегись злых. Помни об этом, чтобы мир не оборвал и не поломал тебя, как уличные мальчишки нашу вишенку.
– А как же мне узнать злых людей? – в задумчивости спросила Мадзя.
– Да, это трудный вопрос, на который я постараюсь коротко ответить тебе. Ищи друзей среди таких людей, которые не столько знамениты или богаты, сколько трудолюбивы; эти люди действительно полезны, ради них стоит жертвовать собой, только они и поймут твою жертву. Но избегай тех людей, которые пользуются сомнительной славой и доходами из сомнительных источников.
– А если кто-нибудь получит состояние по наследству? – с живостью прервала Мадзя отца, вспомнив о Сольских.
– О характере человека надо судить не по тому, что он получил по наследству, а по тому, что он сделал и делает сам. Если человек ничего не делает, он – паразит, тем более вредный, чем больше он тратит.
Опершись головой на плечо отца, Мадзя задумалась.
– Папочка, вы говорите совсем не то, что другие, – сказала она, помолчав. – Все ищут знакомства с людьми богатыми и знаменитыми.
– А ты ищи тружеников, которые больше дают миру, чем получают от него. Человечество переживает различные эпохи: борьбы, открытий, преследований, безумств, поветрия. В эпохе, которую мы с тобой видим, есть всего понемножку, но, пожалуй, слишком много внешнего блеска и жажды наслаждений. Вот я и говорю тебе: берегись этого течения! Кто уверует в него, может кончить позором и потерять душу живу.
Закурив погасшую трубку, доктор продолжал:
– Присмотрись к земным червям. Нет творений более презренных; однако они больше делают для цивилизации, чем завоеватели миров: в тишине и небрежении они создают урожайные почвы. Никакой славы, никакой прибыли, а польза – неизмеримая.
– И я должна стать такой? – спросила Мадзя, глядя на отца сверкающими глазами.
– Ты и сейчас уже такая, потому я и советую тебе: ищи дружбы с такими же, как ты. Дважды ты взволновала умы в Иксинове: когда устроила концерт и когда побудила людей открыть здесь школу. Что ты получила за это? Ничего, разве только зависть и сплетни. Но странствующие актеры получили доход, у панны Цецилии будет несколько учениц, а учителю повысят жалованье, потому что ты привлекла внимание города к его нуждам. Ну, обними отца и… никаких слез! Через год-полтора мы увидимся!
На следующий день утром, когда Мадзя возвращалась домой после обедни, которую ксендз отслужил за ее здоровье, сестра пана Круковского преградила ей путь.
– Ты уж, Мадзя, извини, что я на обедню опоздала. Я затем пришла, чтобы тебе, ну… и всем прочим дать доказательство того, что я люблю тебя и считаю самой достойной девушкой!
Тут она опирается на плечо Мадзи, провожает ее до середины площади и там, в присутствии крестьян, стоящих с двумя подводами, полицейского и четырех евреев, целует Мадзю в голову и силком сует ей в руки какую-то коробочку.
– Клянусь богом, это жемчуга! – говорит еще издали пан провизор.
– Если не брильянты, – прибавляет аптекарь.
И все, кто присутствовал на обедне в костеле, начинают махать шляпами и всячески выражать свое восхищение красивым поступком экс-паралитички, которая прощается с Бжескими и майором и возвращается домой, надувшись, как индюк, и опираясь на свою палку.
– Важная старуха! – заявляет восхищенный аптекарь. – Нет такого дня, чтоб я у нее хоть рубля не наторговал.
Мадзя никак не могла вспомнить, что делала в последние несколько часов в доме родителей. Помнит, что пила кофе, затем съела бифштекс и запила его вином, которое принес майор и от которого у нее закружилась голова. Потом мать что-то толковала насчет белья и платьев и со слезами вручила ей длинный реестрик.
Затем приехала подвода за вещами, и разогорченный пан Ментлевич, воспользовавшись этим обстоятельством, что-то говорил Мадзе, кажется, о своих больших способностях, в чем-то ей клялся, наверно, в том, что в самом непродолжительном времени переедет в Варшаву.
Он бы, может, еще долго говорил и клялся, если бы не красноглазый майор, который схватил Мадзю за руку, увлек ее в соседнюю комнату и сурово спросил:
– Говорил тебе отец, что ты можешь открыть здесь пансион, разумеется, когда свету повидаешь?
– Говорил. Спасибо вам, большое спасибо!
– Глупости все это, трубки табаку не стоит! – прервал ее майор. – Так вот слушай: после моей смерти получишь четыре тысячи. Помолчи! А через год могу одолжить тебе тысячу, две тысячи под процент. Понятно?
– Но, пан майор…
– Помолчи! А теперь спрячь вот это, – закончил он, протягивая ей кошелек из лосиной кожи. – Помолчи! Приняла от этой сумасбродки браслет, можешь взять от меня несколько золотых. Но только про черный день, помни!
– Я не могу…
– Тсс! Ни слова! От меня ты можешь принять как… от старшего брата.
Как ни огорчена была Мадзя, однако рассмеялась, услышав этот титул, и поцеловала майора в руку.
– Жена начальника уже едет, – вбегая в комнату, крикнула мать.
К крыльцу подкатил экипаж. Кто-то одел Мадзю, она повалилась в ноги отцу и матери и почувствовала, что лицо и лоб у нее мокрые от чужих и своих слез. На улице стояла толпа, кто-то целовал ей руки, какие-то мужчины усадили ее в экипаж и засыпали букетами цветов. Потом дверцы захлопнулись, и экипаж тронулся.
– Будь здорова! Пиши! Не забывай! – кричали с крыльца.
– Господи, благослови, – крикнул кто-то чужой около забора.
Экипаж колыхался и катил, колыхался и катил, катил без конца. Когда Мадзя отняла от глаз мокрый платочек и, попросив у жены уездного начальника извинения за беспокойство, повернула голову, вдали видна была уже только колокольня иксиновского костела, блестевшая на солнце.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава первая
Возвращение
– Панна Магдалена, пора вставать!
Вместе с этим возгласом Мадзя услышала стук колес, лязг цепей и торопливое пыхтенье паровоза. Но в вагоне ее укачало, и она никак не могла открыть глаза.
Внезапно стукнуло окно, и Мадзю обвеяло струей свежего воздуха. Она вздохнула и протерла глаза.
Сон пропал, Мадзя начинала сознавать окружающее. Она сидит в уголке купе первого класса, а напротив нее спутница, жена начальника, глядясь в маленькое зеркальце, умывает одеколоном лицо и приглаживает волосы. Над миром ясное утро.
– Добрый день, пани начальница!
– Добрый день, добрый день, милая панна Магдалена! Вы крепко спали! После бани и после слез всегда хорошо спится.
– До Варшавы еще далеко? – спрашивает Мадзя.
– Мы выехали с последней станции.
Мадзя, покачиваясь, подходит к окну и начинает смотреть на окрестность.
Поля сжаты; на пожнях вспыхивают и гаснут капли росы; листва деревьев, убегающих назад, какая-то блеклая, будто осень здесь начинается раньше, чем в Иксинове. Порою в полях забелеется хата, обнесенная изгородью; издалека видны две высокие трубы.
А на самом горизонте встает огромное серое марево, разрезанное поперек тремя дымными полосами. Нижняя полоса – это Повислье, средняя – склоны, верхняя – шпили Варшавы, которая напоминает таинственную гряду зубчатых гор с пиками, там и тут уносящимися ввысь.
– Ну и воздух у вас здесь, в Варшаве, – говорит жена начальника. – Я уверена, что через два дня легкие у меня станут черными. – Ах, господи, и как вы только можете жить здесь?
– А вы взгляните, чем ближе мы подъезжаем к городу, тем скорее рассеивается дым. О, вон башня кирки, слева костел Святого креста, справа – Рождества богородицы. Видно, ясно видно!
– Нет, уж покорно благодарю за такую ясность! Господи! Да я бы за год здесь умерла! А вы, панна Магдалена, как начнутся каникулы, возвращайтесь в Иксинов. О, вот и свисток! Сейчас выходить! Я вас довезу.
С этими словами жена начальника начинает доставать из вагонной сетки узлы, баулы, зонтики. Поезд замедляет ход, слышен громкий говор, кондуктора открывают двери.
– Варшава!
– Эй, носильщик! – зовет жена начальника. – Закажи-ка поудобней пролетку! – Она сует носильщику целую кучу вещей.
Поверх плеча носильщика Мадзя замечает худенькую девицу в темном платье, озабоченное лицо которой кажется ей знакомым.
– Мадзя! – протягивая руки, окликает ее вдруг озабоченная девица.
– Жаннета! – отвечает Мадзя. – Что ты здесь делаешь?
– Я приехала встретить тебя.
– А ты откуда знаешь, что я должна вернуться?
– Ты же телеграфировала панне Малиновской, вот она меня и послала.
Обе барышни с такой стремительностью падают друг другу в объятия, что загораживают проход и задерживают на перроне движение. Их задевает тележка, толкает кондуктор, наконец на них натыкается носильщик и нечаянно разделяет зонтиком жены начальника.
– Итак, я вам больше не нужна, – говорит жена начальника и тоже заключает Мадзю в объятия. – Что ж, до свидания, панна Магдалена, до новой встречи, самое позднее в конце июня будущего года. Я говорю: до свидания не только от своего имени, но и от имени всего города и моего супруга, которому вы тоже вскружили голову. О, мы будем ссориться в Иксинове!..
Носильщик занялся вещами Мадзи, и обе барышни вошли в пассажирский зал.
– Боже, Мадзя, ты прекрасно выглядишь, – заговорила Жаннета, – а тут кто-то распустил слух, будто ты в апреле умерла! Устроила себе каникулы с апреля до августа, поздравляю! То-то, верно, наслаждалась?
– Я даже сестренки не видела, – прервала ее Мадзя. – Ну, как у вас дела?
– Ничего. В пансион такой наплыв, что панна Малиновская не хочет принимать учениц. А какие перемены! В прежней квартире Ады Сольской и пани Ляттер сейчас дортуары; хозяйкой в пансионе мать панны Малиновской, а у нее самой, кроме приемной, всего лишь одна комната. Слыхала? Начальница в одной комнате!
– Доходы, у нее, наверно, меньше, чем у пани Ляттер?
– Сомневаюсь, – возразила панна Жаннета. – Хотя, представь себе, она берет с учениц на пятьдесят и даже на сто рублей меньше, нам повысила жалованье, ну… и стол стал лучше. Гораздо лучше!
– Вот и отлично!
Панна Жаннета вздохнула.
– Дисциплина, страшное дело! Пансионерок посещать не разрешается, мы можем принимать гостей только в общей гостиной. В девять часов вечера все должны быть дома. Иоасе у нас нечего было бы делать. Это монастырь!
Носильщик вынес вещи, барышни сели на извозчика.
– Как трясет на ваших извозчиках, ой, упаду! – воскликнула Мадзя. – Пыль, духота!
– А мне кажется, что сегодня чудный воздух, – улыбнулась панна Жаннета. – Я так давно не была в деревне, что, наверно, не смогла бы там дышать, – прибавила она со вздохом.
– Панна Говард у нас? – спросила Мадзя.
– Что ты! У панны Малиновской нет места прогрессисткам.
– Шум, гам! Несносная Варшава! Ты ничего не слыхала про Сольских, про… Элену Норскую? – краснея, допытывалась Мадзя.
– Все они за границей, но скоро должны вернуться, – отвечала панна Жаннета. – Ада хочет сдать экзамен на доктора естественных наук, Эленка и Сольский, кажется, помолвлены; но они все время то мирятся, то рвут отношения. Эля, видно, так же деспотична, как пани Ляттер, а Сольский ревнив. Не пойму я их. Сворачивай в ворота и заезжай во двор, – крикнула панна Жаннета извозчику.
Спустя несколько минут Мадзя с бьющимся сердцем поднималась по хорошо знакомой лестнице пансиона. Девушку поразила тишина, царившая в коридорах, и отсутствие пансионерок, которые прежде вечно носились из класса в класс.
– Пани начальница у себя? – спросила Жаннета у служителя в черном, наглухо застегнутом сюртуке, с проседью в волосах, который стоял около лестницы, вытянувшись в струнку, как солдат.
– Пани начальница… – начал он и – смолк.
Дверь отворилась, и какой-то господин стал с поклонами пятиться задом из комнаты, в глубине которой слышался мягкий голос панны Малиновской.
– …как только она попадет в пансион, ей нельзя будет выходить в город.
– Категорически? – продолжая отвешивать поклоны, спросил господин.
– Да.
Господин спустился с лестницы, и Мадзя увидела перед собой панну Малиновскую. На ней было такое же темное платье, и лицо ее было так же спокойно, как полгода назад. Только красивые глаза приобрели стальной блеск.
– А, панна Бжеская, вы уже здесь? – сказала начальница и поцеловала Мадзю в лоб. – Можете ли вы сегодня в пять часов поехать со мной к своим воспитанницам?
– Конечно, сударыня!
– Панна Жаннета, займитесь панной Бжеской.
– Можно мне поздороваться с моими бывшими ученицами? – робко спросила Мадзя.
– Конечно, Петр, завтрак для панны Бжеской! Потом можешь отослать письмо, которое я сегодня дала тебе…
– Для отправки пани Коркович, – подхватил служитель, стоявший навытяжку.
– Я сообщила пани Коркович о вашем приезде и предупредила, что мы будем у них в пять часов, – сказала пани Малиновская Мадзе и пошла наверх.
Мадзя в остолбенении смотрела на панну Жаннету, увидев, что начальница исчезла в коридоре третьего этажа, та покачала головой и прошептала:
– Ну-ну!
Тут приоткрылась другая дверь, и в щелке показалась девочка, которая делала знаки рукой и шептала: «Тсс! Тсс! панна Магдалена!»
Мадзя вошла с Жаннетой в класс, где собралась кучка младших и старших воспитанниц.
– Пани начальница разрешила вам поздороваться с панной Магдаленой, – сказала Жаннета.
Девочки окружили Мадзю и, целуя ее, заговорили наперебой:
– Мы видели в окно, что вы приехали! Вы к нам? Нет, к Корковичам. Ах, если бы вы только знали, какие у нас строгости! А знаете, в июле умерла Зося Пясецкая…
– У меня по всем предметам отлично, я получила первую награду, – громче других говорила красивая брюнетка с бархатными глазами.
– Милая Мальвинка, да не хвастайся ты так!
– А ты, Коця, не мешай. Я ведь была ученицей панны Магдалены, и ей будет приятно узнать, что во всем пансионе я самая способная.
– Знаете, панна Магдалена, бедная Маня Левинская так и не кончила шестой класс.
– А, это ты, Лабенцкая! Как поживаешь! – спросила Мадзя. – Почему же Маня не кончила?
– Она должна жить у своего дяди Мельницкого. Помните, такой толстяк. После смерти пани Ляттер его разбил паралич, и Маня за ним ухаживает.
– Вы совсем меня забыли. А я так по вас скучаю!
– Да что ты, Зося, вовсе не забыла!
– Мне столько надо сказать вам! Пойдемте к окну.
Зося увлекла Мадзю к окну и зашептала:
– Если вы его увидите… Ведь он скоро должен вернуться…
– Кто, Зося?
– Ну… пан Казимеж Норский…
– Ты все еще думаешь о нем? И это в шестом классе! – огорченно воскликнула Мадзя.
– Нет, я совсем о нем не думаю. Пан Романович в тысячу раз лучше! Ах, панна Магдалена, какую он за лето отпустил красивую бороду!
– Ты ребенок, Зося!
– Вовсе не ребенок, я умею уже презирать. Пусть женится на этой монголке.
– Кто, на ком? – бледнея, спросила Мадзя.
– Казимеж на Аде Сольской, – ответила Зося.
– Кто тебе наболтал таких глупостей?
– Никто не наболтал, никто ничего не знает, только… чует мое сердце. Ах, недаром сидят они в Цюрихе!
В дверь постучали. Девочки бросились врассыпную, как стайка воробьев при виде ястреба. Вошла горничная и позвала Мадзю завтракать.
В комнате начальницы Мадзя застала седенькую, худенькую, но очень подвижную старушку.
– Я здешняя хозяйка, – весело сказала старушка. – Дочки нет, так что позвольте предложить вам…
Старушка была похожа на докторшу Бжескую, и растроганная Мадзя поцеловала ей руки.
– Присаживайтесь, дитя мое, простите, не помню, как звать вас?
– Магдалена.
– Присаживайтесь, панна Магдалена! Я налью вам кофе, вы, наверно, устали. И булочку намажу маслом. Я это умею.
– Большое спасибо, я не ем масла, – прошептала Мадзя, не желая вводить в расходы свою покровительницу.
– Вы не хотите масла? – удивилась старушка. – Что, если об этом узнает Фелюня? Избави бог! Она считает, что без масла хлеб ничего не стоит. Мы все здесь должны есть масло.
Итак, Мадзя ела булочку с маслом, и в сердце ее это отозвалось тихой печалью. Когда у родителей на полдник подавали в беседке кофе, булочку тоже ели только с маслом… Что поделывают теперь майор, ксендз, папа с мамой? Ах, как тяжело покидать родной дом!
Старушка, угадав, быть может, ее печальные мысли, сказала:
– Вы теперь, наверно, надолго в Варшаву, как и мы? Фелюня уже очень давно не была в деревне.
– Ах нет, нет, сударыня! – запротестовала Мадзя. – Через год я, может, вернусь домой. Я хочу открыть небольшой пансион, – прибавила она, понизив голос.
– В Варшаве? – живо спросила старушка, глядя на Мадзю испуганными глазами.
– О нет, что вы! В Иксинове.
– Иксинов?.. Иксинов?.. У нас нет ни одной ученицы из Иксинова. Что ж, может, оно и хорошо. Вы бы присылали к нам учениц в старшие классы.
– Ну конечно, только к вам, – ответила Мадзя.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.







![Книга Убойная марка [Роковые марки] автора Иоанна Хмелевская](/books_files/covers/thumbs_100/uboynaya-marka-rokovye-marki-12531.jpg)
































