Текст книги "Эмансипированные женщины"
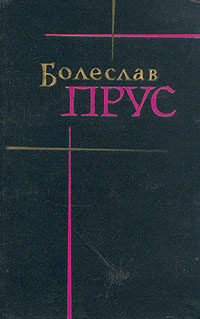
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 55 (всего у книги 63 страниц)
Когда же доктора усадили его и принялись расстегивать сюртук, снимать жилет и сорочку, пан Казимеж решил подшутить над ними, притвориться, будто с ним и впрямь что-то случилось. Он закрыл глаза и, еле удерживаясь от смеха, оперся на кого-то головой и, только ощутив боль под правой лопаткой и услышав слово «пуля», сказал про себя:
«С ума, что ли, посходили эти доктора?»
Ему уже не хотелось открывать глаза. Кто-то ощупывал его правый бок и спину под правой лопаткой, и в этих местах он чувствовал жгучую боль. Состояние было странное – мешала не боль, а какая-то тяжесть внутри, собственное тело казалось ему чужим. Пану Казимежу захотелось кашлять, его затошнило, кинуло в жар, потом в холодный пот, и тут он почувствовал себя очень несчастным. Сознания он не терял, а просто не хотел подавать вида, что все понимает, так ему это было безразлично.
Друзья пана Казимежа побежали по направлению к монастырю, и доктора чуть не целый час поддерживали раненого. Найдя дом, где можно было снять комнату для раненого, друзья возвратились в лес с козлами, которые несли двое крестьян.
– Зачем это? – спросил пан Казимеж, только теперь открыв глаза.
Он хотел прибавить: «Я сам пойду», – но острая боль в правом легком не дала ему договорить. Он испугался и тут же впал в полузабытье, смутно ощущая, что покачивается и что его тошнит. Это было очень неприятно, и пан Казимеж почувствовал, что по его лицу текут двумя ручейками слезы, затем ему опять все стало безразлично.
Придя в себя, он увидел побеленную комнату, где за простым столом сидели оба доктора. Окно напротив было завешено плахтой. Потом, когда пан Казимеж утратил ощущение времени, незнакомый человек, которому помогала какая-то старуха, стал класть ему пузыри со льдом: один под лопатку, другой на грудь.
Пан Казимеж хотел что-то спросить, но закашлялся и при этом почувствовал такую острую боль в груди, что решил больше никогда не кашлять. Он заметил также, что невыносимая боль пронизывает его грудь при каждом глубоком вдохе, а потому решил совсем не дышать или дышать как можно осторожней.
С этой минуты главной заботой пана Казимежа стало дыхание, оно причиняло ему ужасные муки и пугало его, но иногда дышать было даже приятно. Пану Казимежу мерещилось, будто боль, свернувшись змеей, лежит у него на груди. Холодное чудовище спало, но стоило вдохнуть воздух поглубже, как змея вонзала в тело раненого зубы, которые жгли его, как раскаленные гвозди. При одной мысли об этой нестерпимой боли пану Казимежу становилось страшно, и он всеми силами старался не дышать глубоко. Когда ему удавалось перехитрить спавшую змею, он даже губы закусывал от радости, а когда приловчился дышать нижней частью легких, то чуть не подпрыгнул на постели. Разумеется, это было неполное дыхание, но зато и боли не было.
Между тем незнакомый человек и старуха меняли пузыри со льдом: один клали под лопатку, другой – на грудь. Иногда пан Казимеж видел склоненное над ним лицо доктора, который сопровождал его на дуэль.
Потом больной забылся в полусне. Ему грезилось, будто он – ученица в пансионе матери, и учитель – не Дембицкий ли? – велит ему отвечать урок о Котовском. «Котовский? Котовский?» – напряженно повторяет пан Казимеж; это слово ему как будто знакомо, только он никак не вспомнит, человек ли это, или машина, или, может быть, часть света?
– Котовский? Котовский? – повторяет пан Казимеж, чувствуя, что его кидает в жар от страха получить плохую отметку.
Однажды он услышал разговор:
– Кровью харкает? – спросил низкий голос.
– Раза два, не больше.
– Жар есть?
– Совсем небольшой, уже спадает.
Пан Казимеж открыл глаза и увидел толстого бородатого человека. Это был Коркович. Больной узнал его, но имени вспомнить не мог. А ведь было совершенно ясно, что если бы он вспомнил имя этого господина, то сразу без запинки ответил бы урок о Котовском и, может быть, даже получил бы пятерку.
Пан Казимеж был сильно раздосадован своей забывчивостью, а тут еще всю комнату заполнила вдруг какая-то странная паутина, которая садилась на окна, на стулья, на печь и даже забиралась к нему под одеяло.
Потом пана Казимежа перестал беспокоить урок о Котовском, перестало мерещиться, что он – ученица, он вообще ни о чем не грезил, а только спал.
Когда его поили молоком или вином, он чувствовал во рту неприятный вкус; когда оправляли постель, ему казалось, что руки и ноги у него налиты свинцом и пришиты к туловищу нитками. Он ощущал сильную усталость и раздражение – ему хотелось только спать. Он даже собирался сказать, чтобы ему не мешали, но потом раздумал, убедившись, что открывать рот и ворочать языком слишком трудно.
Только на восьмой день к вечеру пан Казимеж пришел в себя. Он почувствовал, что ему лучше, и, заметив в комнате незнакомого человека, вдруг спросил:
– Что это, черт возьми, так тихо?
– Ого, вы уже заговорили? – удивился незнакомец.
– Кто вы такой? – снова спросил пан Казимеж, поудобней устраиваясь на подушке. – Нет ли здесь кого-нибудь из моих знакомых? Что здесь происходит?
– Я фельдшер, – ответил таинственный незнакомец. – А во дворе ждет дама, она уже третий раз приезжает узнать о вашем здоровье.
– Наверно, сестра. Впустите ее.
Фельдшер вышел, и пану Казимежу показалось, что он слишком долго не возвращается. Потом отворилась дверь, и в комнату вбежала женщина в черном, с густой вуалью на лице. Она подбежала к постели, упала на колени и, откинув вуаль, начала целовать свесившуюся руку пана Казимежа.
– А я уже думала, – прошептала она, – что нас похоронят в одной могиле!
Это была Ада Сольская.
Глава шестнадцатая
Открываются новые горизонты
После прогулки в Ботанический сад Мадзя убедилась в том, что пан Казимеж способен совершить гадкий поступок и что она никогда по-настоящему не любила сына своей начальницы.
Но когда пан Казимеж побывал у нее последний раз, характер поклонника представился Мадзе в новом свете. Пан Казимеж оказался эгоистом, таким законченным и наивным эгоистом, что он даже не пытался скрыть своей радости, узнав из анонимного письма, что в него влюблена богатая невеста панна Сольская.
Мадзе однажды уже случилось видеть его таким откровенно довольным; это было в доме Арнольдов, когда она заверила Элену, что не выйдет замуж за Сольского. Как ликовал он тогда, как прыгал от радости и как изменил свое отношение к Мадзе!
Эгоист! Сотни раз слышала Мадзя это слово, но только теперь поняла его значение. Эгоист – это не человек, а камень, он только тогда оживает и становится прекрасен, когда сам страдает или может поживиться на счет другого. Но к чужому горю он глух, чужого горя он не видит, чувство жалости ему незнакомо.
«Как он сердился на меня за то, что я навестила Стеллу и ее ребенка, – подумала Мадзя. – Нехороший он человек!»
В эту минуту Мадзя ощутила горечь и холод. Ей начало казаться, что все люди – себялюбцы и что в этой пустыне каменных сердец лишь два-три человека из Иксинова, брат и сестра Сольские да горсточка монахинь представляют собой оазисы.
Разве не эгоисты такие люди, как панна Евфемия и ее мать, пани Коркович, Жаннета, Элена, Згерский и многие, многие другие?
«Ах, скорей бы уж ответил Здислав!» – подумала Мадзя.
Вскоре некоторые малозначащие обстоятельства утвердили ее в убеждении, что миром управляет эгоизм.
На другой день после прихода пана Казимежа Мадзя уже кончала занятия в доме, где у нее был урок с двенадцати до двух, когда в комнату к девочкам вошла их мать, слывшая в кругу знакомых остроумной и приятной дамой, но грубая и бессердечная с прислугой и учительницами. Разодетая барыня велела девочкам выйти и, нагло глядя на Мадзю, заявила:
– Вот что я решила. Девочки в этом году, может, не будут сдавать экзамены. Так что прошу прощенья, вот деньги…
Она протянула Мадзе несколько свернутых бумажек и, кивнув головой, удалилась.
Мадзя чуть не разрыдалась. К счастью, новый взгляд на мир помог ей овладеть собой. Мадзя вышла в прихожую, никто не подал ей пальто; на лестнице она пересчитала деньги.
Не хватало двух рублей; но Мадзю это не огорчило, напротив, она рассмеялась. Странный поступок светской дамы был ей понятен.
До экзаменов оставалась одна неделя; курс уже был пройден, и Мадзя занималась с девочками повторением. Бесцеремонно увольняя учительницу, дама хотела сэкономить деньги и выгадала вдвойне. И за последнюю неделю не надо было платить, и обсчитать удалось на два рубля!
Мадзя много слыхала об этой барыне; на приемах у нее бывали десятки гостей, а швеи, прислуга, учительницы поминали ее недобрым словом: у каждой она норовила урвать хоть несколько злотых.
Все это была правда. Но еще неделю назад подобные мысли не пришли бы в голову Мадзе. Если бы ее вышвырнули тогда так, как сегодня, она бы решила, что сама во всем виновата, залилась бы слезами, предалась отчаянию.
А сейчас она смеется над эгоистами, которые если не ищут богатой невесты, то хотя бы вовремя избавляются от учительниц и экономят на них два рубля.
«Ах, если бы Здислав ответил! – подумала она. – Может быть, там, где он живет, люди другие. Народ там бедный, а бедняки умеют быть благодарными».
Она вспомнила семью иксиновского учителя, Цецилию, Стеллу, прачку, стиравшую белье у Корковичей. Все они любили Мадзю, потому что только она желала им добра, им, униженным и страждущим.
Так в ней произошла большая перемена, и случилось это неожиданно, среди бела дня, на шумной улице. Сердце ее ожесточилось против богатых и сытых и открылось для униженных и страждущих. В это мгновение она разумом постигла то, что с детства чувствовала сердцем: только тогда она будет по-настоящему счастлива, когда сможет посвятить свою жизнь униженным и страждущим. Она уже знала, что, если кому-нибудь из них улыбнется счастье, он оставит ее, не поблагодарив, и забудет без сожаленья. Ну что ж? Ведь одинокие и исстрадавшиеся люди никогда не переведутся на свете, а она хочет служить им одним.
«Ах, если бы Здислав поскорее ответил! – думала она. – Мы вернулись бы сюда через несколько лет. Я стала бы заботиться о здоровье его рабочих, обучала бы их грамоте; а если бы оказалось, что я не нужна им, то разве мало несчастных в любом краю? Один голодает, а другой оборван, тот болен, а тому недосуг заняться собственными детьми. Здесь мое царство, а не в салонах, где расцветает эгоизм!»
День прошел спокойно: только час от часу становилось сильней горькое чувство. Временами Мадзе казалось, что ей откажут и в другом доме. Однако страхи были напрасны; ее приветливо встретили и мило с нею простились. Это был небогатый дом, здесь не бывали на приемах десятки гостей и хозяева не могли швыряться учительницами.
Но на следующий день утром в девять часов в комнату к Мадзе вбежала Маня Левинская, запыхавшаяся и возбужденная.
– Ах, моя дорогая, моя единственная, – воскликнула она, бросаясь Мадзе на шею, – только ты можешь спасти нас!
– Что случилось? – спокойно спросила Мадзя, а сама подумала:
«Может, Котовского уволили, и она, бедняжка, велит мне ради его спасения выйти замуж за Сольского!»
– Представь себе, дорогая, – продолжала Маня Левинская, – у Владека Котовского какое-то недоразумение с этим несносным паном Норским…
Быстро, однако, миновали те времена, когда Маня Левинская, стоя на коленях перед Мадзей, не смела называть ее иначе, как панной Магдаленой!
– Какое-то крупное недоразумение, – повторила Маня.
Мадзя с удивлением посмотрела на нее.
– Владек ничего не хочет рассказывать, – продолжала панна Левинская, – но я очень, очень беспокоюсь. Пан Норский твой близкий друг, разузнай у него, в чем дело, и постарайся все уладить!.. Ведь мы с Владеком должны скоро пожениться, а если, не дай бог, они вздумают драться…
Тут панна Левинская разрыдалась. Но ее отчаяние не тронуло Мадзю, а назойливая просьба просто рассердила.
– Помилуй, Маня, – ответила она, – совсем недавно ты просила, чтобы я оказала твоему Владеку протекцию у Сольского, который хотел жениться на мне. Теперь ты посылаешь меня к пану Норскому. С какой стати?
– У вас такие хорошие отношения, – всхлипывала Маня. – Он твой друг, бывает у тебя, ты ходишь с ним на прогулки…
Она так плакала, что Мадзе стало жаль ее.
– Послушай, Маня, – сказала она, прижимая к себе совершенно отчаявшуюся девушку. – Пан Норский больше у меня не бывает, он обиделся. Но ты не плачь. Он сейчас больше думает о женитьбе, чем о поединках. Так что можешь не волноваться.
Красивые глаза Мани Левинской сразу стали сухими.
– Правда? – воскликнула она. – Значит, он тоже женится? Слава богу! Слава богу! Кто хочет жениться, тому не придет на ум такая страшная вещь, как дуэль.
– И зачем же, милочка, драться этим господам на дуэли, ведь они почти не знакомы друг с другом? – сказала Мадзя.
Тут Маня Левинская стала рассказывать о том, что ее дядя, Мельницкий, объявил себя должником покойной пани Ляттер, чему трудно было поверить; что детям покойницы он назначил четыре тысячи рублей и что в самую критическую минуту пан Казимеж потребовал у старика эти деньги. Маня прибавила, что пан Коркович от имени пана Казимежа вернул все четыре тысячи с процентами и что Элена Норская вышла замуж за молодого Корковича.
Жалким и презренным показался Мадзе пан Казимеж, когда она слушала Маню Левинскую. Мадзя знала, что Мельницкий не был должен пани Ляттер.
После этого разговора девушки сердечно попрощались. Мадзя вычеркнула из памяти пана Казимежа. Маня Левинская вернулась домой успокоенная, здраво рассудив, что коль скоро пан Казимеж собирается жениться, то не станет подвергать себя опасности и драться с Котовским, который, кстати, как врач, человек прогрессивный и энергичный, может наделать больших бед своему противнику.
«Стоило так расстраиваться! – думала Маня Левинская, идя по улице, где все мужчины оборачивались ей вслед. – Надо с ума сойти, чтобы вызвать Владека на поединок, Владека, которого даже я иногда побаиваюсь!»
Еще два дня прошли спокойно.
В субботу на углу Маршалковской и Крулевской Мадзе попался навстречу легкий экипаж. Из экипажа выскочил пан Коркович-старший.
– Как поживаете, панна Магдалена? – воскликнул он, схватив Мадзю за руку. – Как хорошо, что я встретил вас. Тут у меня такое деликатное дело…
«Уж не хочет ли он, чтобы я снова занималась с его девочками?» – с удивлением подумала Мадзя.
– Представьте себе, сударыня, – продолжал, отдуваясь, Коркович, – этот осел Норский дрался вчера с доктором Котовским, ну и тот прострелил ему пулей грудь!
– Кому? – воскликнула Мадзя.
– Да Норскому. Ведь этот Котовский – лютый зверь! Первый раз не ответил, а уж второй раз так ахнул, что бестия Казик лежит без памяти в хате в Белянах. Ну, а мой Бронек женился уже на панне Элене Норской. Она ему теперь задаст! Она ему покажет! – орал Коркович так, что прохожие оглядывались. – Роскошная женщина! Клянусь богом, я бы сам на ней женился… Через год отправился бы на тот свет, зато уж потешился бы…
– Позвольте… – пыталась перебить его Мадзя.
– Вы уж простите. Так вот, хоть раненый и прохвост почище моего Бронека, а все-таки человек светский, да и родня нам, и коли не судьба ему отправиться на тот свет, то нужен за ним присмотр, материнский присмотр. Там при нем фельдшер и старуха, но этого мало. А вы знакомы с сестрами из монастыря Святого Казимира – так по крайней мере говорит моя жена, – вот я и подумал, дорогая панна Магдалена…
– Что же я могу сделать?
– Сходите в монастырь и попросите прислать сестру, да нет, двух сестер, чтобы присмотреть за этим ослом! Я заплачу, сколько захотят: триста, пятьсот рублей! Нельзя же бросать парня; все-таки из благородных, большой барин. А с такими все равно что с йоркширским поросенком: не позвал сразу ветеринара, лучше дорезать. Ну, так как же?
– Хорошо, я схожу в монастырь, – ответила Мадзя.
– Благослови вас бог, панна Магдалена! – воскликнул старый пивовар. – Я бы сам отвез вас туда, да нужно мчаться к хирургу и с ним скакать в Беляны. Невестке я ничего не скажу, не стану портить Бронеку медовый месяц, он ведь такая бестия, что от огорчения может наделать новых долгов. Ну, будьте здоровы! Целую ручки!
Пан Коркович пожал Мадзе руку и вскочил в экипаж, который наклонился под его тяжестью. Горячие кони присели и рванули с места.
Мадзя была так ошеломлена, что, вместо Краковского Предместья, направилась в сторону Граничной. Она прошла несколько сот шагов и только тогда спохватилась и повернула назад.
«Дрался на поединке! Стало быть, я была не права, когда подозревала его в том, что он охотится за богатой невестой. Грудь ему прострелили, как Цинадровскому. Может, он тоже умрет? Смерть, всюду смерть!.. Дурное предзнаменование, тем более, что неизвестно, откуда оно!»
У Мадзи тревожно билось сердце и кружилась голова. На углу Евангелической площади она выпила содовой воды у торговки, стоявшей со своим сифоном под открытым небом. Вода успокоила ее.
«Тяжело ранен, – думала Мадзя, – лежит в Белянах под присмотром фельдшера и старухи. Покинутый всеми, страдает, как Стелла! Если бы Эленка была здесь, мы бы вместе ухаживали за ним. А впрочем… Он бы, чего доброго, подумал, что я влюблена и хочу выйти за него замуж.»
Она почувствовала такую слабость, что взяла извозчика и велела ехать в монастырь. Через несколько минут Мадзя сидела уже в приемной и ждала мать Аполлонию. На этот раз приемная не произвела на нее такого тяжелого впечатления. А может, сейчас она меньше присматривалась.
В коридоре кто-то зашаркал ногами, и в приемную вошла старушка.
– Слава Иисусу Христу! Как поживаешь, дитя мое? Вижу, ты не забыла меня. Или опять появилась какая-нибудь певичка? Что это ты так похудела? – говорила монахиня, обнимая Мадзю.
– Я очень расстроена, – ответила Мадзя и рассказала старушке, зачем пришла.
Мать Аполлония слушала внимательно; но лицо ее помрачнело, и большая шляпа стала быстро покачиваться.
– Дитя мое, – помолчав, заговорила монахиня, – по правде сказать, человек, раненный на дуэли, это все равно что самоубийца. Но за этот грех его будет судить господь бог. И мы не решились бы отказать Корковичам, будь у нас свободные сестры. Но сестер так мало, что без ущерба для наших больных мы не можем посылать их к частным лицам. Пусть привезут раненого в больницу. Что же это ты так плохо выглядишь?
– Меня очень взволновало это происшествие. Вам, наверно, случалось видеть раненых; может ли выжить человек, которому прострелили грудь?
– Все в божьей власти. Захочет бог спасти, так спасет, несмотря на самые тяжелые увечья. Впрочем, мужчины живучи, как кошки: голову ему прострелят, шею, грудь, а он все равно встанет на ноги, если на то воля божья. Так что не стоит расстраиваться.
Старушка пристально посмотрела на Мадзю и, взяв ее за руку, неожиданно сказала:
– Ну, дитя мое! Будет тебе сокрушаться! Пойдем со мной, я покажу тебе наш дом. Нельзя же так близко принимать к сердцу беду, которую легкомысленный человек сам на себя навлек. Что говорить, вы, светские дамы, смелы только в салонных разговорах, а как увидите больного, сразу теряете голову.
С этими словами мать Аполлония повела Мадзю по зданию. Она показала девушке скромную часовенку, у врат которой монахини опускались на колени, склоняя свои белые шляпы. Затем они обошли вдвоем просторные спальни сирот и маленькие комнатки сестер, где за пологами стояли койки. Затем прошли по залам, где сироты, с виду здоровые дети, учились шить и чинить белье.
Всюду Мадзю поражали ослепительная чистота и покой, удивительный покой, умиротворявший ее смятенную душу. Ей казалось, что все ее горести и страдания остались там, за порогом этого необыкновенного дома, обитательницы которого напоминали хлопотливых муравьев.
– Вот наша трапезная, – объясняла мать Аполлония, открывая комнату с двумя окнами. – За этим столом сидят мать-настоятельница и сестра-казначея со своими помощницами. За теми двумя столами – места старых сестер, а за этим аналоем одна из них во время обеда читает вслух поучения на день текущий.
– Вы за обедом не разговариваете?
– Как можно! – возмутилась мать Аполлония. – Мы вообще мало разговариваем, потому что нет времени. А вот это часовня для вечерних молитв.
– Простите, но что же вы делаете?
– Все. Присматриваем за кухней, стираем, моем полы, шьем постельное и носильное белье, платье. Все, что нужно, делаем сами.
– А когда же вы встаете?
– Ложимся спать в девять часов вечера, а встаем в четыре часа утра. Помолимся – и за работу.
– Молодые сестры и послушницы тоже так работают?
– Если не больше, – ответила мать Аполлония. – Мы хотим, чтобы они убедились в том, что жизнь наша нелегка. Вот почему у нас остаются только те, кто следует своему призванию.
– Прекрасное, но трудное призвание! И ни одна из них не жалеет, что пришла сюда? Некоторые из них так красивы. Может быть, многие предпочли бы стать женами и матерями, чем опекать чужих детей?
– А разве мы удерживаем тех, кому случается выйти замуж? – удивилась мать Аполлония. – Напротив, наши послушницы и даже сестры становятся иногда прекрасными женами. Но не всех манит мирская жизнь. Многие предпочитают стать сестрами страждущих, матерями сирот, Христовыми невестами…
Мадзя отпрянула.
– Христовыми невестами! – повторила она сдавленным голосом.
– Что с тобой, дитя мое? – воскликнула мать Аполлония, схватив девушку за руку.
Мадзя прислонилась к стене и провела рукой по глазам. Через минуту она с улыбкой ответила:
– Я смеялась над нервными людьми. А сейчас вижу, что и у меня есть нервы.
Обеспокоенная монахиня ввела Мадзю в какую-то комнатку, усадила на диван, а сама выбежала в коридор. Вскоре она вернулась со стаканчиком слабого вина и сухариками.
– Выпей, дитя мое, – сказала она, – и поешь. Не голодна ли ты? С тобой что-то неладно. Ради бога, расскажи мне все, как матери.
Вино и сухарик вернули Мадзе силы. Она овладела собой, и голос ее зазвучал естественно:
– Не беспокойтесь, ничего страшного. Только вот что со мной случилось. Однажды я попала на спиритический сеанс. Ясновидящая спала; но не успела я войти, как она повернулась ко мне и говорит: «Вот избранница. Но я не вижу избранника, хотя он велик и могуч». А сейчас вы сказали о Христовых невестах, и со мной произошло что-то странное.
– Ты испугалась, что мы тебя задержим здесь, чего доброго, замуруем в какой-нибудь келье! – засмеялась старушка. – Будь покойна! К нам обращается столько охотниц, что мы и четвертую часть их вряд ли могли бы принять, если бы были места. Мы никого не завлекаем, к нам просятся сами.
– Значит, вы бы и меня не приняли, если бы я когда-нибудь надумала вступить в ваш орден? – весело спросила Мадзя.
– Таких, которым надо еще думать, мы вовсе не принимаем.
– А каких же вы принимаете?
Старушка задумалась.
– Видишь ли, – начала она после краткого молчания, – мы, монахини, как и все люди, небезгрешны. Может, мы и хуже, даже наверное хуже других людей. Но у всех, кто принадлежит к нашему ордену, есть одна общая черта: не знаю, врожденное ли это чувство или незаслуженный дар божий, – только у каждой из наших сестер над всеми ее личными склонностями господствует жажда служения ближним, униженным и страждущим. Я знаю, светские дамы добрее и лучше нас, они более образованны, деликатны и отзывчивы. Мы – простые женщины, свыклись с бедой, порой истомлены горем, и то, что для мирян – истинное самопожертвование, для нас – насущная потребность, чуть ли не эгоизм. Вот почему наши кажущиеся заслуги перед ближними, это вовсе не заслуги, как вечная зелень сосны вовсе не добродетель, отличающая ее от тех деревьев, которые теряют на зиму листву. Вот почему мирянин одним добрым поступком может заслужить царство небесное, которого мы не заслужим всю жизнь, нося монашескую одежду и ухаживая за больными. Как птица рождается для полета, так и женщина, которой по милости божьей суждено стать монахиней, рождается для служения страждущим. У кого нет в душе этого призвания, тот никогда не станет монахом, хоть замуруй его в монастыре. И ты, моя дорогая, хоть и добра и милосердна к бедным, не станешь монахиней.
Мадзя покраснела и потупилась. У нее нет призвания! Но ведь всю свою жизнь она стремилась служить обездоленным!
– Ты, милая, останешься в миру, – продолжала старушка, – там ты принесешь больше добра людям и скорее заслужишь царство небесное, чем мы здесь.
– Стало быть, чтобы поступить в монастырь, нужно только призвание? – прошептала Мадзя.
– Прежде всего у нас не монастырь, а скорее община, из которой сестры даже уходят, – пояснила мать Аполлония. – А теперь я отвечу тебе на вопрос. Одной только потребности служить ближним недостаточно для того, чтобы вступить в наш орден. Жертвовать собой можно и в миру, не отказываясь от свободы и дозволенных развлечений. Мы же ведем жизнь замкнутую и суровую, много работаем и не пользуемся свободой, которой вы так жаждете. Поэтому только две категории женщин обращаются к нам и находят у нас счастье: либо те, которые хлебнули горя и разочаровались в жизни, либо те, которые ежечасно помышляют о боге и вечной жизни, которых ничто не влечет в здешнем мире.
– О, если бы существовал нездешний мир! – невольно прошептала Мадзя.
Старушка отшатнулась от Мадзи и перекрестила ее, но через минуту кротко сказала:
– Бедное дитя! Но ты, мне кажется, так добра и невинна, что бог не оставит тебя своей милостью.
На какое-то мгновение страх снова охватил Мадзю. Ей вспомнились грозные слова матери Аполлонии о том, что сам бог иногда встает людям на пути, чтобы обратить их.
Отдохнув и успокоившись, Мадзя попрощалась со старушкой. Монахиня сердечно поцеловала девушку, но по всему было видно, что она огорчена.
– Заходи, не забывай нас! – сказала она девушке.
Когда Мадзя вышла на улицу, она почувствовала, что ей как будто жаль расставаться с почтенной старушкой, с тихим зданием, с чистотой его коридоров, сиротами, зеленью сада и покоем. Особенно с покоем, который царил здесь над всем и осенил душу Мадзи.
Если бы монахини сдавали внаем комнаты, она бы немедленно переехала к ним.
«Будь я монахиней, – думала Мадзя, – я могла бы ухаживать за паном Казимежем, не боясь никаких подозрений и сплетен».
И быть может, не думала бы о Сольском, с воспоминаниями о котором, мимолетными, но докучными, ей все чаще приходилось бороться.
«Ах, хоть бы скорее ответил Здислав! – думала Мадзя. – Ведь мог же он за это время ответить».
Остаток дня прошел в мучительном ожидании неприятных вестей; Мадзе казалось, что ей вот-вот сообщат о смерти пана Казимежа, о новом поединке, быть может, о болезни отца…
Она ждала, ждала, как в лихорадке; всякий раз, когда кто-нибудь быстрым шагом поднимался по лестнице, сердце ее начинало биться. Но плохих вестей не было.
«У меня расстроены нервы, – успокаивала она себя. – Ах, если бы можно было уехать в деревню! Если бы благочестивые монахини позволили мне каждый день несколько часов посидеть у них в саду, я бы почувствовала себя лучше».
Ночью Мадзя не спала, лишь забывалась коротким сном, полным сновидений. Ей чудилось, будто она смотрит панораму, за стеклами которой скользят неестественной величины тени пана Казимежа, Цинадровского, Стеллы и пани Ляттер. А чей-то однообразный и скучный голос дает пояснения:
«Вот чего стоит жизнь человеческая! Пани Ляттер, перед которой все преклонялись, обратилась в горсть праха. На могиле Цинадровского уже завяли цветы, посаженные рукой Цецилии. В безвестной могиле лежит Стелла, которая была кумиром иксиновской молодежи и, возбуждая зависть у барышень, срывала аплодисменты и получала букеты цветов. Казимеж Норский, такой красавец, талант и счастливчик, скоро обратится в кислород, водород, жиры и железо! Вот она, жизнь человеческая!»
Мадзя пробуждалась, смотрела на стену, на которую из окна падало сиянье звездной ночи, и думала:
«Найдется ли в мире девушка, моя ровесница, чей сон нарушали бы такие странные виденья?»
Но она уже притерпелась к страданиям и снова смыкала веки, чтобы увидеть новые гробовые тени и услышать унылый докучный голос, вещающий о бренности жизни, а потом и вовсе бог весть о чем.
«Если Здислав не ответит, я сойду с ума!» – подумала Мадзя.
На следующий день в двенадцать часов она отправилась к панне Малиновской, которая уже вернулась из деревни. День был воскресный, но в пансионе стоял шум: по коридорам сновали пансионерки со своими матерями, торопливо пробегали учительницы и классные дамы.
Чтобы не отнимать у начальницы времени, Мадзя решила уйти и вернуться попозже; но в эту минуту показалась панна Малиновская и проводила ее к себе в комнату.
– Голова у меня идет кругом! – воскликнула озабоченная начальница. – Третьего дня вернулась из деревни и сразу закружилась как белка в колесе. Как поживаете, панна Магдалена?
Панна Малиновская была смущена и держалась принужденно; но Мадзя приписала это множеству дел, которые обрушились на начальницу после каникул. Чтобы не отнимать у нее времени Мадзя сказала:
– Я пришла извиниться перед вами, я не смогу быть у вас классной дамой…
– В самом деле? – перебила ее панна Малиновская, и лицо ее прояснилось. – Чем же вы намерены заняться?
– Хочу поехать к брату, он управляет фабриками под Москвой. А годика через два мы вернемся сюда. Брат построит фабрику, я буду вести хозяйство и открою небольшую школу для детей наших рабочих.
– Это хорошо, что вы едете к брату! – воскликнула, оживившись, панна Малиновская. – Вместо горького учительского хлеба у вас будет свой дом, вы сможете выйти замуж, а самое главное – уедете из Варшавы… Невыносимый город!.. Когда вы хотите ехать?
– Я со дня на день ожидаю письма от брата. Может быть, через неделю и уеду…
– Желаю вам успеха, – сказала начальница, целуя Мадзю. – Счастливая идея. Загляните ко мне перед отъездом и… бегите, подальше бегите отсюда!
Панна Малиновская поспешила в канцелярию.
«Что это значит? – размышляла Мадзя по дороге домой. – Почему она советует мне бежать из Варшавы? Впрочем, понятно! И ей учительство не приносит радости, особенно сейчас, когда после деревни она попала в этот хаос. А ведь она права, Варшава – невыносимый город!»
Для Мадзи наступили тяжелые дни. Кончились уроки и в другом доме, так как девочки поступили в пансион; у Мадзи не было теперь работы, она занималась только каких-нибудь два часа с племянницей Дембицкого.
По утрам ей хотелось выйти из дому; но куда и зачем? Так и просиживала она целые дни в одиночестве, терзаясь тем, что ничего не делает, и ожидая письма от Здислава.
«Сегодня непременно получу, – думала она. – Не было с утра, значит, будет днем. Не сегодня – завтра…»
Когда бы ни появлялся на четвертом этаже почтальон, шаги которого она уже узнавала, Мадзя стремглав выбегала за дверь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.







![Книга Убойная марка [Роковые марки] автора Иоанна Хмелевская](/books_files/covers/thumbs_100/uboynaya-marka-rokovye-marki-12531.jpg)
































