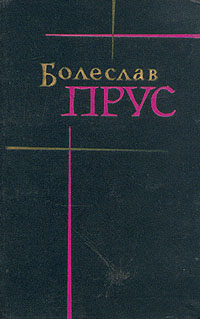Читать книгу "Кукла"
Вокульский сидел, опустив глаза. Что-то душило его, грудь разрывалась от боли. Он впился ногтями в ладони и думал: «Только бы поскорее уйти отсюда, чтобы не слышать сетований, которые бередят наболевшие раны».
– А есть ли у бедняги какой-нибудь памятник на могиле? – спросила председательша, помолчав.
Вокульский покраснел. Ему никогда не приходило в голову, что мертвым, кроме могильного холмика, нужно еще что-нибудь.
– Нет, – сказала председательша, заметив его смущение. – Не тому я удивляюсь, дитя мое, что ты не подумал о надгробной плите, а себе простить не могу, что забыла про человека.
Она задумалась и вдруг, положив ему на плечо свою исхудалую и дрожащую руку, сказала понизив голос:
– У меня к тебе просьба… Обещай, что исполнишь.
– Непременно, – ответил Вокульский.
– Позволь мне поставить ему памятник. Только сама я поехать туда не могу, так уж ты меня выручи. Возьми с собой каменщика, пусть расколет камень – знаешь, тот, на котором мы сиживали на горе у замка, и пусть одну половину поставит на его могилу. Заплати сколько следует, а я тебе возвращу деньги вместе с вечной моей благодарностью. Сделаешь?
– Сделаю.
– Хорошо, спасибо тебе… Я думаю, ему приятнее будет покоиться под камнем, который был свидетелем наших речей и наших слез. Ох, тяжко вспомнить… А надпись, знаешь, какую сделай? Когда мы расставались, он оставил мне несколько строк из Мицкевича. Ты их читал, должно быть:
Ох, как верно это! И тот колодец, что мог бы нас соединить, хотела бы я как-нибудь увековечить…
Вокульский вздрогнул, глядя куда-то вдаль широко раскрытыми глазами.
– Что с тобой? – спросила председательша.
– Ничего, – отвечал он, усмехнувшись. – Смерть заглянула мне в глаза.
– Не диво: она бродит вокруг меня, старухи, и тот, кто рядом, может ее увидеть. Так сделаешь, как я прошу?
– Сделаю.
– Приходи же ко мне после праздника и… навещай почаще. Может, и поскучаешь немножко, да авось и я, старуха, еще пригожусь тебе. А теперь ступай себе вниз, ступай…
Вокульский поцеловал у нее руку, а она несколько раз поцеловала его в голову. Потом нажала кнопку звонка. Явился слуга.
– Проводи господина в гостиную, – сказала она.
Вокульский был как в чаду. Не знал, куда его ведут, не сознавал, о чем они говорили с председательшей. Он только смутно ощущал, что попал в какой-то круговорот, его окружали громадные покои, старинные портреты, звуки тихих шагов и неуловимый аромат. Вокруг была драгоценная мебель, люди, исполненные необычайной, от роду ему не снившейся утонченности, и, заслоняя все это, всплывали перед ним воспоминания старой аристократки, овеянные вздохами и омытые слезами воспоминания, подобные поэме.
«О, что это за мир? Что за мир!..»
Однако чего-то ему недоставало. Он хотел еще раз взглянуть на панну Изабеллу.
«Наверное, в гостиной ее увижу…»
Лакей отворил двери. Опять все головы повернулись в его сторону, и разговоры затихли так внезапно, будто вспорхнула шумливая птичья стая. С минуту все молчали и смотрели на Вокульского, а он никого не видел и только лихорадочно искал глазами бледно-голубое платье.
«Здесь ее нет», – подумал он.
– Вы только поглядите, он нас не соизволит даже замечать, – посмеивался старичок с седыми бакенбардами.
«Должно быть, она в другой гостиной», – говорил себе Вокульский.
Он увидел графиню и подошел к ней.
– Что же, вы кончили совещаться? – спросила графиня. – Не правда ли, как мила наша председательша? В ее лице вы имеете большого друга, однако не большего, чем я. Сейчас я вас представлю… Пан Вокульский, – сказала она, обращаясь к даме в бриллиантах.
– А я прямо приступлю к делу, – промолвила дама, свысока поглядев на него. – Нашим сироткам нужно несколько кусков полотна…
Графиня слегка покраснела.
– Всего несколько? – переспросил Вокульский и посмотрел на ее бриллианты, за которые можно было купить более сотни кусков тончайшего полотна. – После праздников, – прибавил он, – я буду иметь честь прислать вам полотно, графиня…
Он поклонился, словно собираясь уходить.
– Как, вы уже покидаете нас? – спросила, немного растерявшись, графиня.
– Да он нахал! – заметила дама в бриллиантах своей приятельнице со страусовым пером.
– Разрешите попрощаться с вами, графиня, и поблагодарить за честь, которую вы изволили мне оказать… – говорил Вокульский, целуя руку хозяйке.
– Нет, только до свиданья, пан Вокульский, не правда ли?.. У нас будет много общих дел.
Во второй гостиной панны Изабеллы тоже не оказалось. Вокульский забеспокоился: «Но я непременно должен взглянуть на нее… Кто знает, когда еще нам удастся встретиться в таких условиях…»
– А, вот вы где! – окликнул его князь. – Я уже знаю, какой заговор вы составили с Ленцким. Общество торговли с Востоком – отличная мысль! Вы должны будете и меня принять… Нам нужно поближе познакомиться… – И, видя, что Вокульский молчит, он прибавил: – Я назойлив, не правда ли, пан Вокульский? Но вы все равно не отделаетесь: вам нужно сблизиться с нами, вам и другим людям вашей среды, – и мы пойдем вместе. Ваши фирмы – те же гербы, наши гербы – те же фирмы, которые гарантируют добросовестность в ведении дела…
Они пожали друг другу руки, и Вокульский что-то ответил, – что именно, он не помнил. Его беспокойство усилилось; тщетно он разыскивал панну Изабеллу.
«Должно быть, она там, дальше», – подумал он и, волнуясь, направился в следующую гостиную.
По дороге его перехватил Ленцкий, проявляя необычайную сердечность.
– Вы уже уходите? Так до свидания, дорогой пан Вокульский! После праздников у меня первое заседание, и начнем с богом.
«Ее нет!» – терзался Вокульский, прощаясь с паном Томашем.
– А знаете, – шепотом продолжал Ленцкий, – ведь вы произвели фурор. Графиня себя не помнит от радости, князь только о вас и говорит… Да еще случай с председательшей… Ну… просто великолепно! И мечтать нельзя было о лучшем дебюте…
Вокульский уже стоял в дверях. Он еще раз обвел залу остекленевшим взглядом и вышел с отчаянием в сердце.
«Может быть, следует вернуться и проститься с нею? Ведь она заменяла хозяйку дома…» – колебался он, медленно спускаясь по лестнице.
Услышав на верхней площадке шелест платья, он вздрогнул.
«Она…»
Он поднял голову и увидел даму в бриллиантах.
Кто-то подал ему пальто, и он вышел на улицу, пошатываясь, как пьяный.
«Что мне в блестящем успехе, если ее нет?»
– Карету пана Вокульского! – закричал с крыльца швейцар, благоговейно сжимая в кулаке трехрублевку. Слезящиеся глаза и несколько охрипший голос свидетельствовали, что сей гражданин даже на своем ответственном посту отдал благочестивую дань первому дню пасхи.
– Карету пана Вокульского!.. Карету пана Вокульского!.. Вокульский, подъезжай! – повторяли толпившиеся у крыльца кучера.
По мостовой медленно двигались вереницы колясок и карет: к Бельведеру и от Бельведера. Один из седоков узнал Вокульского и поклонился.
– Коллега! – шепнул Вокульский и покраснел. Наконец подали его экипаж; он хотел было сесть, но раздумал.
– Поезжай-ка, брат, домой, – сказал он кучеру, давая ему на чай.
Экипаж поехал к центру города, а Вокульский смешался с толпой пешеходов и направился к Уяздовской площади. Он медленно шел, разглядывая проезжавших. Многих он знал лично. Вот кожевник, поставляющий ему свои изделия, едет кататься со своей бочкообразной супругой и очень недурненькой дочкой, которую ему собирались сватать. Вот сын мясника, некогда поставлявшего колбасу в магазин Гопфера. Вот разбогатевший плотник с многочисленным семейством. Вдова спиртозаводчика, которая тоже владеет большим капиталом и тоже не прочь отдать свою руку Вокульскому. Вот шорник, два приказчика из мануфактурного магазина, вон там мужской портной, подрядчик, строитель, ювелир, владелец пекарни, а вот и его конкурент, галантерейный купец в обыкновенной пролетке.
Большинство из них не видело Вокульского; кое-кто, заметив его, кланялся; нашлись, однако, и такие, которые делали вид, будто не замечают его, и только язвительно усмехались. Среди всей этой толпы купцов, предпринимателей и ремесленников, которые по положению были равны ему, а иные даже богаче или известнее в Варшаве, только его пригласили сегодня к графине. Ни один из них, только он, Вокульский!..
«Мне невероятно везет, – думал он. – В полгода я нажил изрядное состояние, через несколько лет у меня уже будет миллион… Нет, даже раньше… Сегодня я уже получил доступ в аристократические гостиные, а через год?.. Господам, с которыми я только что встретился у графини как равный, мне семнадцать лет назад пришлось бы прислуживать в ресторане, если бы они, конечно, соизволили заглянуть туда. Из каморки при магазине в будуар графини – каков скачок!.. Не слишком ли я быстро продвигаюсь?» – прибавил он с тайной тревогой в сердце.
Он вышел на просторную Уяздовскую площадь. В южной части ее были устроены развлечения для простонародья. Дребезжащие звуки шарманок, подвывание труб и гул многотысячной толпы хлынули на Вокульского, словно волны. Перед ним как на ладони виднелся длинный ряд качелей, взлетавших то вправо, то влево, словно гигантские маятники. За ними второй ряд – быстро вращавшиеся карусели с разноцветным полосатым верхом. За ними третий – зеленые, желтые и красные балаганы, где у входа висели безобразно намалеванные картины, а на крышах то появлялись, то исчезали пестрые клоуны и огромные куклы. А в центре площади стояло два высоких столба, на которые как раз в эту минуту карабкались смельчаки, соблазненные пиджачной парой и дешевыми часами.
Между этими наспех сколоченными грязными постройками кишели толпы веселящихся людей.
Вокульскому вспомнились детские годы. Какой вкусной казалась ему, вечно голодному мальчишке, булка с сосиской! С какой уверенностью он оседлывал лошадку на каруселях, воображая себя великим полководцем! Какое неистовое упоение испытывал он, взлетая на качелях под самое небо! Ах, как сладко было думать, что и сегодня он свободен, и завтра тоже – впервые за целый год. А ни с чем не сравнимая уверенность, что сегодня он ляжет спать в десять, а завтра, если вздумается, встанет тоже в десять, пролежав двенадцать часов подряд в постели!
«И это был я, я? – недоуменно спрашивал он себя. – Неужели меня приводили в восторг вещи, которые теперь внушают лишь отвращение?.. Тысячи бедняков веселятся вокруг, в сравнении с ними я богач, но каков мой удел? Тоска и скука, скука и тоска… Сейчас, когда я мог бы иметь все, о чем мечтал когда-то, у меня нет ничего, ибо прежние желания угасли. А я так верил в свое необыкновенное счастье!..»
В это мгновение из толпы вырвался многоголосый крик. Вокульский очнулся и увидел на верхушке столба человеческую фигуру.
«Ага, победитель!» – сказал он про себя, едва устояв на ногах под натиском толпы; вокруг него люди проталкивались вперед, хлопали в ладоши, кричали «браво», показывали пальцами на героя, спрашивали, как его фамилия. Казалось, вот-вот завоевателя пиджачной пары на руках понесут по улицам – и вдруг всеобщее возбуждение улеглось. Люди замедлили шаг, останавливались, возгласы стали затихать, наконец умолкли совсем. Герой минуты спустился со столба и через несколько мгновений был забыт.
«Вот предостережение мне!» – подумал Вокульский, утирая пот со лба.
Площадь с веселящейся толпой вконец опротивела ему. Он повернул обратно.
По Аллее все еще тянулась вереница пролеток и карет. В одной из них мелькнуло бледно-голубое платье.
«Панна Изабелла?..»
У Вокульского заколотилось сердце.
«Нет, не она».
Вдали изящной походкой прошла красивая женщина.
«Она?.. Нет. Зачем ей тут быть?» – Так прошел он Аллею, Александровскую площадь, Новы Свят, все время высматривая кого-то и все время обманываясь.
«Так вот оно, мое счастье? – думал он. – Что доступно, того я не хочу, а цепляюсь за то, что не дается в руки. Неужели это и есть счастье? Кто знает, может быть, смерть не так уж страшна, как представляют себе люди».
И впервые показался ему отрадным крепкий, непробудный сон, которого не потревожат ни желания, ни надежды.
В то же самое время панна Изабелла, вернувшись от тетки домой, чуть не с порога закричала панне Флорентине:
– Вообрази… он был на приеме!
– Кто?
– Ну, этот… Вокульский…
– Почему же ему не быть, если его пригласили? – удивилась панна Флорентина.
– Да ведь это наглость! Это неслыханно! И вдобавок, представь, тетка от него без ума, князь чуть не вешается ему на шею, и все хором твердят, что это знаменитость… Что ж ты молчишь?
Панна Флорентина грустно усмехнулась.
– Это не ново. Герой сезона… Зимою был в этой роли пан Казимеж, а лет пятнадцать назад… даже я, – тихо прибавила она.
– Да ты рассуди: кто он такой? Купец… купец…
– Дорогая Белла, – отвечала панна Флорентина, – я помню, как в свете увлекались даже циркачами. Пройдет, как всякое увлечение.
– Боюсь я этого человека, – прошептала панна Изабелла.
Глава десятая
Дневник старого приказчика
«Итак, у нас новый магазин: пять витрин, два склада, семь приказчиков и у входа швейцар. Есть у нас и экипаж, блестящий, как начищенный сапог, пара гнедых лошадей, кучер и лакей в ливрее. И все это свалилось на нас в начале мая, когда Англия, Австрия и даже обессилевшая Турция очертя голову вооружались.
– Милый Стась, – говорил я Вокульскому, – все купцы смеются над тем, что мы столько тратим в теперешние неспокойные времена.
– Милый Игнаций, – отвечал мне Вокульский, – а мы будем смеяться над всеми купцами, когда наступят более спокойные времена. Сейчас самая подходящая пора вершить дела.
– Да ведь европейская война, – говорю я. – на носу. А тогда не миновать нам банкротства.
– Пустяки. Брось ты думать про войну, – отвечает Стась. – Вся эта шумиха утихнет через несколько месяцев, а мы тем временем обгоним всех конкурентов.
Ну, и нет войны. В магазине у нас толчея, как на богомолье, на склады, как на мельницу, беспрерывно привозят и увозят товары, а деньги так и сыплются в кассу, что твоя мякина. Кто не знает Стася, скажет, пожалуй, что он гениальный купец. Но я-то знаю его, потому и спрашиваю себя все чаще: зачем ему все это? – Warum hast du denn das getan?
Правда, и ко мне не раз обращались с подобного рода вопросами. Неужто я в самом деле уже так стар, как покойница Grosmutter, и не могу понять ни духа времени, ни помыслов младшего поколения?.. Ну нет! Дело еще не так плохо…
Помню, когда Луи-Наполеон (позднее император Наполеон III) бежал из тюрьмы в 1846 году, вся Европа так и забурлила. Никто не знал, что будет. Но все рассудительные люди к чему-то готовились, а дядюшка Рачек (пан Рачек женился на моей тетке) все твердил свое:
– Говорил я, что Бонапарт еще вынырнет и заварит им кашу! Да вот беда: что-то я на ноги стал слабоват.
1846 и 1847 годы прошли в великой сумятице. То и дело появлялись какие-то газетки, а люди пропадали. Не раз я задумывался: не пора ли и мне пуститься в широкий мир? А когда меня одолевали сомнения и тревога, я шел после закрытия магазина к дяде Рачеку, рассказывал, что меня терзает, и просил, чтобы он посоветовал мне как отец.
– Знаешь что, – отвечал дядя, стукнув себя кулаком по большому колену,
– посоветую я тебе как отец: хочешь, говорю тебе, так иди, а не хочешь, говорю тебе… так оставайся.
Но в феврале 1848 года, когда Луи-Наполеон был уже в Париже, однажды во сне явился ко мне покойный отец, такой, каким я видел его в гробу. Сюртук застегнут наглухо до самого подбородка, в ухе – серьга, усы нафабрены (это Доманский ему подчернил, чтобы отец пред судом божиим не ударил лицом в грязь). Стал он во фронт у дверей моей комнатушки и сказал такие слова:
– Помни, сорванец, чему я учил тебя…
«Сон – морока, положись на бога», – думал я несколько дней. Но магазин мне уже опостылел. Потерял я склонность даже к Малгосе Пфейфер, – царство ей небесное, – и сделалось мне на Подвалье так тесно, что никакого терпения не стало. Пошел я опять посоветоваться с дядюшкой Рачеком.
Помню, он лежал в постели, укрытый тетушкиной периной, и пил какие-то горячие снадобья, чтобы пропотеть. А когда изложил я ему все дело, он сказал:
– Знаешь что, посоветую я тебе как отец. Хочешь – иди, не хочешь – оставайся. Только сам я, если б не подлые мои ноги, давно бы уже был за границей. Да и тетка твоя, скажу я тебе, – тут он понизил голос, – так меня зудит, так зудит, что уж легче бы мне слушать канонаду австрийских пушек, чем ее трескотню. И сколько поможет она мне своим притиранием, столько испортит своим ворчанием… А деньги-то у тебя есть? – прибавил он, помолчав.
– Наберется несколько сот злотых. Дядя Рачек велел мне запереть двери (тетки не было дома) и, сунув руку под подушку, вытащил ключ.
– Вот, – сказал он, – открой-ка тот сундук, обитый кожей. Там направо найдешь ящичек, а в нем кошелек. Подай мне его…
Я достал кошелек, тугой и тяжелый. Дядя Рачек взял его в руки и, вздыхая, отсчитал пятнадцать полуимпериалов.
– Возьми, – сказал он, – это на дорогу; решил ехать, так и поезжай… Дал бы я тебе больше, да ведь и мой час может пробить… Ну, и бабе надо что-нибудь оставить, чтобы в случае чего нашла себе другого мужа…
Мы со слезами простились. Дядюшка даже приподнялся на постели и, повернув лицо мое к свечке, прошептал:
– Дай-ка еще разок погляжу на тебя… Потому что с этого бала, скажу я тебе, не всем суждено вернуться… Да и сам уж я одной ногой на том свете стою, дурное расположение, скажу я тебе, может доконать человека не хуже пули.
Я вернулся в магазин и, хотя время было позднее, рассказал обо всем Яну Минцелю и поблагодарил его за службу и заботу. Мы уже с год с ним беседовали об этих предметах, он всегда сам подбивал меня идти колотить немцев, вот я и думал, что намерением своим доставлю ему превеликое удовольствие. Между тем Минцель как-то приуныл. На другой день он выплатил мне причитающиеся деньги, дал даже наградные и обещался хранить мою постель и сундучок на случай, если я вернусь. Однако обычная воинственность оставила его, и он даже ни разу не повторил излюбленного своего восклицания: «Ого-го! Задал бы я пруссакам, если б только не магазин…»
А когда вечером, часов около десяти, я, облачившись в полушубок и тяжелые сапоги, расцеловался с ним и взялся за дверную ручку, собираясь покинуть комнату, в которой столько лет мы прожили вместе, с Яном вдруг сделалось что-то непонятное. Он вскочил со стула, взмахнул руками и завопил:
– Свинья… куда ты уходишь?..
Потом бросился на мою постель и расплакался, как малое дитя.
Я выбежал из комнаты. В темных сенях, едва освещенных масляной плошкой, кто-то загородил мне дорогу. Я вздрогнул. Смотрю – Август Кац, одетый по-зимнему, словно в дальний путь.
– Ты что тут делаешь, Август? – спрашиваю я.
– Жду тебя.
Я подумал, что он хочет меня проводить; мы пошли на Гжибовскую площадь, не проронив по пути ни слова, потому что Кац был неразговорчив. Еврей-возчик, который подрядился меня везти, уже дожидался со своей телегой. Я поцеловал Каца, он меня. Я сажусь… он за мною…
– Едем вместе, – говорит. А когда мы уже были за Милосной, прибавил: – Жестко и тряско, никак не заснешь.
Совместное наше путешествие сверх ожидания затянулось до самого октября 1849 года.[13]13
…наше путешествие… затянулось до… октября 1849 года. – Жецкий, как и многие поляки, участвовал в национально-освободительной борьбе Венгрии против Австрии (март 1848 – октябрь 1849 гг.)
[Закрыть] Помнишь, Кац, незабвенный товарищ? Помнишь ли долгие переходы по жаре, когда мы не раз пили воду из луж? А переправу через болото, когда мы подмочили патроны? А ночевки в лесу или в поле, когда каждый из нас норовил спихнуть голову другого с солдатского ранца и потихоньку натягивал на себя шинель, обоим нам служившую одеялом? А помнишь мятую картошку с салом, которую мы вчетвером сварили тайком от своего взвода? Сколько раз потом едал я картошку, но никогда уж не казалась она мне такой вкусной. И поныне помню я аппетитный запах и горячий пар, поднимавшийся из котелка, помню, как ты, Кац, чтобы не терять даром времени, одновременно читал молитву, набивал рот картошкой и раскуривал у костра трубку.
Эх, Кац! Если на небе нет венгерской пехоты и мятой картошки, зря ты туда поспешил!
А помнишь, генеральное сражение, о котором мы всегда мечтали на привалах после партизанских перестрелок? Что до меня, я и в могиле его не забуду, а если господь бог меня когда-нибудь спросит: «Для чего жил ты на свете?» – «Для того, – отвечу я, – чтобы пережить один такой день». Только ты поймешь меня, Кац, потому что мы оба это видели. А тогда ведь казалось, что это так, пустяки…
За полтора дня до сражения собралась наша бригада под какой-то венгерской деревней, названия уж не помню. Чествовали нас на славу. Вина, правда, неважного, – хоть залейся, а свинина и красный перец до того нам приелись, что и в рот бы не брал этой пакости – разумеется, будь что-нибудь получше. А музыка, а девчонки!.. Цыгане – отличные музыканты, а венгерки – чистый порох. Вертелось их, чертовок, среди нас не больше двадцати, а так стало жарко, что наши зарубили троих мужиков, а мужики убили дубинами нашего гусара.
И бог весть, чем бы кончилось наше гулянье после такого славного начала, если бы в самый разгар кутерьмы не прикатил в штаб помещик на четверке взмыленных коней. Через несколько минут по войскам разнеслась весть, что поблизости находятся крупные силы австрийцев. Протрубили сбор, кутерьма улеглась, венгерки куда-то пропали, а по шеренгам пошел слух о генеральном сражении.
– Наконец-то! – сказал ты мне.
В ту же ночь мы продвинулись на милю вперед, на следующий день еще на милю. Каждые три-четыре часа, а потом даже каждый час прибывали гонцы. Судя по этому, корпусной штаб находился неподалеку и дело предстояло нешуточное.
В ту ночь мы спали в открытом поле и даже не составили ружья в козлы. Едва рассвело, двинулись вперед: эскадрон кавалерии с двумя легкими пушками, за ним наш батальон, а за нами вся бригада с артиллерией и повозками, прикрытая с флангов сильными патрулями. Гонцы прибывали уже каждые полчаса.
Когда взошло солнце, мы увидели на дороге первые следы неприятеля: клочья соломы, погашенные костры, постройки, разобранные на топливо. Потом стали все чаще попадаться беженцы: помещики с семьями, духовные лица разного вероисповедания, наконец – мужики и цыгане. У всех были испуганные лица; почти все что-то кричали по-венгерски, показывая руками назад.
Было около семи, когда с юго-западной стороны раздался пушечный выстрел. По шеренгам пронесся шепот:
– Ого! Начинается…
– Нет, это сигнал…
Снова дважды грянула пушка, потом еще и еще раз. Ехавший перед нами эскадрон остановился; две пушки с зарядными ящиками помчались галопом вперед, несколько всадников поскакали на ближайшие холмы. Мы придержали шаг – и на минуту водворилась такая тишина, что стал слышен цокот серой кобылы догонявшего нас адъютанта. Лошадь пронеслась мимо, к гусарам, тяжело дыша и почти касаясь животом земли.
На этот раз отозвалось уже несколько пушек, поблизости и вдали; каждый выстрел можно было явственно различить.
– Нащупывают дистанцию, – сказал наш старый майор.
– Пушек пятнадцать у них есть, – буркнул Кац, который в подобные минуты становился разговорчивее, – а у нас двенадцать, то-то будет потеха…
Майор обернулся к нам с коня и усмехнулся в свой сивый ус. Я понял, что значила его усмешка, услышав целую гамму выстрелов, словно кто-то заиграл на органе.
– Пожалуй, у них больше двадцати, – сказал я Кацу.
– Ослы! – рассмеялся офицер и пришпорил коня.
Мы остановились на возвышенности, откуда видна была идущая за нами бригада. Над нею взвивалось рыжеватое облако пыли, тянувшееся вдоль дороги на две, а то и на три версты.
– Тут целые полчища! – воскликнул я. – И где только все это уместится?
Заиграли трубы, и наш батальон раскололся на четыре роты, выстроившиеся колоннами одна подле другой. Первые взводы выдвинулись вперед, мы остались позади. Я повернул голову и увидел, что от главного корпуса отделились еще два батальона; они сошли с дороги и полем бежали к нам: один – к правому флангу, другой – к левому. Не более как через четверть часа они уже поравнялись с нами, еще с четверть часа отдыхали – и, дружно шагая нога в ногу, мы все вместе двинулись вперед.
Между тем канонада усилилась настолько, что ясно различались залпы из двух-трех орудий одновременно. Хуже того – сквозь их гул слышался какой-то глухой рокот, похожий на непрерывный гром.
– Сколько орудий, камрад? – спросил я по-немецки идущего рядом унтер-офицера.
– Полагаю, не менее сотни, – отвечал он, покачивая головой. – И работают они на славу, – добавил он, – все орудия разом ответили.
Нас оттеснили с дороги, по которой через несколько минут проехали медленной рысью два гусарских эскадрона и четыре орудия с зарядными ящиками. Солдаты в моей шеренге один за другим стали креститься: «Во имя отца и сына…» Кое-кто хлебнул из манерки.
Влево от нас гул все усиливался: уже нельзя было различать отдельные выстрелы. Вдруг в передних рядах закричали:
– Пехота! Пехота!
Машинально я взял ружье наизготовку, думая, что показались австрийцы. Но перед нами по-прежнему не было ничего, кроме холма и редких кустов. Зато среди орудийного грохота, которого мы уже почти не замечали, послышался какой-то треск, похожий на частый стук дождя, только гораздо громче.
– К бою! – протяжно крикнули на передней линии.
Я почуствовал, как на миг сердце мое остановилось – не от страха, а словно в ответ на слово, которое с малолетства оказывало на меня особое действие.
В шеренгах, несмотря на марш, все оживились. Солдаты угощали друг друга вином, проверяли ружья, толковали о том, что не более как через полчаса мы пойдем в огонь, а главное – самым бесцеремонным образом насмехались над австрийцами, которым в ту пору не везло. Кто-то стал насвистывать, другой вполголоса запел; даже натянутая важность офицеров растаяла, сменившись товарищеским добродушием. Только команда «смирно!» водворила порядок.
Мы затихли и выровняли несколько расстроенные ряды. Небо было чисто, лишь кое-где белели на нем недвижные облачка; на кустах, мимо которых мы шли, не шелохнулся ни один листок; над полем, поросшим молодою травой, замолк испуганный жаворонок. Раздавались лишь тяжелый шаг батальона, учащенное дыхание людей да изредка лязг столкнувшихся ружей или зычный голос майора, который ехал впереди и что-то говорил офицерам. А там, налево, исходили в многоголосом реве орудия и барабанил дождь ружейных выстрелов. Кто, брат Кац, не слышал подобной бури под ясным небом, тот не знает настоящей музыки… Помнишь, как странно было тогда у нас на душе?.. Не страх, а так, вроде как бы и грусть и любопытство…
Батальоны с флангов все дальше отходили от нас; наконец правый исчез за холмами, а левый в нескольких саженях от нас нырнул в широкую балку, откуда лишь поблескивала лента его штыков. Куда-то пропали и гусары, и пушки, и тянувшийся сзади резерв; остался только наш батальон, который спускался с одного холма и поднимался на другой, еще выше. Лишь время от времени с передовой линии, с тыла или с флангов, прискачет всадник с запиской либо с устным приказом майору. Поистине чудо, что от стольких приказов у него не помутилось в башке.
Наконец, уже около девяти, мы поднялись на последнюю возвышенность, поросшую густым кустарником. Снова команда, и взводы, шедшие один за другим, стали строиться в ряд. А когда мы достигли вершины холма, нам сперва приказали согнуться и опустить штыки, а потом стать на колено.
Тогда (помнишь, Кац?) Кратохвиль, стоявший на коленях впереди нас, сунул голову меж двух сосенок и глухо вскрикнул:
– Гляньте-ка!
От подножья холма на юг, до самой линии горизонта, тянулась равнина, а на ней-как бы река белого дыма шириною в несколько сот шагов, а длиною – кто ее знает! – может, в милю.
– Стрелковая цепь, – сказал старый унтер-офицер.
По обеим сторонам этой странной реки виднелось несколько черных и более десятка белых облачков, стелившихся по земле.
– Это батареи, а вон там деревни горят, – объяснял унтер-офицер.
Хорошенько вглядевшись, можно было различить по обеим сторонам длинной полосы дыма прямоугольные пятна: слева темные, а справа белые. Они были похожи на огромных ежей, ощетинившихся блестящими иглами.
– Тут наши полки, а вон там австрийские, – говорил унтер. – Ну-ну! Лучше, чем в самом штабе, видно…
От длинной полосы дыма летел немолчный треск ружейных залпов, а в белых облачках бушевал орудийный огонь.
– Фью, и это называется бой… – сказал ты тогда, Кац. – А я-то, дурак, боялся…
– Погоди, погоди, – пробормотал унтер.
– Оружие к бою! – прокатилось по рядам.
Не вставая с колен, мы принялись вынимать и обкусывать патроны. Раздался лязг стальных шомполов и треск взводимых курков. Мы засыпали порох на полки – и опять воцарилась тишина.
Впереди, примерно в версте от нас, было два холма, а между ними дорога. Я заметил, что на желтой ее полосе появились какие-то белые точки, из которых вскоре образовалась белая линия, а затем белое пятно. Одновременно из балки, лежавшей шагах в трехстах влево от нас, вышли солдаты в синих мундирах и быстро образовали синюю колонну. В эту минуту вправо от нас грянул пушечный выстрел, и над белым австрийским отрядом появилось сизое облачко дыма. Прошло несколько минут – и опять загрохотало, и опять поднялось облачко над австрийцами. Полминуты – и опять выстрел и облачко…
– Herr Gott!<Господи! (нем.)> – вскричал старый унтер. – Наши-то как палят! Там или Бем[14]14
Бем Юзеф (1795-1850) – польский генерал, один из руководителей польского восстания 1830 года; позже командовал венгерскими революционными войсками в Трансильвании.
[Закрыть], или сам черт командует!
С этой минуты орудийные залпы с нашей стороны следовали так часто, что земля содрогалась, но белое пятно на дороге все росло и росло. Одновременно на противоположном холме показался дымок, и в сторону нашей батареи с урчанием полетела граната. Еще дымок… еще… еще…
– Хитры, бестии! – буркнул унтер.
– Батальон! Вперед, марш! – во все горло рявкнул наш майор.
– Рота! Вперед, марш! Взвод! Вперед, марш!.. – на разные голоса повторяли офицеры.
Нас опять построили по-новому. Четыре средних взвода остались сзади, четыре пошли вперед, вправо и влево. Мы подтянули ранцы и взялись за ружья, как кому вздумалось.
– Ну, кубарем! – крикнул ты тогда, Кац.
В ту же минуту высоко над нами пролетела граната и с сильным треском разорвалась где-то позади.
Странная мысль промелькнула тогда у меня. Эти сражения – не просто ли трескучая комедия, которую войска устраивают на потеху народам, без всякого вреда для себя! Зрелище, развернувшееся у меня перед глазами, было великолепное, но отнюдь не страшное.
Мы спустились на равнину. Из нашей батареи прискакал гусар с донесением, что одна пушка повреждена. Одновременно слева от нас упала граната; она зарылась в землю, но не взорвалась.
– К нам подбираются, – сказал старый унтер.