Текст книги "Кукла"
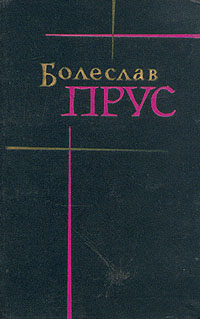
Автор книги: Болеслав Прус
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 57 страниц)
И он представил себе, как приятно, должно быть, когда холодное лезвие пронзает разгоряченное сердце.
«К несчастью, – вздохнул он, – сейчас запрещено убивать других; можно только себя – лишь бы сразу и наверняка. Что ж…»
Мысль о таком верном средстве спасения успокоила его. Постепенно им овладевало некое торжественное состояние духа; он решил, что наступает момент, когда следует отчитаться перед собственной совестью, подвести итог своей жизни.
«Если б я был верховным судьей и меня бы спросили: „Кто достоин панны Изабеллы: Охоцкий или Вокульский?“ – я вынужден был бы признать, что Охоцкий… На восемнадцать лет моложе меня (восемнадцать лет!) и так хорош… В двадцать восемь лет кончил два факультета (я в его возрасте только начинал учиться…) и уже сделал три открытия (я – ни одного!). И вдобавок ко всему – это сосуд, в котором зреет великая идея… Мудреная вещь – летательная машина, но он, несомненно, нашел гениальную и единственно возможную исходную точку для ее изобретения. Летательная машина должна быть тяжелее воздуха, а не легче его, как воздушный шар, ибо все, что летает, начиная от мухи и кончая исполином-ястребом, тяжелее воздуха. У него правильная исходная точка и подлинно творческий ум, что он доказал хотя бы своим микроскопом и лампой; и кто знает, не удастся ли ему построить и летательную машину? А в таком случае он вознесется в глазах человечества выше Ньютона и Бонапарта, вместе взятых… И с ним-то мне состязаться! А если когда-нибудь возникнет вопрос: кто из нас двоих должен устраниться – неужто я не стану колебаться?.. Что за адская мука говорить себе: ты должен принести себя в жертву человеку в конце концов такому же, как и ты, смертному, подверженному болезням и ошибкам, и главное – такому наивному… Ведь он еще совсем ребенок: чего-чего только не выболтал он мне сегодня!..»
Странная игра случая. Когда Вокульский служил приказчиком в бакалейной лавке, он мечтал о perpetuum mobile – машине, которая бы сама себя приводила в движение. Когда же он поступил в подготовительную школу и понял, что подобная машина – абсурд, самой лелеемой, самой сокровенной мечтой его стало – изобрести способ управления воздушным шаром. То, что для Вокульского было только фантастической тенью, блуждающей по ложным путям, у Охоцкого приняло форму конкретной проблемы.
«Как жестока судьба! – с горечью размышлял он. – Двум людям даны почти одинаковые стремления, но один из них родился на восемнадцать лет раньше, другой – позже; один – в нищете, другой – в достатке; одному не удалось вскарабкаться даже на первую ступень знания, другой легко перескочил через две ступени. Его уже не сметут с пути политические бури, как меня, ему не помешает любовь, в которой он видит лишь развлечение, тогда как для меня, прожившего шесть лет в пустыне, в этом чувстве – небо и спасение… даже больше!.. Вот он и превосходит меня на любом поприще, хотя я одарен теми же чуствами и тем же пониманием действительности, а трудился, уж наверное, больше его!»
Вокульский хорошо знал людей и часто сравнивал себя с ними. И где бы он ни находился, всегда он чувствовал себя чуть-чуть лучше окружающих. Был ли он лакеем, ночи напролет просиживавшим над книгой, или студентом, пробивавшимся к знанию вопреки нужде, или солдатом, шедшим вперед под градом пуль, или ссыльным, который в занесенной снегом лачужке работал над научными изысканиями, – всегда он вынашивал в душе идею, опережавшую современность на несколько лет. А другие жили лишь сегодняшним днем, ради своей утробы или кармана.
И лишь сегодня встретился ему человек, который был выше его, – безумец, собиравшийся строить летательные машины.
«Ну, а я – разве нет у меня сейчас идеи, ради которой я тружусь уже год, добыл состояние, помогаю людям и завоевываю уважение к себе?..
Да, но любовь – это личное чувство; все заслуги, связанные с ним, – словно рыбы, подхваченные водоворотом морского циклона. Если б с поверхности земли исчезла одна женщина, а во мне – память о ней, чем бы я стал? Обыкновенным капиталистом, который со скуки ходит в клуб играть в карты. А Охоцкий одержим идеей, которая всегда будет увлекать его вперед, если только рассудок его не помутится…
Хорошо, ну, а если он ничего не совершит и, вместо того чтобы построить свою машину, попадет в сумасшедший дом? Я же тем временем сделаю нечто реальное; ну, а микроскоп, какой-то прибор или даже электрическая лампа, наверное, не более важны, чем судьбы сотен людей, которым я обеспечиваю жизнь. Откуда же во мне это сверххристианское уничижение? Еще неизвестно, кто из нас что совершит, а покамест я человек действия, а он мечтатель!.. Нет, подождем с год…»
Год! Вокульский вздрогнул. Ему показалось, что в конце пути, называемого годом, лежит бездонная пропасть, которая поглощает все, оставаясь все такой же пустой…
«Значит, пустота?.. пустота!..»
Вокульский инстинктивно оглянулся по сторонам. Он был в глубине Лазенковского парка, в глухой аллее, до которой не доносилось ни звука. Даже листва огромных деревьев не шелестела.
– Который час? – вдруг спросил чей-то хриплый голос.
– Час?
Вокульский протер глаза. Навстречу ему из мрака вынырнул какой-то оборванец.
– Раз вежливо спрашивают, вежливо и отвечай, – сказал он и подошел ближе.
– Убей меня, тогда сам посмотришь, – ответил Вокульский.
Оборванец попятился. Влево от дороги показалось еще несколько человеческих теней.
– Дураки! – крикнул Вокульский, продолжая идти. – При мне золотые часы и несколько сот рублей… Ну же, я защищаться не стану!..
Тени исчезли среди деревьев, и кто-то вполголоса произнес:
– Вырастет же такой сукин сын, где и не сеяли…
– Скоты! Трусы!.. – кричал Вокульский в исступлении. В ответ ему раздался топот убегающих людей.
Вокульский собрался с мыслями.
«Где я?.. Да, в Лазенках, но в каком месте? Надо пойти в другую сторону…»
Он несколько раз сворачивал и уже не знал, куда идет. Сердце у него забилось сильнее, на лбу выступил холодный пот, и впервые в жизни он испугался темноты и того, что заблудится…
Несколько минут он бежал, задыхаясь, куда глаза глядят; дикие мысли кружились у него в голове. Наконец налево он заметил каменную ограду, за нею здание.
«Ага, оранжерея…»
Он добежал до какого-то мостика, перевел дух и, опершись на барьер, подумал:
«Итак, к чему же я пришел?.. Опасный соперник… расстроенные нервы… Кажется, уже сегодня я мог бы дописать последний акт этой комедии…»
Прямая дорога привела его к пруду, затем к Лазенковскому дворцу. Через двадцать минут он был в Уяздовских Аллеях, вскочил в проезжавшую пролетку и четверть часа спустя был дома.
При виде фонарей и уличного движения Вокульский повеселел; он даже усмехнулся и прошептал:
«Что за бредовые идеи? Какой-то Охоцкий… самоубийство… Ах, что за чушь!.. Проник же я все-таки в аристократическую среду, а дальше видно будет!»
Когда он вошел в кабинет, слуга подал ему письмо, написанное на его собственной бумаге рукою пани Мелитон.
– Эта барыня приходила сегодня цельных два раза, – сказал верный слуга.
– Раз в пять часов, а другой раз – в восемь…
Глава двенадцатая
Хождение по чужим делам
Вокульский все еще держал в руках письмо пани Мелитон, припоминая пережитое. В неосвещенной части кабинета ему чудилась темная, густо заросшая часть парка, неясные силуэты оборванцев, собиравшихся на него напасть, а затем холм за колодцем, где Охоцкий поверял ему свои замыслы. Однако стоило ему взглянуть на свет, как туманные образы исчезали. Он видел лампу с зеленым колпаком, груду бумаг, бронзовые статуэтки на письменном столе – и порой ему казалось, что Охоцкий со своими летательными машинами и собственное его отчаяние – все это только сон.
«Какой он гений? – говорил себе Вокульский. – Обыкновенный мечтатель… Да и панна Изабелла – такая же женщина, как другие… Выйдет за меня – хорошо, не выйдет – тоже не умру».
Он развернул письмо и прочел:
«Сударь! Важная новость: через несколько дней продается дом Ленцких, и единственным покупателем будет баронесса Кшешовская, их родственница и злейший враг. Мне доподлинно известно, что она решила заплатить за дом не более шестидесяти тысяч рублей, а в таком случае пропадут остатки приданого панны Изабеллы в сумме тридцати тысяч рублей. Момент весьма благоприятный, потому что панна Изабелла, вынужденная выбирать между бедностью и браком с предводителем, охотно согласится на любую другую комбинацию.
Полагаю, что на этот раз Вы не пренебрежете подвернувшимся случаем, как это было с векселями Ленцкого, которые Вы изорвали у меня на глазах. Помните: женщинам так нравится, когда их угнетают, что иной раз для большего впечатления не мешает придавить их еще и ногой. Чем решительнее Вы это сделаете, тем крепче она полюбит Вас. Помните об этом!
Впрочем, Вы можете доставить Белле небольшое удовольствие. Барон Кшешовский, находясь в крайности, продал собственной супруге свою любимую лошадь, которая на днях должна участвовать в скачках; он возлагал на нее большие надежды. Насколько я разбираюсь в обстоятельствах, Белла была бы очень довольна, если бы к моменту скачек эта лошадь не принадлежала ни барону, ни его жене. Барон был бы сконфужен, что ее продал, а баронесса пришла бы в отчаяние, если бы лошадь выиграла деньги для кого-либо другого. Великосветские взаимоотношения – тонкая штука, все же попытайтесь их использовать. Случай не замедлит подвернуться, так как некто Марушевич, приятель обоих Кшешовских, как я слышала, собирается предложить Вам эту лошадь. Помните же, что женщины подчиняются только тем, кто их крепко держит в руках, в то же время потакая их капризам.
Право, я начинаю верить, что Вы родились под счастливой звездой.
Искренне расположенная А.М.»
Вокульский глубоко вздохнул. Обе новости были важные. Он перечитал письмо, удивляясь грубому стилю пани Мелитон и посмеиваясь над ее замечаниями по адресу прекрасного пола. Держать в руках людей, быть хозяином положения – это было в натуре Вокульского; все и всех готов он был схватить за шиворот, за исключением панны Изабеллы. Она была единственным существом, которому он хотел бы дать полную волю и даже господство над собой.
Он оглянулся: слуга все еще стоял у двери.
– Ступай спать, – сказал он.
– Сейчас пойду, только тут был еще один барин.
– Какой барин?
– Они оставили карточку, вон на столе.
На столе лежала визитная карточка Марушевича.
– Ага… Что же этот барин сказал?
– Да они вроде как бы ничего не сказали. Только справлялись: когда, мол, хозяин бывает дома. А я и говорю: «Часов этак до десяти утра», – а они сказали, что придут завтра в десять, толечко на минутку.
– Хорошо. Спокойной ночи.
– Низко кланяюсь, ваша милость.
Слуга вышел. Вокульский чуствовал себя вполне отрезвевшим. Охоцкий со своими летательными машинами потерял в его глазах прежнюю значительность. Он снова был полон энергии, как в момент выезда в Болгарию. Тогда он отправился за богатством, а теперь может бросить часть его к ногам Изабеллы. Его покоробила фраза в письме пани Мелитон: «…вынужденная выбирать между бедностью и браком с предводителем…» Так нет же, никогда она не окажется в таком положении! И выручит ее не какой-то Охоцкий благодаря своей машине, а он, Вокульский… Он ощущал в себе столько сил, что если бы в эту минуту ему на голову обрушился потолок с двумя верхними этажами, он, пожалуй, удержал бы его.
Достав из ящика записную книжку, он занялся подсчетом.
«Скаковая лошадь, – чепуха… Никак не больше тысячи рублей, да и то часть из них, наверное, получу обратно. Дом – шестьдесят тысяч, приданое панны Изабеллы – тридцать тысяч, итого девяносто тысяч. Ничего себе… Почти треть моего состояния. Ну что ж, в любую минуту дом можно продать тысяч за шестьдесят, а то и больше… Только надо будет уговорить Ленцкого, чтобы эти тридцать тысяч он вверил мне, а я буду выплачивать ему ежегодно пять тысяч в качестве дивидендов. Полагаю, что им этого хватит? Лошадь дам берейтору, пусть объездит ее перед скачками… В десять придет Марушевич, в одиннадцать поеду к адвокату… Деньги займу из восьми годовых, – значит, еще семь тысяч двести рублей; а там буду иметь верных пятнадцать процентов… ну, и дом что-нибудь да приносит… Но что скажут мои компаньоны? Да не все ли мне равно! У меня сорок пять тысяч годового дохода, двенадцать – тринадцать тысяч отпадает, остается тридцать две тысячи рублей… Нет, моей жене не придется скучать. В течение года избавлюсь от этого дома, пускай с потерей тридцати тысяч… В конце концов это не потеря, это ее приданое…»
Полночь. Вокульский начал раздеваться. Появилась определенная, ясная цель, и расстроенные нервы успокоились. Он погасил свет, лег, поглядел на занавески, которые раздувал ветер, врывавшийся в открытое окно, и заснул мертвым сном.
Встал он в семь часов в таком бодром и веселом расположении духа, что слуга, заметив это, замешкался в комнате.
– Чего тебе? – спросил Вокульский.
– Мне ничего. А вот сторож, ваша милость, не смеет только беспокоить, а хотел просить вас, барин, в крестные к его младенцу.
– А-а-а! А он спрашивал, хочу ли я, чтобы у него был младенец?
– Он бы спросил, да вы тогда были на войне.
– Ну ладно. Буду ему кумом.
– Так, может, по такому случаю вы пожалуете мне старый сюртук, а то как же я пойду на крестины?
– Хорошо, возьми себе сюртук.
– А приладить по мне…
– Вот дурень, да отвяжись ты… Вели переделать – все что угодно.
– Да мне бы, ваша милость, бархатный воротничок…
– Пришей себе бархатный воротничок и убирайся ко всем чертям…
– Напрасно изволите гневаться, это я не для себя стараюсь, а чтобы вам уважение оказать, – возразил слуга и вышел, бесцеремонно хлопнув дверью.
Он чувствовал, что барин необыкновенно благодушно настроен.
Вокульский оделся и сел за счетные книги, между делом выпив пустого чаю. Закончив подсчеты, он написал одну телеграмму в Москву – о присылке чека на сто тысяч рублей, и другую – в Вену своему агенту, чтобы он задержал некоторые заказы.
Около десяти пришел Марушевич. Молодой человек казался еще более потасканным и робким, чем вчера.
– Вы позвольте мне, – сказал он, здороваясь, – сразу раскрыть свои карты. У меня к вам необычное предложение…
– Готов выслушать самое необычное…
– Баронесса Кшешовская (я дружен с обоими супругами) хочет сбыть с рук скаковую кобылу. Мне сразу пришло в голову, что вы, при ваших связях, может быть пожелаете приобрести такую лошадь… У нее огромные шансы на выигрыш, потому, что, кроме нее, бегут еще только две лошади, значительно более слабые…
– Почему же баронесса не хочет участвовать в скачках?
– Баронесса? Да она ненавидит скачки.
– Зачем же она купила скаковую лошадь?
– По двум причинам. Во-первых, барону нужно было заплатить долг чести и он заявил, что застрелится, если не получит восьмисот рублей, пусть даже за свою любимую кобылу; а во-вторых, баронесса не желает, чтобы ее супруг участвовал в скачках. Вот она и купила у него лошадь. А теперь бедняжка расхворалась со стыда и горя и готова сбыть ее за любую цену.
– А именно?
– Восемьсот рублей, – ответил молодой человек, опуская глаза.
– Где эта лошадь?
– В манеже Миллера.
– А документы?
– Вот они, – повеселел молодой человек и достал пачку бумаг из бокового кармана сюртука.
– Что же, сразу и заключим сделку? – спросил Вокульский, просматривая бумаги.
– Если угодно.
– После обеда пойдем смотреть лошадь?
– О, конечно!
– Напишите расписку, – сказал Вокульский и вынул из ящика деньги.
– На восемьсот?
– Да, да…
Марушевич проворно взял перо и бумагу и принялся писать. Вокульский заметил, что у молодого человека дрожат руки и лицо то краснеет, то бледнеет.
Расписка была написана по всем правилам. Вокульский положил на стол восемь сотенных и спрятал бумаги. Через минуту Марушевич, все еще не оправившись от смущения, вышел из кабинета; сбегая по лестнице, он думал:
«Я подлец, да, подлец… Но в конце концов через несколько дней я верну этой бабе двести рублей и скажу, что их добавил Вокульский, оценив достоинства лошади. Они ведь не встретятся – ни барон с женой, ни этот… купчик… с ними… Велел написать расписку… каков! Сразу виден торгаш и выскочка… Ох, как страшно я наказан за свое легкомыслие!»
В одиннадцать часов Вокульский вышел на улицу, намереваясь отправиться к адвокату.
Но едва он вышел из подъезда, как три извозчика, завидев светлое пальто и белую шляпу, поспешили осадить лошадей. Один въехал дышлом в соседнюю пролетку с откинутым верхом, а третий, желая обогнать первых двух, едва не задавил грузчика, тащившего тяжелый шкаф. Поднялась суматоха, драка, в ход пошли кнуты, засвистели полицейские, собралась толпа – и в результате двое особенно горячих сами отвезли себя в участок в собственных экипажах.
«Дурная примета, – подумал Вокульский и вдруг хлопнул себя по лбу. – Ну и хорош же я! Поручаю адвокату купить для меня дом, а сам не знаю, ни каков он с виду, ни даже, где находится!»
Он вернулся к себе и, как был, в шляпе, с тростью под мышкой, стал перелистывать адрес-календарь. По счастью, он слышал, что дом Ленцких находится где-то возле Иерусалимской Аллеи; прошло все же несколько минут, пока он отыскал в календаре улицу и номер дома.
«Отлично бы я зарекомендовал себя перед адвокатом, – думал он, спускаясь по лестнице. – Убеждаю людей вверить мне свои капиталы, а сам покупаю кота в мешке. Конечно, я бы сразу скомпрометировал себя или… панну Изабеллу».
Он вскочил в проезжавшую пролетку и приказал ехать к Иерусалимской Аллее. На углу он отпустил извозчика и свернул в одну из боковых улиц.
День был прекрасный, на небе ни облачка, на мостовой ни пылинки. Во многих домах окна были уже раскрыты, тут и там их только принимались мыть; игривый ветерок раздувал юбки у горничных, причем можно было заметить, что варшавская прислуга охотнее решается мыть окна в четвертом этаже, чем собственные ноги. Из квартир доносились звуки рояля, со дворов – дребезжание шарманки, монотонные выкрики старьевщиков, разносчиков песка, лоточников и тому подобных предпринимателей. Кое-где у ворот зевал дворник в синей рубахе; несколько собак носились по пустынной мостовой; тут же забавлялись ребятишки, сдирая кору с молодых каштанов, на которых еще не успела потемнеть нежная зелень.
Вообще улица казалась чистенькой, спокойной и веселой. В конце ее даже виднелся клочок неба и купа деревьев; но этот сельский пейзаж, столь чужеродный в Варшаве, загораживали строительные леса и высокая кирпичная стена.
Вокульский шел правой стороной улицы и уже издали заметил слева дом пронзительно-желтого цвета. Варшава отличается обилием желтых домов; пожалуй, это самый желтый город под солнцем. Однако этот дом был желтее всех остальных и наверняка получил бы первый приз на выставке желтых предметов (которая, несомненно, будет устроена в свое время).
Подойдя ближе, Вокульский убедился, что не только он обратил внимание на этот особенный дом; даже псы оставляли тут свои визитные карточки чаще, чем у других стен.
– Черт побери! – выругался он. – Кажется, это он и есть.
Действительно, это был дом Ленцких. Вокульский принялся разглядывать его. Дом был четырехэтажный, с железными балконами, причем каждый этаж был построен в другом стиле. Зато в архитектуре ворот царил единый мотив – веер. Верхняя часть ворот имела форму раскрытого веера, которым могла бы обмахиваться допотопная великанша. На обеих створках виднелись огромные резные прямоугольники, углы которых также были украшены полураскрытыми веерами. Однако главным и самым ценным украшением ворот были выступавшие в центре обеих створок литые шляпки гвоздей таких исполинских размеров, словно именно эти гвозди прикрепляли ворота к дому, а дом к городу.
Подлинную достопримечательность представляла собой подворотня с прогнившим настилом, но зато с живописными ландшафтами по стенам. Там было столько холмов, лесов, скал и потоков, что обитатели дома смело могли никуда не выезжать на лето.
Двор, со всех сторон замкнутый четырехэтажными флигелями, напоминал дно широкого колодца и источал благоухания. В каждом углу было по двери, а в одном из них – две; под окном дворницкой находился мусорный ящик и водопроводный кран.
Вокульский мимоходом заглянул в главный подъезд, куда вели застекленные двери. Лестница была очень грязная, зато рядом с нею, в нише, красовалась нимфа с кувшином над головой и с отбитым носом. Лицо у нимфы было желтое, грудь зеленая, ноги голубые, а кувшин малиновый, ибо, как нетрудно было догадаться, каменная дева стояла против окна с разноцветными стеклами.
– Ну-ну! – буркнул Вокульский тоном, не выражавшим особого восхищения.
В эту минуту из правого флигеля вышла красивая молодая женщина с маленькой девочкой.
– Теперь, мамочка, мы пойдем в сад? – спросила девочка.
– Нет, родненькая. Сейчас мы пойдем в магазин, а в сад после обеда, – ответила дама очень приятным голосом.
Это была высокая шатенка с серыми глазами и классически правильными чертами лица. Они взглянули друг на друга и дама покраснела.
«Откуда я ее знаю?» – подумал Вокульский, выходя на улицу.
Дама оглянулась, но, заметив, что он смотрит на нее, отвернулась.
«Да, – думал он, – я видел ее в апреле у гроба господня, а потом в магазине. Жецкий даже обращал на нее мое внимание, особенно на ее прелестные ножки. Действительно, хороши».
Он опять вошел в подворотню и принялся читать список жильцов.
«Что? В третьем этаже баронесса Кшешовская? Что, что?.. В левом флигеле, во втором этаже – Марушевич? Интересное совпадение! В четвертом этаже студенты… Кто же эта красавица? В правом флигеле, во втором этаже – Ядвига Мисевич, пенсионерка, и Элена Ставская с дочерью. Наверное, она».
Он вошел во двор и стал смотреть по сторонам. Почти везде окна были раскрыты. В заднем флигеле внизу была прачечная, именовавшаяся «Парижской»; с четвертого этажа доносился стук сапожного молотка, пониже на карнизе ворковала пара голубей, а в третьем этаже того же флигеля уже некоторое время раздавались размеренные звуки рояля и чье-то визгливое сопрано выводило гамму:
– А!.. а!.. а!.. а!.. а!.. а!.. а!.. а!..
Вокульский услышал, как высоко над его головою, в четвертом этаже, громкий бас проговорил:
– Ох! Опять она приняла «куссин». Из нее уже полез солитер… Марыся! Иди же скорее сюда!
Одновременно из окна третьего этажа высунулась женская голова и закричала:
– Марыся!.. Сию минуту ступай домой… Марыся!
– Честное слово, это Кшешовская! – сказал Вокульский.
В ту же секунду он услышал подозрительное журчанье: струя воды с четвертого этажа обдала высунувшуюся голову Кшешовской и расплескалась по двору.
– Марыся! Иди сюда! – призывал бас.
– Негодяй! – закричала Кшешовская, задирая голову.
Новая струя воды, хлынувшая из верхнего окна, вынудила ее замолчать. Одновременно оттуда высунулся чернобородый молодой человек и, заметив отпрянувшую физиономию Кшешовской, воскликнул великолепным басом:
– Ах, это вы, сударыня? Простите, пожалуйста… Ему ответили судорожные рыдания из квартиры Кшешовской:
– О, я несчастная! Готова поклясться, что это он, негодяй, натравил на меня этих бандитов… Так он меня благодарит за то, что я вытянула его из нужды!.. Купила его лошадь!..
Тем временем внизу прачки стирали белье, в четвертом этаже стучал молотком сапожник, а в третьем – бренчал рояль и раздавалась визгливая гамма:
– А!..а!.. а!.. а!.. а!.. а!.. а!.. а!..
– Веселенький дом, нечего сказать, – пробормотал Вокульский, стряхивая с рукава капли воды.
Он вышел на улицу, еще раз осмотрел недвижимость, хозяином которой собирался стать, и свернул в Иерусалимскую Аллею. Там он нанял извозчика и поехал к адвокату.
В передней адвоката Вокульский застал нескольких оборванных евреев и старуху, повязанную платком. В открытую дверь налево можно было видеть шкафы, набитые папками, трех делопроизводителей, что-то усердно строчивших, и несколько посетителей, по виду мещан, из которых у одного была физиономия определенно преступная, а у остальных – скучающие.
Посетителей встречал старый седоусый лакей с недоверчивым взглядом. Сняв с Вокульского пальто, он спросил:
– У вас, ваше благородие, длинный разговор?
– Нет, короткий.
Он ввел Вокульского в залу направо.
– Как прикажете доложить?
Вокульский дал ему визитную карточку и остался один. В зале стояла мебель, крытая малиновым бархатом, как в вагонах первого класса, было здесь также несколько резных шкафов с роскошно переплетенными книгами, которых, по-видимому, никто никогда не читал, а на столе – иллюстрированные журналы и альбомы, которые, по-видимому, разглядывали все. В углу стояла гипсовая статуя богини Фемиды с медными весами и грязными коленками.
– Пожалуйте, – пригласил его слуга, приоткрыв дверь.
В кабинете знаменитого адвоката он увидел обитую коричневой кожей мебель, коричневые занавески на окнах и коричневые узоры на обоях. Сам хозяин был в коричневом сюртуке и держал в руке предлинный чубук, оправленный наверху в необычайно массивный янтарь с перышком.
– Я был уверен, милостивый государь, что сегодня увижу вас у себя, – сказал адвокат, пододвигая ему кресло на колесиках и расправляя ногой завернувшийся уголок ковра. – Два слова, – продолжал он, – относительно вкладов в нашу компанию: мы можем рассчитывать тысяч на триста. А что к нотариусу мы пойдем не мешкая и соберем все наличные до последней копейки – в этом уж можете положиться на меня…
Он подчеркивал голосом особо важные слова, пожимая Вокульскому локоть и искоса наблюдая за ним.
– Ах да… торговое общество!.. – повторил клиент, опускаясь в кресло.
– Это уж их дело, сколько они соберут наличными.
– Ну, все-таки капитал… – заметил адвокат.
– С меня хватит и своего.
– Это знак доверия…
– Мне достаточно собственного.
Адвокат замолчал и принялся сосать трубку.
– У меня к вам просьба, – сказал, помолчав, Вокульский.
Адвокат уставился на него, стараясь отгадать, в чем заключается эта просьба, ибо от характера ее зависело, как надлежало слушать. Очевидно, он не обнаружил ничего угрожающего, так как физиономия его приняла серьезное, но вполне дружелюбное выражение.
– Я хочу купить дом, – сказал Вокульский.
– Уже? – спросил адвокат, подняв брови и наклонив голову. – Поздравляю, от души поздравляю. Торговый дом не зря называется домом. Собственный дом для купца – то же, что стремя для всадника: он увереннее держится в делах. Коммерция, не опирающаяся на такую реальную основу, как дом, – это просто мелочная торговля. О каком же здании идет речь, если только вам угодно почтить меня своим доверием?
– На днях продается с аукциона дом пана Ленцкого…
– Знаю, – прервал адвокат. – Постройка основательная, только деревянные части следовало бы постепенно заменить новыми; позади сад… Баронесса Кшешовская даст до шестидесяти тысяч рублей, конкурентов, наверно, не будет, так что мы купим, самое большое, за шестьдесят тысяч.
– Да хоть и за девяносто или еще дороже, – сказал Вокульский.
– Зачем? – подскочил в кресле адвокат. – Баронесса больше шестидесяти тысяч не даст, сейчас никто домов не покупает… Дело совсем неплохое.
– Для меня оно будет неплохим даже за девяносто тысяч…
– Но за шестьдесят пять лучше…
– Я не хочу обижать моего будущего компаньона.
– Компаньона?.. – вскричал адвокат. – Да ведь почтенный пан Ленцкий окончательный банкрот; вы просто повредите ему, заплатив лишние несколько тысяч. Я знаю, как его сестра, графиня, смотрит на это дело… Как только у пана Ленцкого не останется за душой ни гроша, его прелестная дочка, которую мы все обожаем, выйдет за барона или за предводителя…
У Вокульского так дико блеснули глаза, что адвокат умолк. Он пристально поглядел на своего гостя, подумал… и вдруг хлопнул себя по лбу.
– Скажите, почтеннейший, – спросил он, – вы твердо решили дать девяносто тысяч за эту развалину?
– Да, – глухо ответил Вокульский.
– Девяносто минус шестьдесят… приданое панны Изабеллы… – пробормотал адвокат. – Ага!
Физиономия и вся его повадка до неузнаваемости изменились. Он выпустил из трубки целое облако дыма, развалился в кресле и, успокаивающе помахивая рукой, заговорил:
– Мы друг друга понимаем, пан Вокульский. Признаюсь, я еще пять минут назад подозревал вас – сам не знаю в чем, ибо дела ваши чисты. Но сейчас, верьте мне, вы имеете в моем лице доброжелателя и… союзника.
– Теперь я вас не понимаю, – тихо проговорил Вокульский, опуская глаза.
На щеках у адвоката выступил кирпичный румянец. Он позвонил, вошел слуга.
– Не впускать сюда никого, пока я не позвоню.
– Слушаюсь, ваша милость, – отвечал угрюмый лакей.
Они снова остались вдвоем.
– Пан Станислав, – начал адвокат. – Вы знаете, что такое наша аристократия и ее присные… Это несколько тысяч людей, которые тянут соки из страны, мотают деньги за границей, привозят оттуда наихудшие привычки, заражают ими наши якобы здоровые средние классы и сами безнадежно гибнут: экономически, физиологически и морально. Если б удалось заставить их работать, если б скрестить их с другими слоями общества… может, получилось бы что-нибудь дельное, поскольку организация их, несомненно, тоньше нашей. Вы понимаете… скрестить, но… не швырять тридцать тысяч рублей на то, чтобы поддержать их. Так вот, в скрещивании я берусь вам помочь, но транжирить тридцать тысяч – нет, в этом я вам не помощник!
– Я вас совершенно не понимаю, – тихо возразил Вокульский.
– Понимаете, только не хотите довериться мне. Недоверчивость – это великое достоинство, и я не стану вас лечить от нее. Скажу вам только одно: Ленцкий-банкрот может… породниться даже с купцом, в особенности если он дворянин. Но Ленцкий с тридцатью тысячами в кармане…
– Сударь, – прервал его Вокульский, – возьметесь ли вы от моего имени участвовать в аукционе?
– Возьмусь, но свыше того, что предложит Кшешовская, дам не более трех – пяти тысяч. Вы меня извините, но сам с собою я торговаться не могу.
– А если найдется третий претендент?
– Что ж! В таком случае, я и его оставлю позади, чтобы удовлетворить ваш каприз.
Вокульский встал.
– Благодарю вас за откровенность, – сказал он. – Вы правы, но у меня есть свои соображения. Деньги принесу вам завтра… А сейчас – до свиданья.
– Жаль мне вас, – отвечал адвокат, пожимая ему руку.
– Почему же?
– Видите ли, я твердо знаю, что если человек хочет чего-нибудь добиться, он должен победить, придушить противника, а не кормить его из собственной кладовой. Вы совершаете ошибку, которая вас не приблизит, а скорее отдалит от цели.
– Вы ошибаетесь.
– Романтик, романтик! – с улыбкой повторял адвокат.
Вокульский поспешно покинул дом адвоката и, сев в пролетку, велел ехать на Электоральную. Он был расстроен тем, что адвокат проник в его тайну, и тем, что он осуждал его метод действия. Конечно, если хочешь достичь цели, нужно задушить противника; но ведь его добычей должна стать панна Изабелла!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































