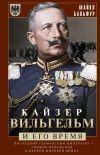Текст книги "Ориентализм"

Автор книги: Эдвард Саид
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Согласно Ренану, филологу следует предпочесть счастье – наслаждению (bonheur – jouissance): выбор, отражающий предпочтение возвышенного, пусть и бесплодного, счастья сексуальному удовольствию. Слова принадлежат к царству счастья-bonheur, так же как, в идеале, и изучение слов. Насколько мне известно, в публичных работах Ренана есть лишь несколько примеров того, как женщинам отводится благотворная и действенная роль. Один из них – это мнение Ренана по поводу того, что женщины-иностранки (сиделки, горничные) должны были наставлять детей норманнских завоевателей, и на этот счет можно было отнести произошедшие в языке изменения. Обратите внимание, до какой степени продуктивность и диссеминация являются не вспомогательными функциями, но скорее внутренним изменением, при этом вспомогательным. В конце эссе он пишет: «Мужчина не принадлежит ни своему языку, ни своему народу, он принадлежит лишь самому себе, поскольку прежде всего он существо свободное и моральное»[592]592
Renan. Des services rendus au sciences historiques par la philologie // Oeuvres complètes. Vol. 8. P. 1228, 1232.
[Закрыть]. Мужчина свободен и морален, но связан узами народа, истории и науки, как их понимал Ренан, обстоятельствами, накладываемыми на мужчину ученым.
Изучение восточных языков привело Ренана к самой сути этих обстоятельств, а филология сделала очевидным, что знание мужчины – перефразируя Эрнста Кассирера[593]593
Эрнст Кассирер (1874–1945) – немецкий философ и культуролог.
[Закрыть] – поэтически преображалось[594]594
Cassirer Ernst. The Problem of Knowledge: Philosophy, Science, and History since Hegel. Trans. William H. Woglom and Charles W. Hendel. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1950. P. 307.
[Закрыть] только в том случае, если его удавалось отделить от грубой реальности (подобно тому, как отделял арабские фрагменты от их реальности Саси) и затем поместить в смирительную рубашку доксологии. Став филологией, изучение слов – то, чем некогда занимались Вико, Гердер, Руссо, Мишле и Кине, – утратило свою предметную область и, как однажды сказал Шеллинг, способность к драматической презентации. Вместо этого филология превратилась в эпистемологический комплекс. Одного лишь Sprachgefühl (языкового чутья) было уже недостаточно, поскольку теперь сами слова в меньшей степени принадлежали к чувствам или телу (как это было у Вико), и в большей – к безвидному и не имеющему образа абстрактному царству, в котором правят такие искусственные понятия, как «народ», «сознание», «культура» и «нация». В дискурсивно заданной области под названием «Восток» (Orient) можно делать определенного рода утверждения, все – обладающие одинаково высоким уровнем обобщения и культурной основательностью. Все усилия Ренана были направлены на отрицание права восточной культуры быть сформированной как-либо иначе, нежели искусственным образом в филологической лаборатории. Человек – не дитя культуры, эту династическую концепцию филология слишком продуктивно ставит под сомнение. Филология учит, что культура – это конструкт, сборная конструкция (articulation; в том смысле, в каком Диккенс употреблял это слово для обозначения профессии мистера Венуса[595]595
В романе Диккенса мистер Венус – таксидермист и кукольник.
[Закрыть] в «Нашем общем друге»), даже творение, но во всяком случае – не более чем квазиорганическая структура.
Что особенно интересно в фигуре Ренана, так это то, насколько он осознавал себя порождением своего времени и своей этноцентричной культуры. Не упустив возможности академического отклика на речь, произнесенную Фердинандом де Лессепсом в 1885 году, Ренан заявил, что «печально быть мудрее, чем нация, к которой принадлежишь. ‹…› Невозможно испытывать чувство горечи к своей родине. Лучше заблуждаться вместе с нацией, чем быть правым с теми, кто сообщает ей суровую правду»[596]596
Renan. Réponse au discours de réception de M. de Lesseps (23 avril 1885) // Oeuvres complètes. Vol. 1. P. 817. Тем не менее насущная потребность быть настоящим современником своей эпохи прекрасно показана на примере Ренана в статье Сент-Бёва в июне 1862 г. См. также: Charlton Donald G. Positivist Thought in France During the Second Empire. Oxford: Clarendon Press, 1959, а также его: Secular Religions in France, и работу: Chadbourne Richard M. Renan and Sainte-Beuve // Romanic Review. April 1953. Vol. 44, no. 2. P. 126–135.
[Закрыть]. Это утверждение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Разве старик Ренан не утверждал раньше, что наилучшие отношения – это отношения равенства с культурой, ее моралью и ее этосом, а не династические отношения, в которых человек либо дитя своего времени, либо родитель? И здесь мы возвращаемся в лабораторию, поскольку именно там – как думал Ренан – заканчиваются сыновние и, в конечном счете, социальные обязанности, на смену которым приходят обязанности ученого и ориенталиста. Его лаборатория была платформой, с которой он, как ориенталист, обращался к миру: она опосредовала сделанные им заявления, придавала им уверенность, общую точность и постоянство. Таким образом, филологическая лаборатория, как ее понимал Ренан, переопределила не только его эпоху и его культуру, датируя и формируя их по-новому: она придала его восточному предмету научную согласованность и, более того, именно она превратила его (и ориенталистов, работавших в этой традиции позднее) в ту культурную фигуру Запада (Occidental), которой он стал. Мы вполне можем задаться вопросом, была ли эта новая автономия в пределах культуры той свободой, которую, как надеялся Ренан, принесет его филологическая ориенталистская наука, или, как полагает критичный историк ориентализма, она устанавливает сложную связь между ориентализмом и его предполагаемым человеческим предметом, которая в итоге строится на власти, а отнюдь не на беспристрастной объективности.
III
Пребывание на Востоке и наука: требования лексикографии и воображения
Взгляды Ренана на семитов как на представителей Востока в меньшей степени принадлежат области расхожих предрассудков и типичных проявлений антисемитизма и в большей – области научной ориентальной филологии. Читая Ренана и Саси, мы сразу же видим, как культурные обобщения облекают в броню научной аргументации и окружают вспомогательными исследованиями. Как и многие другие академические специальности на ранних фазах становления, современный ориентализм железной хваткой удерживал тот предмет исследований, который он себе определил. В процессе была выработана необходимая лексика, чьи функции и стиль помещали Восток в рамки компаративного исследования того рода, который использовал Ренан. Такой компаративизм редко носит описательный характер, гораздо чаще он одновременно оценочен и объяснителен. Вот пример типичного сравнения Ренана:
Очевидно, что во всех своих проявлениях семиты предстают перед нами как народ несовершенный по причине своей примитивности. Этот народ, смею прибегнуть к такой аналогии, относится к индоевропейской семье как карандашный набросок к живописному полотну, ему недостает разнообразия, размаха, изобилия жизни – тех условий, которые способствуют совершенствованию. Подобно индивидам, чьи жизненные силы настолько слабы, что, выйдя из миловидности детского возраста, они достигают только самой посредственной мужественности, семитские нации пережили свой наивысший расцвет на заре своего существования и так и не сумели достичь подлинной зрелости[597]597
Renan. Oeuvres complètes. Vol. 8. P. 156.
[Закрыть].
Эталоном здесь выступают индоевропейцы, как и тогда, когда Ренан говорит, что восточная восприимчивость семитов никогда не поднималась до высот, которых достигли индоевропейские народы (Indo-Germanic races).
Сказать с полной определенностью, стоит ли за подобным компаративным подходом научная необходимость или же этноцентрические расовые предрассудки, невозможно. Но можно утверждать, что они идут рука об руку и подкрепляют друг друга. И Ренан, и Саси пытались свести Восток к своего рода легкообозримой человеческой схеме, откуда изъята всё усложняющая многомерность человечества. В случае Ренана такой подход задавала сама филология, идеологические принципы которой побуждают сводить язык к его корням, после чего филолог считает возможным связать эти лингвистические корни с народом, характером и темпераментом у самых их истоков, как это делали Ренан и многие другие. Так, свою близость к Гобино Ренан оправдывал общностью позиций филологов и ориенталистов[598]598
Письмо к Гобино от 26 июня 1856 г.: Oeuvres complètes. Vol. 10, 203–204. Идеи Гобино представлены в его эссе: Gobineau. Essai sur l’inégalité des races humaines (1853–1855).
[Закрыть]. В последующих изданиях «Общей истории» он использовал некоторые работы Гобино. Таким образом, компаративизм в изучении Востока и восточных народов стал синонимом очевидного онтологического неравенства между Западом и Востоком (Occident and Orient).
Стоит кратко остановиться на основных чертах этого неравенства. Я уже упоминал об увлеченности Шлегеля Индией, сменившейся впоследствии отторжением – ее и, конечно же, ислама. Многие из ранних ориенталистов-любителей начинали с того, что видели в Востоке спасителей от повреждения (dérangement) европейского ума и духа. Восток превозносили за пантеизм, духовность, стабильность, древность, простоту и так далее. Шеллинг, например, видел в восточном политеизме предтечу иудеохристианского монотеизма: предшественником Авраама был Брахма. Однако почти без исключений подобное поклонение сменялось обратной реакцией: Восток вдруг представал ужасающе бесчеловечным, антидемократическим, отсталым, варварским и так далее. Маятник, отклонившись в одну сторону, стремительно возвращался обратно: Восток недооценивали. Ориентализм как профессия вырастал из этих крайностей, из компенсаций и поправок, основанных на неравенстве, из идей, питаемых и питающих аналогичные идеи в культуре в целом. Действительно, сам этот проект по ограничению и реструктурированию, связанный с ориентализмом, можно проследить непосредственно вплоть до того самого неравенства, посредством которого сравнительная бедность (или богатство) Востока требовала научного подхода, подобного тому, что существует в таких дисциплинах, как филология, биология, история, антропология, философия или экономика.
Настоящая профессия ориенталиста состояла в закреплении этого неравенства и порожденных им парадоксов. Чаще всего тот или иной человек приходил в эту профессию потому, что Восток влек его к себе, однако нередко его ориенталистская подготовка, так сказать, открывала ему глаза, и он оказывался перед лицом уже разоблаченного проекта, вследствие чего Восток утрачивал изрядную долю некогда привидевшегося исследователю величия. Чем еще можно объяснить, например, недюжинные усилия, предпринятые Уильямом Мьюром[599]599
Уильям Мьюр (1819–1905) – британский исламовед, колониальный администратор.
[Закрыть] или Райнхартом Дози, и их поразительную антипатию к Востоку, исламу и арабам? Характерно то, что Ренан был одним из тех, кто поддерживал Дози, так же как и Дози в своей четырехтомной работе «История мусульман Испании до завоевания Андалузии Альморавидами» (1861) использовал многие из антисемитских суждений Ренана, собрав их в 1864 году в один том, где утверждалось, что примитивный бог евреев – это вовсе не Яхве, а Баал[600]600
Баал – термин, использовавшийся для обозначения богов в древнем Леванте, в особенности бога грома Хадада. У иудеев данный термин получил отрицательную коннотацию и стал обозначать ложных божеств.
[Закрыть], и доказательства тому следует искать именно в Мекке. Работы Мьюра «Жизнь Магомета» (1858–1861) и «Халифат, его становление, закат и падение» (1891) до сих пор считаются достоверными научными памятниками, хотя свой подход к исследуемому предмету он отчетливо выразил в следующей фразе: «Меч Мухаммеда и Коран – самые непреклонные враги Цивилизации, Свободы и Истины, которых мир когда-либо знал»[601]601
Цит. по: Hourani Albert. Islam and the Philosophers of History. P. 222.
[Закрыть]. Множество подобных выражений можно найти в работе Альфреда Лайалла[602]602
Вероятно, подразумеваются труды Лайалла, как Asiatic Studies, Religious and Social: First Series, The Rise and Expansion of the British Dominion in India.
[Закрыть], одного из тех, кого одобрительно цитировал Кромер.
Даже если ориенталист осуждал предмет своего исследования в явной форме, как это делали Дози или Мьюр, принцип неравенства всё же оказывал на него влияние. Задачей профессионального ориенталиста было и оставалось создавать собирательный портрет, восстанавливать картину, реконструировать, так сказать, облик Востока и его народов. Фрагменты, как те, которые раскопал Саси, поставляют материал, но форму повествования, связность и образы конструирует сам исследователь, для которого наука состоит из попыток обойти непокорную (не-западную) не-историю (non-history) Востока при помощи упорядоченной хроники, портретов и сюжетов. Трехтомный труд Коссена де Персеваля «Очерк истории арабов до принятия ислама в эпоху Магомета» (три тома, 1847–1848) – это профессиональное исследование в полном смысле этого слова, оно опирается на источники – документы, введенные (made available internally) в научный оборот другими ориенталистами (и в первую очередь, конечно же, Саси), или документы, такие как тексты Ибн Халдуна[603]603
Ибн Халдун (XIV–XV вв.) – арабский философ, историк. В некоторых сообществах почитается как основоположник социальных наук.
[Закрыть], на которые Коссен ссылается особенно часто, хранящиеся в востоковедческих библиотеках в Европе. Тезис Коссена состоит в том, что именно Мухаммед сделал арабов народом, и потому ислам – это по преимуществу инструмент политический, а не духовный. Прежде всего то, к чему стремится Коссен, – это ясность посреди огромной массы противоречивой информации. И потому результатом исследования ислама является в буквальном смысле одномерный портрет Мухаммеда, представленный в конце книги (после того, как мы прочитали описание его смерти) с фотографической точностью[604]604
Caussin de Perceval. Essai sur l’histoire des Arabes avant l’Islamisme, pendant l’époque de Mahomet et jusqu’á la réduction de toutes les tribus sous la loi musulmane. 1847–1848; reprint ed., Graz, Austria: Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1967. Vol. 3. P. 332–339.
[Закрыть]. Не похожий ни на демона, ни на прототип Калиостро, Мухаммед Коссена – это человек, соответствующий истории ислама (его наиболее подходящей версии) как исключительно политического движения, чей образ выстроен при помощи бесчисленных цитат, которые ставят его над и в некотором смысле вне текста. Замысел Коссена состоял в том, чтобы не оставить о Мухаммеде ничего недосказанного. В результате Пророк предстает перед нами в искусственном свете, лишенный как своей огромной религиозной силы, так и любых следов способности внушать страх европейцам. Дело в том, что при этом Мухаммед как фигура, принадлежащая своему времени и месту, полностью стирается, от него остается лишь слабое подобие.
Близка Мухаммеду Коссена и не-профессиональная версия Мухаммеда (a Mohammed) у Карлейля, – Мухаммеда, принужденного подтверждать тезисы автора при полном игнорировании исторических и культурных обстоятельств времени и места жизни Пророка. Хотя Карлейль и цитирует Саси, его эссе явно плод работы автора, оспаривающего некоторые общие представления об искренности, героизме и миссии Пророка. Такой подход оказывается благотворным: Мухаммед предстает уже не как легенда и не как бесстыжий сластолюбец или потешный мелкий кудесник, приучавший голубей клевать горошины у него из ушей. Скорее, это человек трезвомыслящий и имеющий твердые убеждения, пусть и написавший Коран – «утомительное, бессвязное нагромождение, сырое и бездарное, полное бесконечных повторов, длиннот и путаницы; или, короче говоря, – сырую, бездарную, невыносимую глупость»[605]605
Carlyle Thomas. On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History. 1841; reprint ed. N. Y.: Longmans, Green & Co., 1906. P. 63.
[Закрыть]. И сам не являвший собой образец ясности и изящества стиля, Карлейль излагает всё это с целью уберечь Мухаммеда от применения к нему бентамовских стандартов[606]606
Возможно, имеются в виду утилитаристские принципы философа, в частности «принцип пользы», согласно которому, действия людей должны получать оценку по приносимой ими пользе.
[Закрыть], из-за которых в равной мере осудили бы обоих – и его, и Мухаммеда. И всё же Мухаммед Карлейля – это герой, перенесенный в Европу с того же самого варварского Востока, который лорд Маколей[607]607
Саид цитирует записку Маколея Minute Upon Indian Education, в которой критикуется идея перевода учебных материалов на арабский и санскрит во время обсуждения Образовательного акта 1835 г.
[Закрыть] счел неполноценным в своей знаменитой «Памятной записке» (1835), в которой он утверждал, что это «нашим местным подданным» следует учиться у нас, а не нам у них[608]608
Индийский опыт Маколея описан в работе: Trevelyan G. Otto. The Life and Letters of Lord Macaulay. N. Y.: Harper & Brothers, 1875. Vol. 1. P. 344–371. Полный текст «Записки» Маколея можно найти в книге: Curtin Philip D., ed. Imperialism: The Documentary History of Western Civilization. N. Y.: Walker & Co., 1971. P. 178–191. Некоторые следствия взглядов Маколея для ориентализма обсуждаются в работе: Arberry A. J. British Orientalists. London: William Collins, 1943.
[Закрыть].
Иными словами, и Коссен, и Карлейль уверяют нас, что о Востоке не следует и беспокоиться – столь неравнозначны достижения Европы и Востока. Здесь взгляды ориенталиста и неориенталиста совпадают. В пределах поля компаративистики, где ориентализм оказался после филологической революции начала XIX столетия, и вне него – в расхожих стереотипах или образах Востока, каким его представили философы вроде Карлейля, и стереотипах, подобных тем, что создавал Маколей, Восток сам по себе был интеллектуально подчинен Западу. Став материалом для изучения и рефлексии, Восток приобрел все признаки врожденной немощи. Он стал зависеть от капризов теоретиков, которые использовали его в качестве иллюстрации для собственных концепций. Кардинал Ньюмен – не самый крупный ориенталист – избрал в 1853 году восточный ислам темой своих лекций, оправдывавших вступление Британии в Крымскую войну[609]609
Имеется в виду History of the Turks in their Relation to Europe. Согласно исследованиям, Ньюмен был противником войны. Он предлагал свое видение разрешения «Восточного вопроса» в развитии «прогресса и цивилизации» в Османской Турции, которую он полагал частью Европы. Ислам, по его мнению, был важной составляющей духовной жизни Турции, предопределившей регресс этой империи.
[Закрыть], [610]610
Newman John Henry. The Turks in Their Relation to Europe. Vol. 1 // Historical Sketches. 1853; reprint ed., London: Longmans, Green & Co., 1920.
[Закрыть]. Кювье счел нужным упомянуть Восток в своей работе «Животное царство» (1816). Тему Востока к месту вставляли в беседы в различных парижских салонах[611]611
См.: Ancelot Marguerite-Louise. Salons de Paris, foyers éteints. Paris: Jules Tardieu, 1858.
[Закрыть]. Список ссылок, заимствований и изменений, обрушившихся на идею Востока, поистине необъятен, но в основе всех достижений ранних ориенталистов и того, что использовали западные неориенталисты, лежала одна и та же урезанная модель Востока, удобная для доминирующей культуры и ее теоретических (и вслед за теоретическими – практических) потребностей.
Иногда встречались и исключения – или, во всяком случае, более интересные и сложные варианты понимания этого неравного партнерства Востока и Запада. Анализируя в 1853 году владычество Британии в Индии, Карл Маркс ввел понятие «азиатская экономическая система»[612]612
В дискурсе советской науки использовалось обозначение «азиатский тип (способ) производства». Вопрос об этом типе всегда был поводом для дискуссий.
[Закрыть], но наряду с этим отметил, что обнищание народа было вызвано вмешательством в эту систему английских колонизаторов, их жадностью и неприкрытой жестокостью. От статьи к статье он возвращается к этой идее со всё растущей уверенностью в том, что, даже разрушая Азию, Британия создает там предпосылки для подлинной социальной революции. Стиль Маркса подталкивает нас к тому, чтобы мы, пусть и против воли, подавили в себе естественное возмущение, вызванное страданиями наших восточных собратьев, пока их общество в силу исторической необходимости подвергается насильственной трансформации.
Однако как ни печально с точки зрения чисто человеческих чувств зрелище разрушения и распада на составные элементы этого бесчисленного множества трудолюбивых, патриархальных, мирных социальных организаций, как ни прискорбно видеть их брошенными в пучину бедствий, а каждого из членов утратившим одновременно как свои древние формы цивилизации, так и свои исконные источники существования, – мы всё же не должны забывать, что эти идиллические сельские общины, сколь безобидными они бы ни казались, всегда были прочной основой восточного деспотизма, что они ограничивали человеческий разум самыми узкими рамками, делая из него покорное орудие суеверия, накладывая на него рабские цепи традиционных правил, лишая его всякого величия, всякой исторической инициативы… Вызывая социальную революцию в Индостане, Англия, правда, руководствовалась самыми низменными целями и проявила тупость в тех способах, при помощи которых она их добивалась. Но не в этом дело. Вопрос заключается в том, может ли человечество выполнить свое назначение без коренной революции в социальных условиях Азии. Если нет, то Англия, несмотря на все свои преступления, оказывается, способствуя этой революции, бессознательным орудием истории.
Но в таком случае, как бы ни было прискорбно для наших личных чувств зрелище разрушения древнего мира, мы имеем право воскликнуть вместе с Гёте:
Если мука – ключ отрады,
Кто б терзаться ею стал?
Разве жизней мириады Тамерлан[613]613
Амир Тимур (XIV–XV вв.) – центральноазиатский правитель, создатель трансрегиональной империи и основатель династии Тимуридов.
[Закрыть] не растоптал?[614]614
Маркс К. Британское владычество в Индии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 9. М., 1957. С. 135–136.
[Закрыть]
Приводимая Марксом в подтверждение тезиса о несущих в себе отраду мучениях цитата взята из «Западно-восточного дивана» и указывает на истоки представлений Маркса о Востоке. Это романтические и даже мессианские воззрения: как человеческий материал Восток менее важен, чем как элемент романтического проекта спасения. Экономический анализ Маркса прекрасно вписывается в стандартную ориенталистскую схему, хотя его гуманные чувства и сочувствие к страдающим людям тут присутствуют вполне отчетливо. В конце концов верх берет именно романтическое ориенталистское видение, и теоретические суждения Маркса по общественно-экономическим проблемам встраиваются в классический стандартный образ:
Англии предстоит выполнить в Индии двоякую миссию: разрушительную и созидательную, – с одной стороны, уничтожить старое азиатское общество, а с другой стороны, заложить материальную основу западного общества в Азии[615]615
Маркс К. Будущие результаты британского владычества в Индии // Там же. С. 225.
[Закрыть].
Идея возрождения безжизненной в основе своей Азии типична для романтического ориентализма, но слышать подобное из уст того же самого автора, который никак не может забыть о страданиях народа, совершенно обескураживающе. Прежде всего нам следовало задаться вопросом, каким образом у Маркса моральный знак равенства между потерями Азии и британским колониальным владычеством, которое он осуждает, превращается в знак неравенства между Востоком и Западом, о котором мы уже столько говорили? Во-вторых, нам следовало бы спросить: куда же подевалось человеческое сострадание, в какие чертоги разума оно удалилось, когда возобладал ориенталистский подход?
Сразу же становится очевидным, что ориенталисты, как и многие другие мыслители начала XIX века, смотрят на человечество сквозь призму либо широких собирательных понятий, либо абстрактных обобщений. Они не хотят и не могут исследовать отдельные личности: вместо этого в их сочинениях преобладают искусственные сущности, восходящие, по-видимому, к гердеровскому популизму. Для ориенталистов существуют только представители Востока – азиаты, семиты, мусульмане, арабы, евреи, только народы, типы ментальности, нации и тому подобное, причем некоторые из них – результат применения примерно тех же научных методов, с какими мы встречались в трудах Ренана. Точно так же и стародавние оппозиции «Европа» – «Азия», «Запад» – «Восток» (Occident and Orient) скрывают за своими чрезвычайно широкими ярлыками всё возможное человеческое многообразие, сводя его в итоге к одному или двум конечным собирательным абстрактным образам. И Маркс здесь не исключение. Ему тоже удобнее использовать для иллюстрации своей теории Восток собирательный, а не человеческие экзистенциальные идентичности. Между Востоком и Западом, как и в самосбывающихся пророчествах, имеют значение или существуют только широкие анонимные собирательные образы. Никакого другого типа обмена, пусть и самого ограниченного, под рукой нет.
То, что Маркс всё же мог испытывать хоть какое-то сочувствие к восточным собратьям и даже в чем-то отождествлять себя с позицией бедной Азии, говорит о том, что прежде, чем его сознание полностью затмили разного рода ярлыки, прежде чем он обратился к Гёте как источнику знаний о Востоке, что-то произошло. Похоже, нашелся хотя бы один человек (в данном случае – Маркс), которому удалось разглядеть своеобразие Азии еще до того, как оно скрылось за собирательными стереотипами и официозом, – и, разглядев, поддаться им овладевшим эмоциям, переживаниям, чувствам – лишь затем, чтобы впоследствии о нем забыть, столкнувшись с труднопреодолимой цензурой, воплощенной в самой лексике (vocabulary), которую он вынужден использовать. Эта цензура сначала приглушила, а затем и вовсе вытеснила сочувствие, сопроводив кратким объяснением: эти люди, – гласило оно, – не страдают, поскольку они – восточные люди, и относиться к ним следует иначе, чем к остальным. Прилив сентиментальности пропал, упершись в стену непоколебимых дефиниций, возведенную ориенталистской наукой и подкрепленную «восточными» преданиями (lore, вроде «Дивана»), призванную иллюстрировать выводы ученых. Словарь эмоций рассеялся, подчинившись лексикографическому полицейскому действию ориенталистской науки и даже ориенталистского искусства. Опыт подменяется словарной дефиницией: именно это и происходит в очерках Маркса об Индии – в конце концов что-то вынуждает его повернуть назад, к Гёте, и предпочесть покровительственное отношение и ориентализированный Восток.
Конечно, Маркса отчасти заботило подтверждение его собственной теории социально-экономической революции, но отчасти это было также обусловлено и тем, что в первую очередь ему были доступны многочисленные тексты, как внутренне консолидированные ориентализмом, так и инспирированные последним за пределами своего поля, контролировавшие любое высказывание о Востоке. В главе I я попытался показать, каким образом такой контроль был обусловлен историей европейской культуры со времен Античности. В этой же главе моей задачей было продемонстрировать, как в XIX веке формировались современная профессиональная терминология и практика, в дальнейшем определявшие дискурс Востока, и для ориенталистов, и для неориенталистов. Творчество Саси и Ренана было для нас примером того, каким образом ориентализм направлял ход развития корпуса текстов, с одной стороны, а с другой – восходящего к филологии процесса, наделившего Восток собственной дискурсивной идентичностью, отличной от Запада. Обратившись к Марксу в качестве примера того, как нормальные человеческие реакции неориенталиста были сначала развеяны, а затем и вытеснены ориенталистскими обобщениями, мы обнаружили, что имеем дело с присущей именно ориентализму лексикографической и институциональной консолидацией. Что же за действие неизменно приводит к тому, что в любой дискуссии о Востоке чудовищный механизм всеобъемлющих дефиниций предъявляет себя как единственно допустимый ее способ? А поскольку мы также должны показать, как именно данный механизм воздействует (причем весьма эффективно!) на личный опыт, который в любом ином случае должен был бы ему противоречить, нам необходимо также исследовать, куда он движется и какие формы он на этом пути принимает.
Задача это непростая, требующая комплексных усилий, по крайней мере столь же непростая и комплексная, как тот путь, на котором всякая становящаяся дисциплина выделяется на фоне конкурентов, ее традиции, методы и институты набирают вес, а ее заявления, институты и учреждения обретают культурную легитимность. Но мы можем в значительной мере упростить повествование, указав, какого типа опыт ориентализм обычно использовал для своих целей и представлял широкой непрофессиональной аудитории. В сущности, этот опыт того же рода, что мы рассматривали, говоря о Саси и Ренане. Но коль скоро эти ученые представляют ориентализм книжный – а ни тот ни другой никогда и не претендовали на знакомство с Востоком in situ[616]616
«На месте» (лат.). Прежде всего используется для обозначения положения. Например, артефакта, который не менял свое пространственное местоположение и воспринимается в контексте окружающей его культуры. Активно используется и в естественно-научных дисциплинах.
[Закрыть], – то существует и другая традиция, которая основывает легитимность своих построений на неотразимости факта реального пребывания на Востоке, экзистенциального контакта с ним. Анкетиль, Джонс и наполеоновская экспедиция – вот первые контуры этой традиции, и в дальнейшем они, несомненно, оказывали воздействие на всех пребывающих на Востоке европейцев. Эта традиция заключается в том, что власть там принадлежит именно европейцам: жить на Востоке – значит жить жизнью привилегированной, не такой, как все остальные граждане, жизнью представителя Европы, чья империя (французская или британская) держит Восток в своих руках, в военном, и в экономическом, и, что всего важнее, в культурном плане. Пребывание на Востоке и его плоды в виде научных исследований питают книжную традицию с ее текстуальными установками, которые мы видим у Ренана и Саси: эти два типа опыта общими усилиями породят необъятную библиотеку книг и научных трудов, которым никто, даже Маркс, не способен будет воспротивиться и влияния которых никому не удастся избежать.
Пребывание на Востоке означает личный опыт и до известной степени личные свидетельства. Их вклад в библиотеку ориентализма и его консолидацию зависит от того, насколько успешно опыт и свидетельства удается превратить из сугубо личностного документа в полноправные кодексы ориенталистской науки. Другими словами, в пределах текста должна была произойти своего рода метаморфоза из формы личного высказывания в официальное заявление. В записках о жизни на Востоке и восточном опыте европейцу необходимо было избавиться от всего автобиографического и снисходительного (или по крайней мере свести их к минимуму), заменив описаниями, которые служили бы ориентализму в целом и последующим поколениям ориенталистов в частности для того, чтобы набрасывать, строить и обосновывать свои научные наблюдения и описания. Так что, как мы видим, происходит еще более очевидное по сравнению с личными переживаниями Маркса превращение разных текстов в официальные ориенталистские утверждения.
Сейчас эта ситуация и богаче, и сложнее, поскольку на протяжении всего XIX века Восток, и в особенности Ближний Восток, был для европейцев излюбленным местом путешествий и темой литературных экзерсисов. Более того, возник крупный пласт европейской литературы в восточном стиле, часто основывавшийся на личном опыте путешествий. Первым на ум приходит, конечно, Флобер как выдающийся представитель такого рода литературы. За ним следуют еще три имени – Дизраэли, Марк Твен[617]617
В 1867 г. совершил путешествие в Европу и на Ближний Восток. Этому событию посвящена его книга The Innocents Abroad, or The New Pilgrims’ Progress. В 1890-е гг. совершил путешествие в разные части Британской империи, включая Индию. Эта поездка отражена в травелоге Following the Equator.
[Закрыть] и Кинглейк[618]618
Александр Уильям Кинглейк (1809–1891) – английский военный историк, писатель и путешественник.
[Закрыть]. Однако больший интерес представляет различие между тем письмом, которое конвертируется из личного по форме в профессионально ориенталистское, и письмом второго типа, также основывающемся на опыте пребывания на Востоке и на личных впечатлениях, но которое остается при этом всего лишь «литературой» и не претендует на научность, – именно этим различием я и намерен заняться.
Быть европейцем на Востоке всегда означало намеренно отличаться от других, быть не-равным своему окружению. Самое важное здесь – направленность этого намерения: какова его цель на Востоке? Зачем она нужна, особенно если, как в случае со Скоттом, Гюго и Гёте, европейцы устремляются на Восток за опытом вполне определенного рода, при этом на самом деле даже не покидая пределов Европы? В общем на ум приходят несколько категорий таких намерений. Первая: автор намеревается использовать свое пребывание на Востоке для того, чтобы собрать материал для ориенталистского исследования, и считает свое пребывание там формой научного наблюдения. Вторая: автор ставит перед собой сходные задачи, но не желает жертвовать при этом оригинальностью и стилем индивидуальных впечатлений в пользу безличных ориенталистских дефиниций. Последние всё равно проявляются в его работе, но лишь с большим трудом их удается отделить от индивидуальных особенностей стиля. Третья: автор, для которого реальное или метафорическое путешествие на Восток – результат осуществления глубокого внутреннего переживания проекта. А потому в основе его текста лежит личностная эстетика, взращенная и сформированная самим этим проектом. Во второй и третьей категориях значительно больше возможностей для проявления личностного – или по крайней мере не-ориенталистского, – чем в первой категории. Если взять, например, «Нравы и обычаи египтян в первой половине XIX в.» Эдварда Уильяма Лэйна в качестве выдающегося текста первой категории, работу Бёртона «Паломничество в Медину и Мекку» как пример для второй категории и «Путешествие на Восток» Нерваля – для третьей категории, различие в возможностях проявления авторского начала будет очевидным.
Однако несмотря на все различия, эти три категории не столь уж далеко отстоят друг от друга, как это могло показаться. Так, ни в одной категории не найдется ни одного «чистого» представителя типа. Во всех трех категориях работы опираются на чисто эгоистические силы, в центре которых – европейское сознание. Во всех случаях Восток существует для европейского наблюдателя и, что еще важнее, в той категории, к которой мы отнесли «Египтян» Лэйна, личность ориенталиста присутствует ничуть не меньше, пусть даже он и пытается это скрыть за отстраненным и безличным стилем письма. Более того, определенные мотивы постоянно повторяются во всех трех категориях. Первый из них – Восток как место паломничества. То же касается и представления о Востоке как о зрелище, или «живой картине» (tableau vivant). Конечно, любая из работ о Востоке в каждой из категорий стремится охарактеризовать это место, но что самое любопытное – это степень, в которой внутренняя структура работы равнозначна всеобъемлющей интерпретации (или ее попытке) Востока. Чаще всего, и это неудивительно, такая интерпретация представляет собой род романтического реструктурирования Востока, его пересмотр, воссоздающий его в назидание настоящему. Всякая интерпретация, всякая созданная для Востока структура – это его реинтерпретация, его перестраивание.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.