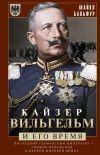Текст книги "Ориентализм"

Автор книги: Эдвард Саид
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Несколько раз я упоминал о связях ориентализма как корпуса идей, убеждений, клише или учений о Востоке (East) с другими направлениями мысли в культуре. Одним из важных направлений развития ориентализма в XIX веке было вычленение самых главных представлений о Востоке – его чувственности, склонности к деспотизму, странного образа мыслей, привычки к неточности, отсталости – в некое отдельное и не подвергаемое сомнению целое. Так, если писатель использовал слово «восточный», для читателя этого было уже достаточно, чтобы считать целый пласт информации о Востоке (Orient). Эта информация казалась в моральном отношении нейтральной и объективно достоверной. Казалось, она имеет эпистемологический статус, равный исторической хронологии или географическому местоположению. Основы этих представлений о восточном (Oriental material) невозможно было поколебать никаким открытием, и казалось, что они никогда не будут подвержены полному пересмотру. Напротив, труды различных ученых и литераторов XIX столетия сделали этот корпус главных знаний еще более прозрачным, более детализированным, более весомым и еще сильнее отличающимся от «оксидентализма». Идеи ориенталистов могли объединяться с общими философскими теориями (такими, как теории истории человечества и цивилизации) и расплывчатыми «концепциями мира», как их иногда называли философы; и профессиональные ориенталисты разными путями стремились выразить свои разработки и идеи, свои научные работы, наблюдения за текущим положением дел таким языком и в таких определениях, культурная достоверность которых проистекала из других наук и систем мысли.
То различение, которое делаю я, на самом деле разводит почти неосознаваемую (и определенно неприкасаемую) позитивность, которую я буду называть скрытым ориентализмом, и те разнообразные взгляды на восточное общество, языки, литературу, историю, социологию и так далее, которые я буду называть явным ориентализмом. Происходят ли изменения в знании о Востоке, это можно проследить почти исключительно в рамках явного ориентализма; единомыслие, стабильность и устойчивость скрытого ориентализма более-менее постоянны. Различия в представлениях о Востоке у тех авторов XIX века, труды которых я анализировал в главе II, можно охарактеризовать исключительно как явные – это различия в форме, персональном стиле и редко – в основном содержании. У каждого из них неизменным оставалось представление об отделенности Востока, его эксцентричности, отсталости, молчаливом безразличии, его женственной проницаемости, его вялости и податливости. А потому каждый писавший о Востоке – от Ренана до Маркса (говоря об идеологии) или от наиболее строгих ученых (Лэйн и Саси) до авторов с самым богатым воображением (Флобер и Нерваль) – видел в Востоке место, требующее внимания со стороны Запада, а также реконструкции и даже спасения. Восток существовал вне основного течения европейского прогресса в науках, искусствах и коммерции. И потому, приписывали ли Востоку хорошее или дурное, всё это неизменно оказывалось результатом узкоспециального интереса Запада к Востоку. Ситуация оставалась таковой примерно с 1870-х годов и вплоть до первых десятилетий XX века. Позвольте мне проиллюстрировать, что я имею в виду, несколькими примерами.
В начале XIX века представления об отсталости Востока, о его вырождении и неравенстве с Западом с легкостью соединялись с идеями о биологических основах расового неравенства. Так, классификации рас, которые можно найти в «Царстве животных» Кювье, «Очерке о неравенстве человеческих рас» Гобино и «Темных расах человечества» Роберта Нокса[756]756
Роберт Нокс (1791–1862) – шотландский анатом и этнограф.
[Закрыть], находили горячий отклик в скрытом ориентализме. К этим идеям следует отнести дарвинизм второго порядка, который, похоже, акцентировал «научную» достоверность деления рас на продвинутые и отсталые, или европейско-арийскую и ориентально-африканскую. Так, вопрос империализма в целом, как он виделся в конце XIX столетия и проимпериалистам, и антиимпериалистам, продвигал бинарную типологию развитых и отсталых (или подчиненных) рас, культур и обществ. В «Очерках о принципах международного законодательства» Джона Уэстлейка[757]757
Джон Уэстлейк (1828–1913) – английский юрист.
[Закрыть] (1894), например, утверждается, что те части земли, которые обозначены как «нецивилизованные» (слово, в котором среди прочего чувствуется груз ориенталистских посылок), должны быть присоединены или подчинены более развитыми державами. Точно так же в рассуждениях таких авторов, как Карл Петерс[758]758
Карл Петерс (1856–1918) – немецкий государственный деятель, колониальный администратор.
[Закрыть], Леопольд де Соссюр[759]759
Леопольд де Соссюр (1866–1925) – франко-швейцарский офицер военно-морского флота, синолог.
[Закрыть] и Чарльз Темпл[760]760
Чарльз Линдси Темпл (1871–1929) – британский дипломат и колониальный администратор.
[Закрыть], есть бинарная оппозиция «развитые/отсталые»[761]761
См.: Curtin Philip D., ed. Imperialism: The Documentary History of Western Civilization. N. Y.: Walker & Co., 1972. P. 73–105.
[Закрыть], проповедуемая ориентализмом XIX века.
Наравне с другими народами, на все лады описываемыми как отсталые, выродившиеся, нецивилизованные и недоразвитые, на восточных людей смотрели сквозь призму биологического детерминизма и морально-политического наставления. Так, восточные народы связывали с теми группами западного общества (преступники, сумасшедшие, женщины, нищие), общей особенностью которых была достойная сожаления чужеродность. На восточные народы редко обращали внимание, обычно смотрели сквозь них и анализировали не как граждан и даже не как народ, но как проблемы, которые надо либо решить, либо устранить, либо – коль скоро колониальные державы открыто жаждали заполучить их территории. Само по себе обозначение чего-либо как «восточного» сразу подразумевает готовое оценочное суждение, а в случае народов, которые населяли дряхлевшую Османскую империю, еще и негласную программу действий. Раз уж восточный человек принадлежит к числу подчиненных народов (subject race), то его следует подчинить: всё было вот так просто. Классический пример[762]762
Locus classicus (лат.).
[Закрыть] подобного рода суждений можно найти в работе «Психологические законы эволюции народов» (1894) Гюстава Лебона[763]763
Гюстав Лебон (1841–1931) – французский психолог, историк и антрополог.
[Закрыть].
Было у скрытого ориентализма и другое применение. В то время как эта группа идей позволяла отделить восточные народы от развитых, несущих цивилизацию держав, а «классический» Восток служил оправданием ориенталисту в его пренебрежении Востоком современным, скрытый ориентализм способствовал утверждению своеобразной (если не сказать вопиющей) мужской концепции мира. Я уже упоминал об этом, рассуждая о Ренане. Восточного мужчину рассматривали отдельно от того общества, в котором он жил и на которое многие ориенталисты, следуя путем Лэйна, смотрели со смесью презрения и страха. Сам ориентализм также был исключительно мужской сферой. Как и у многих других профессиональных объединений Нового времени, его взгляд на самого себя и свой предмет был ограничен сексистскими шорами. Это особенно хорошо видно в заметках путешественников и литераторов: женщины обычно предстают как порождение фантазий о мужской власти. Они демонстрируют свою безграничную чувственность, они более или менее глупы и, кроме того, на всё согласны. Кучук Ханем Флобера – прототип для такого рода карикатур, которые были достаточно обыкновенными для порнографических романов (например, «Афродита» Пьера Луиса[764]764
Пьер Луис (1870–1925) – французский поэт-модернист.
[Закрыть]), и чья необычность демонстрирует Восток, соответствующий подобным интересам. Более того, мужская концепция мира в ее воздействии на практиков от ориенталистики имеет тенденцию быть статичной, замороженной, зафиксированной навечно. Для Востока и восточного человека отрицается сама возможность развития, трансформации, человеческого движения – в самом глубоком смысле этого слова. Известные и совершенно неподвижные и непродуктивные черты, они в итоге стали ассоциироваться с наихудшим родом вечности: с тех пор даже желая сказать о Востоке что-то одобрительное, говорят о «мудрости Востока (East)».
Перенесенный из области неявной социальной оценки на культуру в целом, этот статичный мужской ориентализм в конце XIX века принимает различные формы, особенно когда речь заходит об исламе. Даже такие уважаемые историки культуры, как Леопольд фон Ранке и Якоб Буркхардт, критиковали ислам, как будто это не столько антропоморфная абстракция, сколько религиозно-политическая культура, в отношении которой возможны и оправданны серьезные обобщения. В своей «Всемирной истории» (1881–1888) Ранке говорит, что ислам потерпел поражение от германо-романских народов, а Буркхардт в своих неопубликованных заметках «Исторические фрагменты» (1893) называет ислам жалким, пустым и ничтожным[765]765
См.: Fück Johann W. Islam as an Historical Problem in European Historiography since 1800 // Historians of the Middle East / Eds Bernard Lewis and P. M. Holt. London: Oxford University Press, 1962. P. 307.
[Закрыть]. Подобные же интеллектуальные операции проделывает – гораздо своеобразнее и увлеченнее – Освальд Шпенглер, чьи идеи по поводу «магической личности» (типичным представителем которой является мусульманин Востока) широко представлены в «Закате Европы» (1918–1922) и в развиваемой в книге идеи «морфологии» культур[766]766
Для дискурса Шпенглера важным элементом является совмещение достижений естественнонаучных отраслей науки и гуманитарного знания. Он обращает внимание на существование двух типов жизни: растений (выразителей времени – они движутся по одному линейному циклу) и животных (выразителей пространства). Человек совмещает обе эти характеристики, поскольку ему подчинено пространство и он осознает собственную смертность. Пространственный аспект приводит к появлению понятия «власть», а временной – «культура». Понятие «культура» у Шпенглера, скорее, связано с ощущением «тела» и отличается от понятия «дух» (разум): «Культура – это бесконечная протянувшаяся во времени череда попыток человека воплотить борьбу жизни и смерти в образах, символах, социальных, политических формах и так далее. Это попытка человека раскрыть саму сущность жизни и прожить ее осмысленным и неповторимым образом». Культуры не имеют связи между собой – они обособлены (отказ от универсализма). Всего существует восемь культур: египетская, индийская, вавилонская, китайская, «аполлоновская» (греко-римская), «магическая» (византийско-арабская), «фаустовская» (западноевропейская) и культура народов майя в Центральной Америке. Ожидалось исследователем и появление нового типа – русскосибирской культуры. Культуры, как и растения, проживают определенные циклы периодом около 1000 лет – от рождения до увядания. После смерти «культура» становится «цивилизацией» – статичной, закостенелой системой, расширяющейся не вглубь, а вширь (претензия на мировое господство). Греко-римская культура стала цивилизацией в эпоху эллинизма, «фаустовская» – в XIX в. Арабская культура, по его мнению, находится в подавленном состоянии, под доминированием европейской. Однако она не погибла и способна порождать новые формы и правила. Эта культура связана с замкнутостью пространства, символом которого становится пещера, и времени, к которому относится идея фатализма и связанности времен и ощущением чуда (отсюда особая роль иррационального – магии, эзотерики, пророчества).
[Закрыть].
Распространение подобных взглядов было следствием того, что в современной западной культуре Восток практически полностью отсутствовал как подлинно ощущаемая и переживаемая сила. По целому ряду очевидных причин Восток всегда находился в положении изгоя и одновременно – присоединенного слабого партнера Запада. Знания западных исследователей о современных народах Востока или направлениях восточной мысли и культуры воспринимались ими как безмолвные тени, в которые ориенталисту предстояло вдохнуть жизнь, придать реальность, или же как культурный и интеллектуальный пролетариат, необходимый лишь для пояснений востоковеда, для его выступления в роли верховного судьи, ученого человека, могучей культурной воли. Я хочу сказать, что в дискуссиях о Востоке Восток полностью отсутствует, в то время как ориенталист и его сообщение присутствуют всегда. Не стоит забывать, что присутствие ориенталиста и было вызвано фактическим отсутствием Востока. Подмена и замещение – так это следует называть – заставляет ориенталиста отчетливо уменьшить присутствие Востока в его работе, даже тогда, когда большая часть его жизни была посвящена его разъяснению и показу. Как еще объяснить научной мысли, которая связана с именами Юлиуса Велльхаузена[767]767
Юлиус Велльхаузен (1844–1918) – немецкий востоковед, исследователь авраамические религий.
[Закрыть] и Теодора Нёльдеке, и более того – с теми беспочвенными, огульными заявлениями, которые полностью дискредитируют предмет их исследования? Так, Нёльдеке мог в 1887 году заявить, что в результате своей ориенталистской деятельности он лишь утвердился в «невысоком мнении» о восточных (eastern) народах[768]768
Ibid. P. 309.
[Закрыть]. Как и Карл Беккер, Нёльдеке был грекофилом, любопытным образом демонстрировавшим свою любовь к Греции, выказывая явную неприязнь к Востоку, который, как бы то ни было, был предметом его научных штудий.
В своем чрезвычайно ценном и глубоком исследовании ориентализма «Ислам в зеркале Запада» Жак Ваарденбург[769]769
Жак Ваарденбург (1930–2015) – нидерландский религиовед, исследователь ислама.
[Закрыть] анализирует фигуры пятерых важных экспертов, формирующих образ ислама. Удачно использование Ваарденбургом образа зеркала как метафоры ориентализма конца XIX – начала XX века. В работе каждого из называемых выдающихся ориенталистов присутствует в высокой степени предубежденное – в четырех случаях из пяти даже враждебное – видение ислама, как если бы каждый из них видел в исламе отражение какой-то собственной слабости. Глубоко образованные ученые, каждый из которых обладал собственным неповторимым стилем, эти пятеро ориенталистов – пример всего лучшего и самого сильного в традиции ориентализма в период примерно с 1880-х годов и до межвоенного периода. Однако положительная оценка Игнацем Гольдциером терпимости ислама к другим религиям обесценивалась его неприязнью к антропоморфизму Мухаммеда и слишком поверхностным теологии и судебной практике ислама. Интерес Дункана Блэка Макдональда к исламскому благочестию и ортодоксии омрачен тем, что он считал еретическим христианством ислама. Изучение Карлом Беккером исламской цивилизации привело его к тому, что он рассматривал ее как плачевно неразвитую. Рафинированные исследования Христиана Снук-Хюргронье[770]770
Христиан Снук-Хюргронье (1857–1936) – нидерландский востоковед, советник колониальной администрации в Голландской Ост-Индии (ныне Индонезия).
[Закрыть], посвященные исламскому мистицизму (который он считал важнейшей частью ислама), вызвали его резкие суждения о калечащих ограничениях этого феномена. А беспримерная погруженность Луи Массиньона в вопросы мусульманской теологии, мистическую страсть и искусство поэзии сделала его на удивление нетерпимым к исламу за то, что он считал его непокаянным бунтом против идеи (божественного) воплощения. Явные различия в методах исследований кажутся менее важными, чем их консенсус в отношении ислама: скрытая ущербность[771]771
См.: Waardenburg Jacques. L’Islam dans le miroir de l’Occident. The Hague: Mouton & Co., 1963.
[Закрыть].
У исследования Ваарденбурга также еще одно достоинство: он демонстрирует общность интеллектуальной и методологической традиции этих ученых и их по-настоящему интернациональное единство. Уже со времен первого Ориенталистского конгресса 1873 года ученые, работающие в этой области, были осведомлены о работах друг друга и в полной мере ощущали присутствие своих коллег. Однако Ваарденбург недостаточно явно демонстрирует то, что большинство ориенталистов XIX столетия также были связаны друг с другом узами политики. Карьера Снук-Хюргронье развивалась прямиком от исследователя ислама до советника голландского правительства по делам мусульманских колоний в Индонезии; экспертиза Макдональда и Массиньона по вопросам ислама была востребована колониальными администрациями от Северной Африки и до Пакистана. Как отмечает Ваарденбург (очень коротко), именно эти пятеро ученых в итоге сформировали единый согласованный взгляд на ислам, оказавший обширное влияние на правительственные круги всего западного мира[772]772
Ibid. P. 311.
[Закрыть]. К наблюдениям Ваарденбурга следует добавить то, что эти ученые завершили и с наибольшей полнотой выразили существовавшую с XVI–XVII веков тенденцию относиться к Востоку не только как к смутной литературной проблеме, но, как выразился Массон-Урсель[773]773
Поль Массон-Урсель (1882–1956) – французский философ и востоковед, основоположник «сравнительной философии».
[Закрыть], как к «твердому намерению достаточно овладеть силой языков, чтобы проникать в нравы и мысли, чтобы вторгаться в сами тайны истории»[774]774
Masson-Oursel P. La Connaissance scientifique de l’Asie en France depuis 1900 et les variétés de l’Orientalisme // Revue Philosophique. July – September 1953. Vol. 143, no. 7–9. P. 345.
[Закрыть].
Ранее я уже говорил о присоединении и ассимиляции Востока и как об этом писали такие разные авторы, как Данте и д’Эрбело. Очевидно, существует разница между этими трудами и тем, во что к концу XIX столетия превратилось это поистине удивительное культурное, политическое и материальное европейское предприятие. В XIX веке колониальная «схватка за Африку», конечно, не ограничивалась лишь Африкой. Точно так же, как и проникновение на Восток не было внезапным и резким решением после многих лет научного исследования Азии. То, с чем нам приходится считаться, – чрезвычайно долгий и медленный процесс апроприации, в ходе которого Европа или европейское понимание Востока поменялось и из текстуального и созерцательного стало административным, экономическим и военным. Основные изменения коснулись пространства и географии, или, скорее, характера географического и пространственного восприятия Востока. Многовековое обозначение географического пространства к востоку от Европы как «восточного» было отчасти политическим, отчасти догматическим, отчасти воображаемым; для этого не требовалось никакой связи с реальным опытом на Востоке или знания о нем, и уж, конечно, ни у Данте, ни у д’Эрбело в их заявлениях о Востоке не было притязаний ни на что, кроме как на то, что они опирались на длительную научную традицию, а не на жизнь. Но когда Лэйн, Ренан, Бёртон и сотни европейских путешественников и ученых XIX века говорят о Востоке, мы немедленно отмечаем гораздо более личное и в чем-то собственническое отношение к Востоку и восточному. В его классической и зачастую сильно удаленной по времени форме, в которой его реконструировали ориенталисты, или же в действительной форме, в какой современный Восток существовал и в какой его изучали или воображали, географическое пространство Востока подвергалось вторжению, переработке, захвату. Накопительный эффект такого западного подхода превратил Восток из чужого в колониальное пространство. В конце XIX века самым важным было не то, удалось ли Западу проникнуть на Восток и овладеть им, а то, каким образом англичане и французы воспринимали то, что они сделали.
На Востоке писатель-англичанин и еще в большей степени британский колониальный управленец имели дело с территорией, где не было никаких сомнений в господстве Британской державы, пусть местные жители, как казалось на первый взгляд, и склонялись к Франции и французскому образу мысли. Если говорить о реальном пространстве Востока, то как бы ни было, но Англия там действительно присутствовала, а вот Франция – нет, разве что в образе ветреной искусительницы восточных мужланов. Нет лучшего показателя этого качественного различия в подходах к пространству, чем слова лорда Кромера по поводу одного сюжета, особенно дорогого его сердцу:
Причины, по которым французская цивилизация представляется особенно притягательной для азиатов и левантийцев, просты. Она действительно привлекательнее, чем цивилизации Англии и Германии, и более того, ей гораздо легче подражать. Сравните сдержанного, робкого англичанина с его привычками держаться в обществе замкнуто и отстраненно с космополитичным живчиком-французом, которому неведомо значение слова «робость» и который уже через десять минут будет близким другом любому случайному знакомому. Полуобразованный восточный человек не осознает, что первому из них, во всяком случае, присуща добродетель искренности, тогда как последний зачастую просто разыгрывает роль. Он с прохладцей смотрит на англичанина и бросается в объятия француза.
Затем более или менее естественно начинаются сексуальные намеки. Француз – весь улыбка, остроумие, грация и мода, тогда как англичанин – нетороплив, прилежен, чтит Бэкона, точен. Кромер, конечно же, строит свои аргументы на британской основательности в противовес французской соблазнительности без каких-либо связей с реалиями Египта.
Разве удивительно [продолжает Кромер], что египтянин с его скудным интеллектуальным багажом не может разглядеть того, что зачастую в основе рассуждений француза лежит заблуждение или что он предпочитает поверхностный блеск француза прилежному неброскому трудолюбию англичанина или немца? Взгляните еще раз на теоретическое совершенство французской административной системы, со всеми ее продуманными деталями, направленными на то, чтобы предусмотреть любую возможную случайность. Сравните ее с практичной системой англичан, в которой установлены правила лишь для основных моментов, а всё прочее оставлено на личное усмотрение. Полуобразованный египтянин, естественно, предпочитает французскую систему, поскольку по всем внешним признакам она выглядит более совершенной и более простой в применении. Он не в состоянии разглядеть, что англичанин стремится разработать систему, которая бы соответствовала тому, с чем он имеет дело, в то время как основным возражением против применения французских административных порядков в Египте было то, что слишком часто реалии приходится подгонять под готовую систему.
Поскольку Англия действительно присутствовала в Египте и это присутствие – по Кромеру – было направлено не столько на то, чтобы тренировать ум египтянина, сколько на «формирование его характера», из этого следует, что эфемерная привлекательность французов сродни прелести хорошенькой девицы, обладающей «несколько неестественным шармом», тогда как англичанин похож на «рассудительную почтенную матрону, очевидно наделенную большими моральными достоинствами, но несколько менее привлекательной внешностью»[775]775
Baring Evelyn, Lord Cromer. Modern Egypt. N. Y.: Macmillan Co., 1908. Vol. 2. P. 237–238.
[Закрыть].
Подчеркнутое Кромером противопоставление солидной британской нянюшки французской вертихвостке – исключительная привилегия британца на Востоке. «Факты, с которыми ему [англичанину] приходится иметь дело», в целом сложнее и интереснее благодаря тому, что они имеют отношение к Англии, чем всё, на что мог бы указать переменчивый француз. Спустя два года после публикации своего «Современного Египта» (1908), Кромер философски разглагольствует в работе «Древний и современный империализм»: в сравнении с римским империализмом и его политикой, неприкрыто направленной на ассимиляцию, эксплуатацию и репрессии, британский империализм для Кромера предпочтительнее – в силу своей гибкости. Однако по некоторым вопросам англичане высказывались достаточно определенно, даже если в «смутной и небрежной, но характерно англосаксонской манере», их империя очевидно никак не могла решиться выбрать «один из двух принципов – широкомасштабную военную оккупацию или принцип национальной государственности [для подчиненных народов]». Но эта нерешительность носила в конце концов академический характер, поскольку на практике Кромер и сама Британия выбирали отказ от «принципа национальной государственности». Есть и еще ряд примечательных моментов. Первое: никто не собирался отказываться от империи. Второе: смешанные браки между местным населением и англичанами – мужчинами и женщинами – были нежелательными. Третье, и, как мне кажется, самое важное: Кромер считал, что британское имперское присутствие в восточных (eastern) колониях оказало долговременное, если не сказать разрушительное, воздействие на сознание и общество народов Востока (East). Он обращается к почти теологической метафоре для выражения этой мысли, так сильна в сознании Кромера была идея проникновения Запада на просторы Востока (Oriental expanses). «Страна, – говорит он, – над которой пронесся дух Запада, наполненный научной мыслью, и, проносясь, оставил неизгладимый след, уже никогда не сможет быть такой, как прежде»[776]776
Baring Evelyn, Lord Cromer. Ancient and Modern Imperialism. London: John Murray, 1910. P. 118, 120.
[Закрыть]. В таких вопросах, как эти, Кромер оказался, как бы там ни было, далек от оригинальности. То, что он говорил, и то, как он говорил, было общим местом в его кругах – как среди имперского истеблишмента, так и среди интеллектуалов. Этот подход разделяли и сослуживцы Кромера – Кёрзон[777]777
Джордж Натаниэл Кёрзон (1859–1925) – английский публицист и государственный деятель, министр иностранных дел и колониальный администратор.
[Закрыть], Светтенхэм[778]778
Александр Светтенхэм (1846–1933) – британский колониальный администратор.
[Закрыть] и Лугард[779]779
Фредерик Лугард (1858–1945) – британский колониальный администратор в Гонконге и Нигерии.
[Закрыть]. В частности, лорд Кёрзон всегда говорил на имперском лингва франка и еще более бесцеремонно, чем Кромер, описывал отношения между Британией и Востоком в терминах обладания, в терминах огромного географического пространства, находящегося в полной собственности деятельного колониального хозяина. Для него, как он сказал по случаю, империя – это не «предмет амбиции», но «в первую очередь великий исторический, политический и социологический факт». В 1909 году он напомнил участникам Имперской пресс-конференции в Оксфорде[780]780
Конференция, направленная на разработку проблемы обмена информацией между метрополией и колониями.
[Закрыть], что «мы готовим здесь и направляем к вам ваших правителей, администраторов и судей, ваших учителей, священников и юристов». И этот почти педагогический взгляд на империю имел, по Кёрзону, особое значение для Азии, которая, как он однажды выразился, «взяла паузу и размышляет».
Мне нравится иногда представлять себе великое имперское строение как гигантскую конструкцию наподобие теннисоновского «Дворца искусств»[781]781
Стихотворение британского поэта Альфреда Теннисона (1809–1892), в котором человек строит «Дворец искусств» для своей души, но она, однако, предпочитает отрешиться от общества в уединении (рефлексируя греховность попытки подражания Богу), а искусство оставить «массам».
[Закрыть], фундамент которого находится в этой стране, где он был заложен и поддерживать который следует руками англичан, где колонии – это колонны, и высоко надо всем этим парит необъятность купола Азии[782]782
Curzon George Nathaniel. Subjects of the Day: Being a Selection of Speeches and Writings. London: George Allen & Unwin, 1915. P. 4–5, 10, 28.
[Закрыть].
Так размышляя о теннисоновском Дворце искусств, Кёрзон и Кромер вместе были деятельными членами сформированного в 1909 году комитета департамента, призванного добиваться создания школы восточных исследований. Помимо замечаний о своем знакомстве с местными диалектами, которые он изучил во время своих «голодных путешествий» в Индию, Кёрзон утверждал, что восточные исследования – часть обязательств Британии перед Востоком. 27 сентября 1909 года он говорил в Палате лордов:
…наше знакомство не только с языками народов Востока, но и с их обычаями, чувствами, традициями, историей и религией, наша способность понимать то, что может быть названо гением Востока (East), и есть то единственное основание, на котором мы сможем удержать завоеванную нами позицию в будущем, и нет шагов, способных усилить эту позицию, которые не заслуживали бы внимания правительства Ее Величества или обсуждения в Палате лордов.
Позднее, на встрече в Мэншн-хауз[783]783
Mansion House – общественное здание в Лондоне, резиденция лорда-мэра. В этом здании проводятся официальные мероприятия, в частности выступления министров по вопросам международных отношений и экономического развития.
[Закрыть] по поводу длящейся уже пять лет войны, Кёрзон в заключение подчеркнул, что восточные исследования – это вовсе не интеллектуальная роскошь. Это, сказал он,
долг империи. По моему мнению, создание в Лондоне такой школы, как эта [школа восточных исследований, которая впоследствии стала Школой восточных и африканских исследований Лондонского университета[784]784
SOAS – один из крупнейших мировых центров изучения Азии и Африки.
[Закрыть]], является частью необходимого убранства империи. Те из нас, кто так или иначе провел несколько лет на Востоке, кто считает это время счастливейшим временем своей жизни и кто думает, что проделанная им там работа, большая или малая, – это величайшая ответственность, которая только может быть возложена на плечи англичанина, чувствуют, что существует пробел в нашем национальном снаряжении, который должен быть решительно заполнен, и что те, кто находится в лондонском Сити, кто принял участие, денежными средствами или иной действенной и практической помощью, в заполнении этого пробела, исполняют свой патриотический долг перед Империей, способствуют благому и добровольному делу для всего человечества[785]785
Ibid. P. 184, 191–192. О создании этой школы см.: Phillips C. H. The School of Oriental and African Studies. University of London, 1917–1967: An Introduction. London: Design for Print, 1967.
[Закрыть].
В значительной степени соображения Кёрзона об исследовании Востока обусловлены целым веком утилитарного британского управления и соответствующей философии в отношении восточных колоний. Влияние Бентама и Милля на британское правление на Востоке (особенно в Индии) было весьма значительным и помогло покончить с чрезмерной регламентацией и рационализацией. Вместо этого, как убедительно показал Эрик Стоукс[786]786
Эрик Стоукс (1924–1981) – историк, специалист по истории Южной Азии колониального периода.
[Закрыть], утилитаризм вкупе с наследием либерализма и евангелизма как философии британского правления на Востоке подчеркивал целесообразность сильной исполнительной власти, вооруженной законодательными и карательными кодексами, системой доктрин, связанной с границами и земельной рентой, а также повсеместным неослабевающим надзором имперских властей[787]787
Stokes Eric. The English Utilitarians and India. Oxford: Clarendon Press, 1959.
[Закрыть]. Краеугольным камнем всей системы было неустанно совершенствуемое знание о Востоке, чтобы по мере того, как традиционные общества устремляются вперед и превращаются в современные коммерческие общества, не утратить ни материнский контроль Британии, ни уменьшить ее доходы. Однако когда Кёрзон несколько неуклюже говорил об этом как о «необходимом убранстве Империи», он превращал в статичный образ те действия англичан и местных жителей, при помощи которых они вели свои дела и сохраняли свои места. Со времен сэра Уильяма Джонса Восток для Британии был одновременно тем, чем она управляла и, тем, что она о нем знала: слияние географии, знания и власти, с Британией в извечном положении господина, было полным. Фраза Кёрзона о том, что «Восток (East) – это университет, в котором ученый никогда не получит степени», была еще одним способом сказать, что Восток нуждался в чьем-то присутствии более или менее навсегда[788]788
Цит. по: Edwardes Michael. High Noon of Empire: India Under Curzon. London: Eyre & Spottiswoode, 1965. P. 38–39.
[Закрыть].
Однако были и другие европейские имперские державы, Франция и Россия в их числе, которые неизменно создавали угрозу (пожалуй, незначительную) британскому присутствию[789]789
В историографии значительное место занимает вопрос так называемой «Большой игры» – геополитического противостояния Великобритании и России в ряде субрегионов Азии, в особенности в Центральной Азии. Проблемы и противоречия этого понятия (в частности, указанный выше Саидом «незначительный» характер угрозы со стороны других держав для британской активности) привели к предложению доктора Александра Моррисона отказаться от «газетного штампа» как от бессмысленной метафоры.
[Закрыть]. Кёрзон определенно понимал, что все основные западные державы видели мир так же, как Британия. Превращение географии из «скучного и педантичного» занятия (фраза Кёрзона, описывающая то, что из географии как академического предмета полностью выпало) в «самую космополитичную из всех наук» очень точно отражает это новое и широко распространенное пристрастие Запада. В 1912 году, выступая на заседании Географического общества, президентом которого он являлся, Кёрзон не зря говорил:
…произошла безоговорочная революция, и не только в стиле и в методах преподавания географии, но также и в значении, которое придает ей общественное мнение. Ныне мы почитаем географическое знание как важную часть знания в целом. С помощью географии, и никаким иным образом, мы понимаем действие великих сил природы, распределение населения, рост торговли, расширение границ, развитие государств и блестящие достижения человеческой энергии в ее различных проявлениях. Мы считаем географию служанкой истории… География – наука сродни экономике и политике, и любому из нас, кто пытался изучать географию, известно, что как только вы отклоняетесь от области географии, то переступаете границы геологии, зоологии, этнологии, химии, физики и других близких наук. А потому мы вправе утверждать, что география – это одна из первостепенных наук: она является частью той оснастки, которая необходима для верного понимания гражданства и выступает неотъемлемым дополнением к созданию общественного человека[790]790
Curzon. Subjects of the Day. P. 155–156.
[Закрыть].
География была неотъемлемой материальной основой знания о Востоке (Orient). Все скрытые и неизменные характеристики Востока, его основы, коренились в географии. Так, с одной стороны, географический Восток кормил своих обитателей, был гарантом их характерных черт и определял их специфику; с другой стороны, географический Восток привлекал внимание Запада, даже если – согласно одному их тех парадоксов, что часто обнаруживает организованное знание, – Восток был Востоком, а Запад был Западом (East was East and West was West). Как считал Кёрзон, космополитизм географии имел первостепенное значение для всего Запада, чьи отношения с остальным миром строились на откровенной алчности. Тем не менее географические устремления могли принимать морально нейтральную форму эпистемологического импульса – выяснить, заселить, открыть – как в «Сердце тьмы», когда Марлоу[791]791
Марлоу – моряк, вспоминающий свое путешествие в Центральную Африку.
[Закрыть] признается в своей любви к географическим картам.
Я мог часами смотреть на Южную Америку, Африку или Австралию, совершенно забывая себя за радостями исследований. В то время на земле было немало неисследованных мест, и когда какой-нибудь уголок на карте казался мне особенно привлекательным (впрочем, привлекательными были они все), я указывал на него пальцем и говорил: «Когда я вырасту, я поеду туда»[792]792
Conrad Joseph. Heart of Darkness // Youth and Two Other Stories. Garden City, N. Y.: Doubleday, Page, 1925. P. 52.
[Закрыть].
За 70 лет или около того, как Марлоу это сказал, Ламартина совершенно не беспокоило, что у этих неисследованных территорий были жители, как ни о чем подобном даже в теории не помышлял Эмер де Ваттель, швейцарско-прусский специалист в области международного права[793]793
Эмер де Ваттель (1714–1767) – швейцарский юрист, автор труда «Право народов, или Принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов».
[Закрыть], который в 1758 году призывал европейские государства захватить территории, населенные кочевыми племенами[794]794
Этот показательный фрагмент из работы Ваттеля можно найти в: Curtin, ed., Imperialism. P. 42–45.
[Закрыть]. Важно было облагородить обыкновенное завоевание идеей, превратить тягу к обладанию географическим пространством в теорию об особого рода взаимоотношении между географией с одной стороны и цивилизованными и нецивилизованными народами – с другой. На это логическое обоснование повлияла и Франция в том числе.
Во Франции к концу XIX века политические обстоятельства и интеллектуальная атмосфера совпали таким образом, что география и географические спекуляции (в обоих смыслах этого слова) стали привлекательным национальным времяпровождением. Этому способствовал и общий общественный настрой в Европе: явный успех британского империализма достаточно громко говорил сам за себя. Как бы там ни было, Франции и французским мыслителям, занимавшимся этим вопросом, всегда казалось, что Британия мешает даже относительно успешной имперской роли Франции на Востоке. Накануне Франко-прусской войны[795]795
Франко-прусская война 1870 г. – военный конфликт между Францией и германскими государствами, во главе с Пруссией, ставший прологом к созданию единой Германии и появлению Третьей республики во Франции (на замену Второй империи).
[Закрыть] политическая мысль по «Восточному вопросу» была окрашена маловероятными ожиданиями – не только поэтов и писателей. Вот, например, текст Сен-Марка Жирардена[796]796
Сен-Марк Жирарден (1801–1873) – французский писатель и политик.
[Закрыть] в Revue des Deux Mondes от 15 марта 1862 года:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.