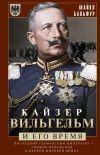Текст книги "Ориентализм"

Автор книги: Эдвард Саид
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
Репрезентации ориентализма в европейской культуре достигают того, что можно назвать дискурсивной непротиворечивостью, не только исторической, но и материальной (и институциональной). Как я уже упоминал в связи с Ренаном, подобная непротиворечивость – это форма культурной практики, системы возможностей для высказываний о Востоке. Мое видение этой системы не в том, что это неверное представление некой сущности Востока (в существование которой я никогда не верил), но в том, что эта система действует так, как обычно и действуют репрезентации: ради некоторой цели, в соответствии с определенной тенденцией, они действуют в специфическом историческом, интеллектуальном и экономическом окружении. Иными словами, у репрезентаций есть цели, большей частью времени они действенны и выполняют одну или несколько задач. Репрезентации – это формации, или, как Ролан Барт[961]961
Ролан Барт (1915–1980) – французский философ и семиотик.
[Закрыть] называл все действия в языке, деформации. Восток как европейская репрезентация сформирован – или деформирован, – исходя из всё растущей особой чувствительности к территории под названием «Восток» (East). Специалисты по этой территории делают, так сказать, свою работу потому, что их профессия как ориенталистов требует, чтобы они своевременно предъявляли обществу образ Востока (Orient), свои знания о Востоке и его понимание. В большой степени ориенталист дает своему обществу репрезентации Востока, которые: (а) несут на себе его характерный отпечаток, (б) иллюстрируют его концепцию того, каким Восток может или должен быть, (в) сознательно оспаривают чьи-либо еще взгляды на Восток, (г) снабжают ориенталистский дискурс тем, в чем он в данный момент нуждается, и (д) отвечают определенным культурным, профессиональным, национальным, политическим и экономическим потребностям эпохи. Становится очевидно, что позитивное знание, пусть до конца никогда не исчезая, роль здесь играет далеко не первостепенную. Напротив, «знание», которое никогда не бывает совершенно необработанным, непосредственным или просто объективным, – это то, что распределяется и перераспределяется между пятью перечисленными выше атрибутами ориенталистской репрезентации.
Под этим углом фигура Массиньона уже в меньшей степени напоминает образ мифологизированного «гения», но скорее его деятельность предстает своего рода системой по производству определенного рода утверждений, рассеянных по громадному массиву дискурсивных формаций, которые вместе составляют архив, или культурный слой своего времени. Не думаю, что мы сильно дегуманизируем Массиньона таким заявлением, равно как и не сводим его до уровня субъекта вульгарного детерминизма. Напротив, в определенном смысле перед нами человек, способности которого – в сфере культуры и в том, чем он непосредственно занимался и как он это развивал, – поднимались над средним уровнем человеческих возможностей, приобретая институциональный характер. И это, несомненно, именно то, к чему должен стремиться всякий смертный, если он не хочет довольствоваться лишь своим смертным уделом во времени и пространстве. Когда Массиньон говорит «мы все – семиты»[962]962
Nous sommes tous des Sémites (фр.).
[Закрыть], он указывает на масштаб своего замысла в отношении общества, демонстрируя, в какой мере Восток способен преодолевать местные и частные обстоятельства французского общества и даже самого француза. Категория «семитов» выросла из ориентализма Массиньона, но свою энергию она черпала из тенденции этой дисциплины к расширению границ, к выходу в более широкую область истории и антропологии, где, казалось, имела реальный смысл и силу[963]963
«Главенствующая фигура во всех видах [ориенталистской работы] – это Массиньон». Cahen, Claude and Peliat, Charles. Les Études arabes et islamiques // Journal asiatique. 1973. Vol. 261, no. 1, 4. P. 104. Очень тщательный обзор поля исламского ориентализма можно найти в работе: Sauvaget Jean. Introduction à l’histoire de l’Orient musulman: Éléments de bibliographie / Éd. Claude Cahen. Paris: Adrien Maisonneuve, 1961.
[Закрыть].
Безусловно, существовала определенная среда, где формулировки Массиньона и репрезентации Востока имели большое влияние и были безоговорочно верны, – круг профессиональных ориенталистов. Как я говорил выше, признание Гиббом заслуг Массиньона тесно связано с осознанием того, что его творчество следует рассматривать как альтернативу собственным работам Гибба. Конечно, те положения, которые я анализирую в некрологе, написанном Гиббом, – это намеки, а не развернутые сентенции, но они важны для сравнения собственной карьеры Гибба с карьерой Массиньона. Альберт Хурани[964]964
Альберт Хурани (1915–1993) – ливанский и британский историк.
[Закрыть] в своем мемориальном эссе о Гиббе для Британской академии (к которому я уже несколько раз обращался) удачно подводит итоги карьере ученого, его главным идеям и всему значимому в его творчестве. С оценкой Хурани в основных чертах я согласен. Однако кое-что в нем учтено не было; впрочем, этот недостаток отчасти восполняет другая, менее удачная работа о Гиббе – статья Уильяма Полка[965]965
Уильям Полк (1929–2020) – американский специалист-международник.
[Закрыть] «Сэр Гамильтон Гибб между ориентализмом и историей»[966]966
Polk William. Sir Hamilton Gibb Between Orientalism and History // International Journal of Middle East Studies. April 1975. Vol. 6, no. 2. P. 131–139. Я использовал список трудов Гибба в издании: Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A. R. Gibb / Ed. George Makdisi. Cambridge, Mass.; Harvard University Press, 1965. P. 1–20.
[Закрыть]. Хурани рассматривает фигуру Гибба скорее как сумму личного опыта, личных влияний, тогда как Полк, гораздо менее тонко понимающий творчество Гибба в целом, рассматривает последнего как кульминацию специфической академической традиции, которую (используя выражение, отсутствующее в работе Полка) можно назвать консенсусом академического сообщества, или парадигмой.
Прямо заимствованная из работ Томаса Куна[967]967
Томас Кун (1922–1996) – американский историк и философ науки. Имеется в виду книга «Структура научных революций», в которой, в частности, отмечается социологическая природа термина «парадигма» – как результата консенсуса научного сообщества.
[Закрыть], эта сентенция имеет непосредственное отношение к Гиббу, который, как напоминает нам Хурани, был во многом институциональной фигурой. Во всем, что Гибб делал или говорил с самого начала своей карьеры в Лондоне, на среднем ее этапе в Оксфорде и в период наибольшего своего влияния – на посту директора Гарвардского Центра исследований Среднего Востока, мы найдем несомненный отпечаток ума, с удивительной легкостью действующего в границах сложившихся институтов. Если Массиньон всегда был аутсайдером, то Гибб, напротив, всегда был инсайдером. Но, как бы то ни было, оба этих человека смогли достичь вершин успеха и влияния во французском и англо-американском ориентализме соответственно. Восток для Гибба был не просто местом, с которым можно было непосредственно соприкоснуться, но и тем, о чем читают, пишут, что изучают в научных обществах, университетах и на конференциях. Как и Массиньон, Гибб гордился своей дружбой с мусульманами, но они казались ему, как и Лэйну, друзьями скорее полезными, чем близкими. Таким образом, Гибб – это династическая фигура в пределах академических рамок британского (а позднее и американского) ориентализма, ученый, чья работа вполне сознательно демонстрировала национальные тенденции в академической традиции, сложившиеся в университетах, правительствах и исследовательских фондах.
Один из показателей этого – тот факт, что в зрелые годы Гибб часто писал и выступал для политически влиятельных организаций. Так, в 1951 году он опубликовал статью в книге под названием «Ближний Восток и великие державы», в которой попытался обосновать необходимость расширения англо-американских программ исследования Востока:
…ситуация в западных странах в их отношении к странам Азии и Африки поменялась. Мы уже более не можем полагаться на фактор престижа, игравший, как представляется, ведущую роль в довоенном мышлении, так же как мы больше не можем ожидать, что народы Азии и Африки придут к нам и будут у нас учиться, пока мы сидим сложа руки. Это мы должны изучать их для того, чтобы научиться работать с ними в таких отношениях, которые больше походят на взаимность[968]968
Gibb H. A. R. Oriental Studies in the United Kingdom // The Near East and the Great Powers / Ed. Richard N. Frye. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1951. P. 86–87.
[Закрыть].
Условия этих новых отношений были позже изложены в работе «Пересматривая регионоведение» (Area Studies Reconsidered). Ориентальные исследования следует понимать не столько как научную деятельность, но скорее как инструмент национальной политики в отношении недавно получивших независимость и, возможно, весьма несговорчивых наций постколониального мира. Ориенталист, вооруженный осознанием собственной значимости для Атлантического содружества, в новом формате должен был быть проводником для политиков, бизнесменов, нового поколения ученых.
Самым значимым в поздних взглядах Гибба стала не позитивная работа ориенталиста как ученого (например, такого ученого, каким в молодости был сам Гибб, когда изучал вторжения мусульман в Центральную Азию[969]969
Имеется в виду работа The Arab conquests in Central Asia (1923).
[Закрыть]), а возможность ее адаптировать к использованию в обществе. Об этом хорошо сказал Хурани:
…ему [Гиббу] стало ясно, что современные правительства и элиты действовали, не зная или отвергая собственные традиции общественной жизни и морали, и причины их неудач именно в этом. А потому его главные усилия были направлены на разъяснение путем тщательного изучения прошлого специфической природы мусульманского общества, его верований и культуры, лежащих в его основе. Но даже эту проблему поначалу он трактовал в политическом смысле[970]970
Hourani Albert. Sir Hamilton Gibb, 1895–1971 // Proceedings of the British Academy . 1972. Vol. 58. P. 504.
[Закрыть].
Однако такая позиция была бы невозможна без достаточно скрупулезной подготовки в прежних работах Гибба, и именно там нам следует искать ключ к пониманию этих идей. В кругу тех, кто оказал влияние на молодого Гибба, был Дункан Макдональд, из работ которого выросла концепция Гибба об исламе как жизненной системе, согласованность которой достигается не столько благодаря людям, ведущим эту жизнь, сколько благодаря самому учению, методам религиозной практики, идее порядка, охватывающей весь мусульманский народ. Контакт народа и ислама носил очевидно динамический характер, однако для западного исследователя значение прежде всего имела решающая способность ислама прояснять опыт исламского народа, а не наоборот.
Для Макдональда (и, следовательно, для Гибба) эпистемологические и методологические трудности ислама как объекта изучения (о которых можно было бы долго и очень отвлеченно рассуждать) являлись неоспоримыми. Со своей стороны Макдональд был уверен, что благодаря исламу можно постигнуть еще более поразительную абстракцию – восточное мировоззрение. Вступительная глава его самой влиятельной работы «Религиозные взгляды и жизнь в исламе» (значимость которой для Гибба невозможно отрицать) являет собой собрание безапелляционных заявлений по поводу восточного, или ориентального, склада ума. Он начинает со следующего заявления: «…я думаю, это очевидно и общепризнанно, что концепция Незримого восточным народам ближе и для них реальнее, чем для народов западных». Ее не могут подорвать «серьезные исключения, которые время от времени почти полностью опровергают общий закон», как не могут они подорвать и другие столь же широкие и общие законы, управляющие восточным умом. «Отличительной чертой восточного склада ума является не столько доверчивость к Незримому, сколько неспособность выстроить систему в отношении вещей зримых». Еще одна часть этих затруднений, на которые позднее Гибб возложил вину за отсутствие формы в арабской литературе и за преимущественно атомистичный взгляд мусульман на реальность, в том, «что отличие восточного человека состоит не столько в его религиозности, сколько в недостатке чувств закона. Для него в природе не существует никакого неизменного порядка». О том, что этот «факт», как кажется, не учитывает выдающихся достижений исламской науки, на которых во многом основывается современная наука Запада, Макдональд предпочитает умолчать. Он продолжает свой каталог: «Очевидно, что для восточного человека всё возможно. Сверхъестественное подходит так близко, что его можно коснуться в любой момент». То событие (а именно историческое и географическое зарождение монотеизма на Востоке), которое в аргументации Макдональда превращается в целую теорию различия между Востоком и Западом, в действительности говорит лишь о степени влияния «ориентализма» на Макдональда. Вот его резюме:
Неспособность увидеть жизнь в ее постоянстве, увидеть ее как целое, понять, что теория жизни должна охватывать все факты, склонность к тому, чтобы отдаться одной-единственной идее и при этом не замечать всего остального, – в этом, я уверен, и состоит различие между Востоком и Западом[971]971
Macdonald Duncan Black. The Religious Attitude and Life in Islam. 1909; reprint ed. Beirut: Khayats Publishers, 1965. P. 2–11.
[Закрыть].
Во всем этом нет ничего особо нового. От Шлегеля и до Ренана, от Робертсона Смита и до Т. Э. Лоуренса подобные идеи повторялись снова и снова. Они представляют решение, принятое о Востоке, а не естественный факт. Всякий, кто, подобно Массиньону или Гиббу, осознанно пришел в профессию под названием «ориентализм», сделал это на основе следующего решения: Восток – это Восток, он совершенно иной и так далее. Так любые уточнения, любое развитие и последующие изменения в этой области лишь поддерживают и продлевают жизнь решению ограничивать Восток. Во взглядах Макдональда (или Гибба) нет ни капли иронии по поводу склонности Востока отдаваться одной-единственной идее, как, похоже, никто не в состоянии определить, до какой степени ориентализм зациклен на одной-единственной идее – идее отличия Востока. Никого не смущает повсеместное употребление таких широких понятий, как «ислам» или «Восток», которые используют как вполне подходящие существительные, сочетая с ними прилагательные и глаголы и относя их при этом не к миру платоновских идей, а к живым людям.
Совсем не случайно главной темой Гибба почти во всех работах, написанных им об исламе и арабах, была тема напряжения между «исламом» как трансцендентным, неизбывным восточным фактом и реалиями повседневного человеческого опыта. Его вклад как ученого и набожного христианина касался «ислама», а не сравнительно (для него) тривиальных трудностей, привнесенных в ислам национализмом, классовой борьбой, индивидуализирующим опытом любви, гнева или человеческого труда. И нигде эта, обедняющая его вклад, черта так не очевидна, как в сборнике «Куда идет ислам?» (1932), который вышел под его редакцией и в котором также был опубликован его текст. (Туда вошла и интересная статья Массиньона об исламе в Северной Африке.) Задачей Гибба, как он ее понимал, было оценить ислам в современной ситуации и его вероятные пути развития в будущем. При такой задаче отдельные и очевидно различающиеся регионы исламского мира оказываются не столько опровержением единства ислама, а, напротив, его примером. Гибб дает вводное определение ислама, затем в заключительной части он пытается рассмотреть нынешнее состояние ислама и его возможное будущее. Как и Макдональда, Гибба, похоже, вполне устраивала идея монолитного Востока, жизненные обстоятельства которого не удается с легкостью свести к проблемам расы и расовой теории. В своем решительном отрицании ценности расовых обобщений Гибб стоит выше одиозных предрассудков прежних поколений ориенталистов. Соответственно, он с симпатией смотрит на универсализм и толерантность ислама в отношении разнообразных этнических и религиозных сообществ, мирно и демократично сосуществующих под его покровительством. Грозное пророчество Гибб делает лишь в отношении сионистов и христиан-маронитов – единственных этнических сообществ в исламском мире, как он считает, не способных принять принципы сосуществования[972]972
Gibb H. A. R. Whither Islam? // Whither Islam? A Survey of Modern Movements in the Moslem World / Ed. H. A. R. Gibb. London: Victor Gollancz, 1932. P. 328, 387.
[Закрыть].
Однако суть аргументации Гибба состоит в том, что ислам, поскольку он в конце концов отражает исключительное внимание восточного человека к Незримому, а не к природе, обладает абсолютным первенством и господством над всей жизнью на исламском Востоке. Для Гибба ислам – это и есть исламская ортодоксия, а также – это сообщество верующих, это жизнь, единство, ясность, ценности. Он же есть закон и порядок, несмотря на сомнительные действия сторонников джихада и коммунистических агитаторов. Страница за страницей, в книге «Куда идет ислам?» мы узнаем, что новые коммерческие банки в Египте и Сирии – это продукты ислама или исламская инициатива; школы и растущий уровень грамотности – это тоже исламское, как и деятельность журналистов, вестернизация и интеллектуальные общества. Гибб ни словом не упоминает о европейском колониализме, обсуждая рост национализма и его «яды». То, что история современного ислама была бы гораздо понятнее с учетом его противодействия – политического и неполитического – колониализму, Гиббу даже в голову не приходит, так же как ему кажется неуместным высказываться о том, являются ли «исламские» правительства, которые он рассматривает, республиканскими, феодальными или монархическими.
Для Гибба «ислам» – это своего рода суперструктура, которой угрожают как политические риски (национализм, коммунистическая агитация, вестернизация), так и опасные попытки мусульман отстоять свою интеллектуальную самостоятельность. В следующем пассаже обратите внимание на то, как слово «религия» и другие близкие слова придают тексту Гибба определенный оттенок, такой, что мы начинаем явственно ощущать праведное возмущение тем общемировым давлением, которое обрушилось на «ислам»:
Ислам как религия практически не утратил своей силы, но ислам как арбитр социальной жизни [в современном мире] повержен. Наряду с этим (или помимо этого) власть набирает новые силы, которые подчас входят в противоречие с его традициями и социальными предписаниями, но тем не менее пробивают себе дорогу наперекор всему. Если говорить предельно просто, то произошло следующее: до недавнего времени у обычного мусульманина – горожанина и землепашца – не было политических интересов или функций и не было под рукой доступной литературы, за исключением религиозной, не было общественной жизни и не было празднеств, за исключением тех, что связаны с религией; он знал очень мало или совсем ничего о внешнем мире за пределами религии. А потому для него религия означала всё. Однако теперь почти во всех развитых странах круг его интересов расширился, его деятельность не ограничивается более религиозной сферой. Его интересуют политические вопросы, он читает (или ему читают) массу статей на разные темы, уже не связанные непосредственно с религией, и где религиозная точка зрения может быть вообще не представлена, а решение нужно принимать, исходя из совершенно иных принципов… [Курсив мой. – Э. С.][973]973
Ibid. P. 335.
[Закрыть].
Конечно, картину эту увидеть не просто, поскольку, в отличие от любой другой религии, ислам есть или означает всё. Мне кажется, что гипербола в описании феномена человека свойственна именно ориентализму. Сама жизнь – политика, литература, энергия, деятельность, рост – есть насильственное вторжение (для западного наблюдателя) в эту непостижимую тотальность Востока. Тем не менее как «дополнение и противовес европейской цивилизации» ислам в его современной форме – полезная вещь, – вот основа заявления Гибба о современном исламе. Ведь «в предельно широком историческом смысле то, что происходит сейчас между Европой и исламом – это реинтеграция западной цивилизации, искусственно разделенной в эпоху Возрождения и теперь заново утверждающей свое единство с непреодолимой силой»[974]974
Ibid. P. 377.
[Закрыть].
В отличие от Массиньона, который и не пытался скрывать свои метафизические размышления, Гибб представляет подобные наблюдения как объективное знание (категория, которой, по его мнению, не хватает у Массиньона). Однако по всем стандартам большая часть общих работ Гибба по исламу метафизична, и не только потому, что он пользуется такими абстракциями, как «ислам», как будто у них есть ясное и четкое значение, но и потому, что никогда не понятно, в каком конкретном времени и пространстве находится «ислам» Гибба. С одной стороны, вслед за Макдональдом он помещает ислам определенно вне Запада, с другой – во многих его работах ислам «реинтегрируется» с Западом. В 1955 году он отчасти прояснил этот вопрос о внешнем или внутреннем положении ислама: Запад взял от ислама только те ненаучные элементы, которые тот изначально сам получил от Запада. Таким образом, заимствуя из исламской науки, Запад просто следовал закону, который характеризовал «естественную науку и технологии… неопределенно передаваемыми»[975]975
Gibb H. A. R. The Influence of Islamic Culture on Medieval Europe // John Rylands Library Bulletin. September 1955. Vol. 38, no. 1. P. 98.
[Закрыть]. Конечный результат – в том, чтобы сделать ислам в «искусстве, эстетике, философии и религиозной мысли» явлением второстепенным (поскольку все они пришли с Запада) и, если говорить о науке и технологии, всего лишь каналом для элементов, которые не являются только – sui generis (своеобразно) – исламскими.
Понимание того, каким должен быть ислам по мысли Гибба, следует искать в этих метафизических пределах. Действительно, две важные его работы 40-х годов «Современные тенденции в исламе» и «Мухаммеданизм: историческое исследование» в значительной мере проливают свет на этот вопрос. В обеих книгах Гибб настойчиво обсуждает современный кризис в исламе, противопоставляя его изначальную сущность современным попыткам модификации. Я уже отмечал враждебность Гибба к модернистским течениям в исламе и его упорную приверженность исламской ортодоксии. Теперь настало время отметить, что Гибб предпочитает наименование «мухаммеданизм» «исламу» (поскольку, как он утверждает, ислам в действительности основывается на идее апостольской преемственности, которая достигает кульминации в фигуре Мухаммеда), а также его утверждение, что ведущей наукой в исламе является право, которое очень рано заменило теологию. Любопытно в этих заявлениях то, что они являются утверждениями об исламе не на основе внутренних свидетельств ислама, а скорее на основе логики, намеренно выходящей за пределы ислама. Ни один мусульманин никогда не станет называть себя мухаммеданином[976]976
Это утверждение связано со специфическим статусом Пророка, который не был царем (малик), а был посланником (расул), выполнявшим миссию по передаче божественного откровения (Коран). Поклонение в исламе связано прежде всего с Аллахом (Единым Богом). Потому между христианством и исламом существует перманентная дискуссия о статусе Христа (Иса аль-Масих).
[Закрыть], так же как ниоткуда не следует, что он станет отдавать предпочтение праву перед теологией. Но тут Гибб окружает себя как ученого ворохом противоречий, которые он сам различает, там, где в «исламе» «существует определенное не проговариваемое расхождение между процессами – официальными внешним и реальным внутренним»[977]977
Gibb H. A. R. Mohammedanism: An Historical Survey. London: Oxford University Press, 1949. P. 2, 9, 84.
[Закрыть].
Так ориенталист видит свою задачу в том, чтобы проговорить это расхождение – и следовательно, сказать об исламе правду, которую тот по определению, поскольку его собственные противоречия препятствуют возможности самопознания, не может выразить самостоятельно. Большая часть из общих заявлений Гибба по поводу ислама приписывает исламу взгляды, которые (опять же, по его определению) ни религия, ни культура не в состоянии постичь: «Восточная философия никогда не ценила идею справедливости, фундаментальную для греческой философии». Восточные общества, «в отличие от большинства западных обществ, как правило, посвящали себя построению стабильных социальных организаций [в большей степени, чем] конструированию идеальных систем философской мысли». Принципиальная внутренняя слабость ислама – в «разрыве связи между религиозными порядками и верхним и средним классами мусульманского общества»[978]978
Ibid. P. 111, 188, 189.
[Закрыть]. Но также Гибб понимает, что ислам никогда не существовал в изоляции от остального мира и потому вынужден был противостоять ряду внешних потрясений, беспорядков и разобщенности с остальным миром. Так, он утверждает, что современный ислам представляет собой результат дисинхронного контакта классической религии с романтическими идеями Запада. Как реакция на это вторжение в исламе возникла школа модернистов[979]979
На самом деле движение модернизма в XIX–XX вв. было распространено не только в исламе. Следует говорить и об иудейских, и о буддистских модернистах. В 1970–2000-х гг. исследование исламского модернизма было едва ли не главной отраслью для многих региональных историографий. Например, в Центральной Азии и Поволжье значимым было исследование феномена «джадидизма» (от персидского «усул-и джадид», «усул-и савтия» – новый (звуковой) метод образования). В современной исторической науке «джадидоцентричная историография» осуждается как изобретение современных исследователей, связанное с чрезмерным возвышением одной, избранной группы интеллектуалов, которым приписываются идеалистические черты современной либеральной доктрины. Впрочем, соотношение модернизма на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, их связи и расхождения – до сих пор одна из тем академических дискуссий.
[Закрыть], чьи идеи повсеместно обнаружили свою несостоятельность. Эти идеи совершенно не подходят для современного мира: махдизм[980]980
Махди («ведомый праведным путем») – предвестник близости конца света; эсхатологическая, мессианская фигура. Концепция махди получила значительное развитие в шиитском исламе. Кроме того, эта концепция часто использовалась для объединения сообщества. Так, уже описанное выше восстание в Восточном Судане возглавлял Мухаммад Ахмад ибн Абдалла, объявивший себя махди и создавший Махдистское государство.
[Закрыть], национализм, идея возрождения халифата. Однако и консервативная реакция на модернизм в неменьшей степени не соответствует современности, поскольку порождает своего рода упертый луддизм[981]981
Луддиты – участники протестов против промышленной революции в Англии.
[Закрыть]. И что же представляет собой ислам в итоге, если он не смог ни преодолеть внутренние неувязки, ни удовлетворительно справиться с внешним окружением? Ответ следует искать в следующем отрывке в середине книги «Современные тенденции»:
Ислам – это живая и энергичная религия, она обращается к сердцам, умам и совести десятков или сотен миллионов, давая им образец честной, благоразумной и богобоязненной жизни. Окаменел не сам ислам, а лишь его ортодоксальные формулы, догматика, социальная апологетика. Именно здесь и есть главное расхождение, недовольство которым присуще большей части образованных и разумных его последователей и чья опасность для будущего совершенно очевидна. Никакая религия в конечном счете не сможет противостоять распаду, когда существует пропасть между желанием подчинить волю своих последователей и обращением к их интеллекту. То обстоятельство, что для подавляющего большинства мусульман проблема расхождения еще не существует, служит оправданием для уламов[982]982
Уламо (буквально «ученые»,) от корня «илм» – наука, знание – исламские богословы.
[Закрыть], которые не торопятся принимать поспешные меры, предписываемые модернистами. Однако распространение модернизма – это предупреждение о том, что пересмотр формул нельзя откладывать бесконечно.Пытаясь выявить истоки и причины подобного «окаменения» догм ислама, мы, возможно, найдем также ответ на вопрос, задаваемый модернистами и оставшийся для них без ответа, – вопрос о том, каким образом можно переформулировать фундаментальные принципы ислама, не касаясь при этом его сущностных элементов[983]983
Gibb H. A. R. Modern Trends in Islam. Chicago: University of Chicago Press, 1947. P. 108, 113, 123.
[Закрыть].
Последняя часть фрагмента нам уже хорошо знакома: здесь предполагается, что именно нынешние традиционные ориенталисты способны реконструировать и переформулировать Восток, учитывая, что сам он этого сделать не в состоянии. Отчасти ислам Гибба существует прежде того ислама, который практикуют, изучают и проповедуют на Востоке. Однако такой возможный ислам – не просто очередная выдумка ориенталистов, выжимка из его идей: он основан на «исламе», который (коль скоро он не может существовать в действительности) обращается ко всему сообществу верующих. Причина, по которой «ислам» может существовать в каком-то будущем ориенталистском изводе, заключается в том, что на Востоке ислам узурпирован и опорочен языком его духовенства, претендующим на сознание общины. До тех пор, пока она остается безмолвной, ислам в безопасности. Но как только реформаторское духовенство примет на себя роль (узаконит) переформулирования ислама для того, чтобы тот мог войти в современность, проблемы неизбежны, для того, чтобы тот мог войти в современность, проблемы неизбежны. И подобные проблемы – это и есть расхождение.
Расхождения, о которых говорит Гибб, представляются чем-то более важным, нежели просто предполагаемые интеллектуальные затруднения в исламе. По моему мнению, они выражают саму привилегию, само то основание, которое ориенталист занимает, готовясь писать об исламе, принимать для него законы или его переформулировать. Для Гибба рассуждение об этом расхождении далеко от случайности, это эпистемологический переход к предмету и его смотровая площадка, с высоты которой во всех своих произведениях и на каждой из занимаемых им влиятельных должностей он мог ислам обозревать. Между безмолвным призывом ислама к монолитному сообществу ортодоксальных верующих и всем вербальным выражением ислама компанией сбившихся с пути политических активистов, доведенных до отчаяния клерков и беспринципных реформаторов – вот где стоит, пишет и переформулирует Гибб. В его работах сказано либо то, чего ислам не смог сказать, либо то, что замалчивалось духовенством. Сказанное Гиббом в каком-то смысле стоит по времени впереди ислама, допуская при этом, что когда-нибудь в будущем ислам окажется в состоянии сказать то, чего не может высказать сейчас. В другом смысле, не менее важном, работы Гибба по исламу уничтожают представление о религии как о единстве «живых» верований, поскольку в своих работах он смог постичь «ислам» как безмолвный призыв, обращенный к мусульманам еще до того, как их вера стала предметом светских споров, практик и обсуждений.
Противоречие в работе Гибба (а это именно противоречие – говорить об «исламе», не так, как о нем говорит духовенство, и не так, как, если бы они могли, говорили бы верующие) отчасти скрывается метафизическим подходом, ведущим в его работе и господствующим на протяжении всей истории современного ориентализма, традиции которого Гибб унаследовал от своих учителей, например Макдональда. Восток и ислам обладают своего рода нереальным, феноменологически редуцированным статусом, который делает их недосягаемыми для всех, кроме западных экспертов. С самого начала изучения Западом Востока последнему никогда не удавалось говорить за самого себя. Свидетельства о Востоке получали печать достоверности лишь в работах ориенталистов. Творчество Гибба подразумевает, что ислам (или мухаммеданизм) существует в том виде, как он есть, и в таком, каким он должен быть. Метафизически – и только метафизически – сущность и потенция стали одним и тем же. Только использование метафизического подхода сделало возможным появление таких важных статей Гибба, как «Структура религиозной мысли ислама» или «Истолкование исламской истории», не говоря уже о различении между субъективным и объективным знанием, что было проделано Гиббом в русле критики Массиньона[984]984
Обе работы опубликованы в книге: Gibb. Studies on the Civilization of Islam. P. 176–208, 3–33.
[Закрыть]. Свои рассуждения об «исламе» он ведет с поистине олимпийским спокойствием и невозмутимостью. Нет никаких неувязок, как нет и ощутимого разрыва между текстом Гибба и описываемым им явлением, поскольку каждый из них, согласно самому Гиббу, в конце концов сводим к другому. В качестве таковых «ислам» и его описание Гиббом обладают той спокойной дискурсивной ясностью, которая неизменно присуща хорошо упорядоченным страницам текстов английских ученых.
Я придаю большое значение внешнему виду и сознательно продуманному макету страницы в текстах ориенталистов в их печатной форме. Я уже ранее говорил о выстроенной в алфавитном порядке энциклопедии д’Эрбело, гигантских листах «Описания Египта», лабораторно-музейных записных книжках Ренана, отточиях и коротких эпизодах в «Нравах» Лэйна, антологиях Саси и так далее. Такие страницы – это знаки и Востока, и ориенталиста, представленные читателю. Существует определенный порядок этих страниц, через который читатель формирует представление не только о «Востоке», но и об ориенталисте как истолкователе, экспоненте, личности, посреднике, представляющем (и представительном) эксперте. Гибб и Массиньон оставили нам тексты, которые позволяют воспроизвести канву ориентализма на Западе как историю, вмещающую в себя различные видовые и топографические стили, редуцированные в итоге к научному и монографическому единообразию. Восточный человек как вид, восточные выражения, восточные лексикографические единицы, восточные серии, восточные примеры – всё это у Гибба и Массиньона заняло подчиненное место в сравнении с влиянием линеарной прозы дискурсивного анализа, представленной в эссе, статьях и научных книгах. В свое время, с конца Первой мировой войны и до начала 60-х годов, энциклопедия, антология, личные заметки, три эти ведущие формы работы ориенталистов, претерпели радикальное изменение. Их авторитет был перераспределен, или распылен, или рассеян в пользу сообщества экспертов («Энциклопедия ислама», «Кембриджская история ислама»), в пользу работ более низкого уровня (учебники по языку для начинающих, но не тех, кто готовится к дипломатической службе, как это было в случае с «Хрестоматией» Саси, а занимающихся социологическими исследованиями, изучением экономики или истории), разного рода сенсационных откровений (которые в большей мере касаются личностей или правительств – вспомним Лоуренса, – нежели знания). Гибб с его несколько небрежными, но глубоко последовательными текстами, Массиньон с его пылом художника, которому никакая отсылка не кажется слишком экстравагантной, если ее толкованием неординарно распорядиться, – эти ученые подняли, по сути, экуменический авторитет европейского ориентализма так высоко, как смогли. На смену им пришли новые реалии, новый обособленный стиль, в широком смысле англо-американский, а в более узком – стиль американских социальных наук. Здесь старый ориентализм распался на множество частей, однако все они продолжали служить прежним традиционным догмам ориентализма.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.