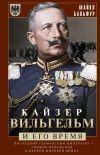Текст книги "Ориентализм"

Автор книги: Эдвард Саид
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 33 страниц)
IV
Паломники и паломничества, англичане и французы
Каждому европейцу, путешествующему по Востоку или постоянно там живущему, приходилось защищаться от его тревожащего влияния. Кто-то, подобно Лэйну, совершенно перепланировал и перекраивал Восток, когда писал о нем. Эксцентрика восточной жизни с ее странным календарем, экзотической организацией пространства, безнадежно непонятными языками и кажущейся извращенной моралью, теряла свою насыщенность, будучи представленной как серия изобилующих деталями сюжетов, изложенных нормативной европейской прозой. Правильнее сказать, что, ориентализируя Восток, Лэйн не столько дал ему определение, сколько его отредактировал, вырезав оттуда всё, что могло покоробить чувствительность европейца, – вдобавок к тому, что не соответствовало его человеческим симпатиям. В большинстве случаев казалось, что Восток оскорбляет нормы сексуального приличия. Весь Восток – или по крайней мере Восток-в-Египте Лэйна – источал опасную сексуальность, угрожая гигиене и приличиям своей избыточной «свободой совокупления», как с непривычной для себя прямолинейностью описал это Лэйн.
Существовали угрозы и помимо секса. Все они были направлены против дискретности и рациональности времени, пространства и индивидуальной идентичности. На Востоке можно было внезапно столкнуться с невообразимой древностью, с нечеловеческой красотой, с бескрайними просторами. Всё это можно было использовать более безобидным способом, опосредованно, сделав темой размышлений или сочинений, а не непосредственного переживания. В поэме Байрона «Гяур», в «Западно-восточном диване» Гёте, в «Восточных мотивах» Гюго Восток предстает формой освобождения, местом настоящих возможностей – именно в этом суть гётевской «Хиджры».
Север, Запад, Юг в развале,
Пали троны, царства пали.
На Восток отправься дальний
Воздух пить патриархальный!
Люди неизменно возвращались на Восток:
Там, наставленный пророком,
Возвратись душой к истокам,
В мир, где ясным, мудрым слогом
Смертный вел беседу с Богом, —
рассматривая его как завершение и подтверждение всего, что только можно себе вообразить.
Богом создан был Восток,
Запад также создал Бог.
Север, Юг и все широты
Славят рук его щедроты[629]629
Von Goethe Johann Wolfgang. Westöstlicher Diwan. 1819; reprint ed., Munich: Wilhelm Golmann, 1958. P. 8–9, 12. (См.: Гёте. Западновосточный диван / Пер. В. Левика. М.: Наука, 1988. С. 5, 8.) В связи с очевидным преклонением перед научным аппаратом у Гёте в «Диване» на ум приходит Саси.
[Закрыть].
Восток с его поэзией, его атмосферой и возможностями был представлен такими поэтами, как Хафиз[630]630
Хафиз Ширази (XIV в.) – великий персидский поэт, чьи произведения стали основой этического воспитания в школах по всему Среднему и Ближнему Востоку.
[Закрыть] – «безграничный» (unbegrenzt), как пишет о нем Гёте, одновременно и старше, и моложе, чем мы, европейцы. И для Гюго в его произведениях «Воинственный клич муфтия» и «Горе паши»[631]631
Hugo Victor. Les Orientales // Oeuvres poétiques / Éd. Pierre Albouy. Paris: Gallimard, 1964. Vol. 1. P. 616–618. См. Гюго В. Восточные мотивы // Собр. соч. В 15 т. М.: Худ. лит., 1953. Т. 1. 265.
[Закрыть] жестокость и безудержная меланхолия восточных людей связаны не со страхом жизни или чувством потерянности в мире, но с Вольнеем и Джорджем Сэйлом, чьи ученые труды превращали для высокоодаренного поэта варварское великолепие в полезную информацию.
Открытия таких ориенталистов, как Лэйн, Саси, Ренан, Вольней, Джонс (не говоря уже об «Описании Египта»), и других первопроходцев, стали доступны для использования широкой образованной аудитории. Вспомним наши предшествующие рассуждения о трех типах работ, имеющих отношение к Востоку и основанных на реальном опыте пребывания на Востоке. Жесткая ориентация на знание полностью вычистила из ориенталистских текстов переживания автора: отсюда самоограничение Лэйна и авторов работ первого из выделенных нами типов. Что касается работ второго и третьего типа, то личность автора здесь заметным образом подчинена задаче распространения реального знания (второй тип), или же определяет и опосредует собою всё, что говорится о Востоке (третий тип). Тем не менее на протяжении XIX века – уже после Наполеона – Восток был местом паломничества, и всякое значительное произведение из сферы искреннего, пусть и не всегда академического, ориентализма черпало свои формы, стиль и замыслы из этой идеи паломничества на Восток. В этой идее, как и во многих других рассмотренных нами ранее формах ориенталистского письма, главным источником выступает романтическая идея восстановительной реконструкции (естественного супернатурализма).
Каждый паломник видит всё вокруг по-своему, однако есть ограниченный круг того, ради чего предпринимается паломничество, какую форму и вид оно принимает, какие истины открывает. Все паломничества на Восток пролегают или должны пролегать через библейские земли, и большая их часть фактически представляла собой попытки возродить или высвободить из огромного, необычайно плодородного Востока кусочек иудео-христианской / греко-романской действительности. Для таких паломников ориентализированный Восток, Восток ученых-ориенталистов, был строем, через который надо было пройти, точно так же как Библия, Крестовые походы, ислам, Наполеон и Александр были непререкаемыми авторитетами, с которыми надлежало считаться. Однако ученый Восток не только развеивал грезы и тайные фантазии паломников: сам факт его наличия возводит преграду между современным путешественником и текстами, если только – как это было с Нервалем и Флобером, обращавшимися к трудам Лэйна, – книги ориенталистов не снимали с библиотечных полок, включая в эстетический проект. Еще одним препятствием были слишком жесткие формальные требования ориенталистской науки. Так, паломник Шатобриан надменно заявлял, что предпринял свой вояж исключительно для самого себя: «Я искал образы, вот и всё»[632]632
De Chateaubriand François-René. Oeuvres romanesques et voyages / Ed. Maurice Regard. Paris: Gallimard, 1969. Vol. 2. P. 702.
[Закрыть]. Флобер, Виньи, Нерваль, Кинглейк, Дизраэли, Бёртон, – совершая паломничества, все они стремились развеять затхлую атмосферу прежнего ориенталистского архива. Их произведения должны были стать новым, свежим вместилищем восточного опыта, но, как мы увидим далее, даже такой замысел часто (но не всегда) выливался в ориенталистский редукционизм. Причины этого сложны и многогранны, во многом связаны с личностью самого паломника, его манерой письма и избранной формой его работы.
Чем был Восток для путешественника в XIX столетии? Прежде всего отметим разницу между англо– и франкоговорящими авторами. Для первых Восток – это, конечно же, Индия, реальные британские владения. Двигаться через Ближний Восток было равнозначно тому, чтобы направляться к главной колонии. Уже тогда пространство воображения ограничивали реалии управления, территориальной легитимности и исполнительной власти. Для таких писателей, как Скотт, Кинглейк, Дизраэли, Уорбёртон, Бёртон и даже для Джордж Элиот (в чьём романе «Даниэль Деронда» имеются некоторые планы относительно Востока[633]633
В романе Daniel Deronda одной из значимых тем является еврейский вопрос. Саид подробно анализирует этот роман в другой работе: Zionism from the Standpoint of Its Victims (1979).
[Закрыть]), как для самого Лэйна и до него – для Джонса, Восток определялся материальным обладанием, или материальным воображением. Англия победила Наполеона, изгнала Францию: взору англичанина открывались имперские владения, ставшие в 1880-х годах неотъемлемой частью контролируемой Британией территории от Средиземного моря и до Индии. Писать о Египте, Сирии или Турции, как и путешествовать по ним, было равносильно путешествию по царству политической воли, политического управления и политического определения. Территориальный императив был неотразим даже для такого неограниченного автора, как Дизраэли, чей «Танкред» не просто аттракцион в восточном стиле, но упражнение в проницательном политическом управлении реальными силами на реальных территориях.
Напротив, французского паломника на Востоке охватывало острое чувство утраты. Он прибыл в земли, где у Франции, в отличие от Британии, не было суверенного присутствия. Средиземноморье вторило эхом французских поражений – от Крестовых походов и до Наполеона. То, что впоследствии стало известно как «цивилизаторская миссия» (la mission civilisatrice), в XIX веке начиналось как политическое предприятие на фоне британского присутствия. Поэтому французские паломники, начиная с Вольнея, и планировали, проектировали, воображали и размышляли о местах, которые находились прежде всего в их головах, они разрабатывали схемы типично французской, а возможно, и европейской, гармонии на Востоке, которой, как предполагалось, дирижировать должны были именно они. Их Восток был Востоком воспоминаний, наводящих на размышления руин, забытых тайн, скрытых посланий и почти виртуозного стиля бытия, Востоком, чья наивысшая литературная форма была создана Нервалем и Флобером, творчество которых всецело находилось в сфере воображения, не реализуемого нигде, кроме области эстетического.
До некоторой степени это также верно в отношении французских ученых – путешественников по Востоку. Как отмечает Анри Бордо[634]634
Анри Бордо (1870–1963) – французский писатель и юрист.
[Закрыть] в своей книге «Путешественники на Восток»[635]635
См.: Bordeaux Henri. Voyageurs d’Orient: Des pèlerins aux méharistes de Palmyre. Paris: Pion, 1926. Интересные теоретические соображения по поводу паломников и паломничеств попались мне в работе Виктора Тёрнера «Драмы, поля и метафоры: символическое действие в человеческом обществе». Turner Victor. Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1974. P. 166–230.
[Закрыть], большинство из них интересовало библейское прошлое или история Крестовых походов. К ним следует также (с подачи Хасана ан-Нути[636]636
Хасан ан-Нути (1925–2007) – египетский и французский литературовед и исследователь истории театра и кинематографа.
[Закрыть]) добавить имена ориенталистов-семитологов, включая Катрмера; исследователя Мертвого моря Сольси[637]637
Фелисьен де Сольси (1807–1880) – французский археолог и нумизмат, военный инженер.
[Закрыть]; Ренана – как занимавшегося финикийцами археолога; исследователя финикийских языков Жюда[638]638
Огюст-Селестен Жюда (1805–1873) – французский военный врач и востоковед.
[Закрыть]; изучавших ансаритов[639]639
Ансариты (ан-нусайриты, алявиты) – этноконфессиональная мусульманская община среди «крайних» шиитов Северной Сирии.
[Закрыть], исмаилитов[640]640
Исмаилиты – последователи одной из основных ветвей шиитского ислама, сыгравшие значительную роль в истории мусульманского Востока.
[Закрыть] и сельджуков[641]641
Сельджуки (Сельджукиды) – тюркская суннитская династия, завоевавшая территорию Среднего и Ближнего Востока, сделавшая значительный вклад в развитие тюрко-персидского культурного ареала.
[Закрыть] Катафаго[642]642
Жозеф Катафаго (182–1884) – сирийский христианин, советник и драгоман прусского генерального консульства в Сирии. Его публикации, например англо-арабский словарь, относятся ко второй половине XIX в.
[Закрыть] и Дефремери[643]643
Шарль Франсуа Дефремери (1822–1883) – французский востоковед, арабист и иранист. Автор работ по истории Хорезма.
[Закрыть]; исследователя Иудеи Клермон-Ганно[644]644
Шарль Симон Клермон-Ганно (1846–1923) – французский востоковед.
[Закрыть] и маркиза де Вогюэ[645]645
Эжен-Мельхиор де Вогюэ (1848–1910) – французский дипломат и литератор.
[Закрыть], чьи основные труды посвящены пальмирской эпиграфике. Кроме того, существовала еще целая школа египтологов, ведущая начало от Шампольона и Мариета[646]646
Огюст Мариет (1821–1881) – французский египтолог. Основатель Египетского музея в Каире.
[Закрыть], школа, давшая впоследствии таких ученых, как Масперо[647]647
Гастон Масперо (1846–1916) – французский египтолог.
[Закрыть] и Легран[648]648
Жорж Легран (1865–1917) – французский египтолог.
[Закрыть]. В качестве еще одного показателя различия между британскими реалиями и французскими фантазиями стоит упомянуть слова, сказанные в Каире художником Людовиком Лепиком[649]649
Людовик-Наполеон Лепик (1839–1889) – французский аристократ, художник и археолог.
[Закрыть], который в 1884 году (через два года после начала британской оккупации) горестно заметил: «Восток в Каире мертв». И только неизменно реалистичный расист Ренан оправдывал подавление англичанами националистического восстания Ораби, которое сам он с высоты своей мудрости называл «позором цивилизации»[650]650
Al-Nouty Hassan. Le Proche-Orient dans la littérature française de Nerval à Barrés. Paris: Nizet, 1958. P. 47–48, 277, 272.
[Закрыть].
В отличие от Вольнея и Наполеона, французские паломники XIX века стремились не столько к науке, сколько к экзотической, но потому особенно привлекательной реальности. Это в особенности верно для паломников от литературы, начиная с Шатобриана, для которого Восток стал местом, созвучным его личным мифам, страстям и ожиданиям. Здесь надо отметить, что все паломники (но французские в особенности) использовали Восток в своих произведениях так, чтобы найти в нем оправдание собственным экзистенциальным наклонностям. И только появление у текста некоей дополнительной познавательной задачи позволяло излияние собственных пристрастий в некоторой степени обуздать. Например, Ламартин прежде всего пишет о себе самом, но при этом пишет и о Франции как о силе, присутствующей на Востоке. Этот второй мотив приглушает и в конце концов полностью подчиняет себе особенности стиля, обусловленные его душой, его памятью и его воображением. Но ни одному из паломников, будь то француз или англичанин, не удалось столь же неумолимо господствовать над самим собой и своим предметом, как Лэйну. Даже Бёртон и Т. Э. Лоуренс[651]651
Томас Эдвард Лоуренс (1888–1935) – британский археолог, дипломат, военный и писатель. Известен под своим прозвищем Лоуренс Аравийский.
[Закрыть], первый из которых использовал форму целенаправленного мусульманского паломничества, а второй – то, что он назвал обратным паломничеством из (away) Мекки, произвели на свет много исторического, политического и социального ориенталистского материала, но отнюдь не такого свободного от собственного «я», как труды Лэйна. Вот почему Бёртон, Лоуренс и Чарльз Даути занимают позицию посередине между Лэйном и Шатобрианом.
«Путешествие из Парижа в Иерусалим через Грецию, и обратно из Иерусалима в Париж через Египет, Варварию и Испанию» (1810–1811) Шатобриана сохранило подробности путешествия, предпринятого им в 1805–1806 годах после поездки по Северной Америке. На многих сотнях страниц этого сочинения запечатлено признание автором того, что «говорю я вечно о себе»[652]652
Je parle éternellement de moi (фр.).
[Закрыть], – столь многих, что Стендаль, и сам не слишком сдержанный автор, признал полное фиаско Шатобриана в качестве путешественника-знатока вследствие его «отвратительного эгоизма». На страницы книги он принес тяжкий груз личных предрассудков и предубеждений в отношении Востока, вывалил их, а затем продолжил подминать под себя людей, места и идеи, касающиеся Востока, так, словно ничто не в состоянии противиться его высокомерному воображению. Шатобриан пришел на Восток не в подлинном – собственном – обличье (true self), а как сконструированная фигура. Для него Наполеон был последним крестоносцем, он же сам был «последним французом, оставившим свою страну, дабы совершить путешествие в Святую землю, разделяя идеи, цели и чувства паломника былых времен». Однако были и другие причины. Симметрия: побывав в Новом Свете и увидев его природные памятники, он намеревался замкнуть круг своих исследований и посетить Восток с его памятниками знания: после изучения римских и кельтских древностей ему оставались лишь руины Афин, Мемфиса и Карфагена. Ему нужно было пополнить запас впечатлений и подтвердить важность религиозного духа:
Религия как своего рода универсальный язык, понятный всем, – и где всё это можно увидеть наилучшим образом, как не на Востоке, пусть даже там царит такая стоящая на сравнительно низком уровне религия, как ислам?
Кроме того, им двигала потребность увидеть всё не таким, каким оно было на самом деле, а таким, каким Шатобриан ожидал его увидеть:
Коран был для него «книгой Магомета», и в нем не содержалось «ни принципов цивилизации, ни заповедей, которые могли бы возвысить характер». «Эта книга, – продолжает он, всё больше давая волю воображению, – не проповедует ни ненависть к тирании, ни любовь к свободе[653]653
Chateaubriand. Oeuvres. Vol. 2. P. 702 and note 701, 769–770, 808, 908, 1684.
[Закрыть]».
Для столь тщательно сконструированной фигуры, как Шатобриан, Восток был всего лишь ветхим холстом, ждущим реставрации. Восточный араб был «цивилизованным человеком, вновь впавшим в дикость»: неудивительно, что, наблюдая арабов, пытающихся разговаривать по-французски, Шатобриан чувствовал себя Робинзоном Крузо, впервые услышавшим говорящего попугая. Конечно, попадались и такие места, как Вифлеем (этимологическое значение которого Шатобриан понял совершенно неправильно[654]654
Шатобриан приводил следующую этимологию: «Вифлеем получил свое название от Авраама и означает „город хлеба“. Он назывался Эфрата по имени жены Халева, чтобы отличить его от другого Вифлеема в племени Завулон. Он принадлежал к иудейскому племени и также имел название города Давида, будучи местом рождения этого монарха, где он пас свои стада в молодости. Святой Матфей, апостол, имел счастье родиться в городе, в котором был рожден Мессия».
[Закрыть]), где можно было вновь найти некоторое подобие настоящей – что значит европейской – цивилизации. Однако их было немного и встречались они нечасто. Повсюду вокруг были восточные люди, арабы, чья цивилизация, религия и нравы были столь низкими, варварскими и противоречивыми, что заслуживали повторного завоевания. Он утверждал, что Крестовые походы вовсе не были агрессией, но всего лишь ответом христиан на вторжение Омара в Европу[655]655
Омар (590–644) – второй праведный халиф (один из четырех первых правителей халифата, близких сподвижников Мухаммеда). Известен крупномасштабными завоеваниями. Вероятно, подразумевается противостояние халифа с Византией, потерявшей в ходе его походов три четверти своей территории.
[Закрыть]. Кроме того, добавляет он, даже если Крестовые походы в их современной или первоначальной форме и были агрессией, темы, которые они поднимали, выходили далеко за рамки смерти:
Крестовые походы касались не только освобождения Гроба Господня, но в большей степени выяснения того, что одержит на земле верх: вера врагов цивилизации, систематически проявлявших склонность к невежеству [это, понятное дело, ислам], деспотизму, рабству, или вера, пробудившая в современных народах гений мудрой античности и уничтожившая низменное рабство?[656]656
Ibid. P. 979, 990, 1011, 1052.
[Закрыть]
Это первое значимое упоминание идеи, которая затем обретет почти непреодолимую – граничащую с бездумием – власть над европейскими текстами. Это тема Европы, научающей Восток смыслу свободы, о которой восточные народы и в особенности мусульмане, как уверен Шатобриан и многие после него, не имеют ни малейшего понятия.
О свободе им ничего не известно; о пристойности они не имеют ни малейшего понятия: сила – вот их Бог. Если в течение длительного времени они не встречают завоевателя, творящего божественную справедливость, то становятся подобны солдатам без полководца, гражданам без законодателя, семье без отца[657]657
Ibid. P. 1069.
[Закрыть].
Уже в 1810 году мы видим европейцев, рассуждающих, как Кромер в 1910-м, утверждающих, что завоевание необходимо восточным народам, и не видящих парадокса в том, что покорение Западом Востока в конце концов оказывается вовсе не покорением, а освобождением. Шатобриан облекает всю эту идею в слова о романтическом спасении и христианской миссии по возрождению мертвого мира, пробуждению его собственного потенциала – того, который лишь только европеец может распознать под этой безжизненной и выродившейся поверхностью. Для путешественника это означает, что в провожатые по Палестине он должен взять Ветхий Завет и Евангелия[658]658
Ibid. P. 1031.
[Закрыть], только так он сможет пробиться сквозь очевидное вырождение современного Востока. При этом Шатобриан не видит никакой иронии в том, что его путешествие и его взгляды ничего не говорят о современном человеке Востока и его судьбе. На Востоке имеет значение только то, что происходит с Шатобрианом, как Восток влияет на его настроение, что Восток позволяет ему увидеть в самом себе, в своих идеях, в своих ожиданиях. Свобода, о которой так беспокоится Шатобриан, – не более чем его собственное освобождение из враждебных пустынь Востока.
Это освобождение позволяет ему отправиться прямиком обратно в царство воображения и использовать его для истолкования происходящего. Описание Востока стирается замыслами и образцами, навязанными ему имперским эго, которое не скрывает своей силы. Если в прозе Лэйна авторское эго устраняется и Восток получает возможность предстать перед нами во всех реалистических подробностях, у Шатобриана эго растворяется в созерцании сотворенных им чудес и затем возрождается вновь, еще более сильное, чем прежде, еще более готовое упиваться собственной властью и наслаждаться собственными суждениями.
Когда путешествуешь по Иудее, то поначалу сердце охватывает тоска, но затем, когда переходишь от одного уединенного места к другому, беспредельное пространство простирается перед тобой, потихоньку тоска отступает и начинаешь ощущать тайный ужас, не повергающий душу в уныние, но, напротив, придающий отвагу и воодушевляющий врожденный гений. Необыкновенные вещи со всех концов земли чудесным образом открываются: пылающее солнце, стремительный орел, бесплодная смоковница – всё исполнено поэзии, и предстают все сцены из Писания. Каждое имя таит в себе тайну, каждая пещера возвещает будущее; каждая вершина хранит память о словах пророка. Сам Господь вещал с этих берегов: пересохший поток, расколотые камни, разверстые гробницы свидетельствуют о чуде; сама пустыня кажется всё еще онемевавшей от ужаса и словно не решается нарушить тишину, услышав голос вечности[659]659
Ibid. P. 999.
[Закрыть].
В этом отрывке раскрывается ход мысли. Опыт паскалевского ужаса[660]660
Блез Паскаль (1623–1662) – французский математик и теолог. Размышляя о краткости жизни (сопоставляя ее с «вечной тишиной бесконечных пространств» времени и пространства), теолог рассуждал о преодолении противоречий между человеческим разумом и верой.
[Закрыть] не снижает уверенность в себе, но таинственным образом ее стимулирует. Безжизненный ландшафт простирается подобно тексту с росписями, открывающему себя испытующему взгляду сильного, закаленного эго. Шатобриан возвысился над презренной, если не сказать ужасающей, реальностью современного Востока, чтобы занять по отношению к нему оригинальную и творческую позицию. К концу пассажа это уже не современный человек, но визионер-прорицатель, так или иначе сопричастный Богу. Если иудейская пустыня хранит молчание с тех пор, как там говорил Бог, то именно Шатобриану удалось услышать это молчание, понять его и – ради своего читателя – заставить пустыню заговорить вновь.
Великий дар интуитивного сочувствия, который позволил Шатобриану раскрыть и истолковать тайны Северной Америки в романах «Рене» и «Атала», а также христианские тайны в «Гении христианства», достигает еще больших высот истолкования в «Путешествии». Автор уже более не прибегает здесь к природной простоте и романтическим сантиментам: он обращается к вечному творению и божественной изначальности как таковой, потому что именно на библейском Востоке они впервые были явлены и остаются здесь в непосредственной и скрытой форме. Конечно, их не так-то просто увидеть – открыть и показать их должен Шатобриан. Именно этой амбициозной цели и служат «Путевые заметки», так же, как и то, что в тексте «я» (ego) Шатобриана должно было быть достаточно радикально перестроено, чтобы выполнить эту задачу. В отличие от Лэйна, Шатобриан пытается поглотить Восток. Он не только присваивает Восток: он представляет его и говорит за него – не в истории, но над историей, во вневременном измерении полностью исцеленного мира, где люди и земли, Бог и люди – одно целое. А потому в Иерусалиме, в центре его видения и в конечной точке паломничества, он обеспечивает себе возможность полного примирения с Востоком: Востоком еврейским, христианским, мусульманским, греческим, персидским, римским и, наконец, французским. Он тронут бедственным положением евреев, но решает, что и они призваны прояснять общую картину и, кроме того, – дополнительная выгода – они придают необходимую пронзительность его христианской мстительности. Бог, говорит он, избрал новый народ, и это не евреи[661]661
Ibid. Р. 1126–1127, 1049.
[Закрыть].
Однако Шатобриан делает также и другие уступки земной реальности. И если Иерусалим в его «Путевых заметках» помечен как конечная неземная цель, то Египет предоставляет ему материал для политического экскурса. Рассуждения о Египте прекрасно дополняют его паломничество. Величественная дельта Нила побуждает Шатобриана написать:
Но эти идеи поданы в ностальгическом ключе, поскольку в Египте, как считает Шатобриан, отсутствие Франции равносильно отсутствию свободного правления и счастья народа. Кроме того, после Иерусалима Египет кажется своего рода духовной антивершиной. После политического комментария по поводу пагубного состояния государства Шатобриан задает себе привычный вопрос о «различии», ставшем результатом исторического развития: как может эта деградировавшая тупая толпа «мусульман» населять земли, на которых прежние, совершенно другие обладатели этих мест, некогда поражали Геродота и Диодора[663]663
Диодор Сицилийский (I в. до н. э.) – древнегреческий историк.
[Закрыть]?
Это подходящая прощальная речь для Египта, который он покидает, направляясь в Тунис, к руинам Карфагена и, наконец, домой. И еще одна примечательная вещь: в Египте, поскольку ему удалось полюбоваться пирамидами лишь издали, он направляет к ним посланника, чтобы тот написал его (Шатобриана) имя на камне, сообщая, к нашей пользе, что «следует исполнять эти скромные обязанности благочестивого путешественника». В обычной ситуации мы бы не уделили этому очаровательному примеру туристической банальности большого внимания. Однако в подзаголовке к самой последней странице «Путевых заметок» она оказывается более важной, чем казалась на первый взгляд. Говоря о своем, длиною в двадцать один год, проекте познания «всех опасностей и всех печалей»[664]664
Tous les hasards et tous les chagrins (фр.).
[Закрыть] как об изгнании, Шатобриан элегически замечает, что каждая из его книг была, по сути, своего рода продолжением его существования. Человек без крова и без возможности обрести таковой, он видит себя уже далеко не юным. Если небеса даруют ему вечный покой, говорит он, он обещает в молчании посвятить себя возведению «памятника моей родине»[665]665
Monument à ma patrie (фр.).
[Закрыть]. Его произведения – единственное, что у него осталось на земле, и, если имя его будет жить, этого будет вполне достаточно, а если умрет – слишком много[666]666
Ibid. P. 1148, 1214.
[Закрыть].
Эти заключительные строки вновь отсылают нас к желанию Шатобриана оставить свое имя на камнях пирамид. Становится понятно, что эти эгоистические ориентальные мемуары предлагают нам неизменно демонстрируемый и неустанно повторяемый опыт его «я» (self). Письмо было для Шатобриана делом жизни; будь он только жив, ничто, ни один камень не должен был остаться не надписанным. Если у Лэйна структура повествования подчинялась научному авторитету и описанию многочисленных деталей, то у Шатобриана ему предстояло трансформироваться в утверждение воли эгоистического, крайне переменчивого индивида. Если Лэйн был готов пожертвовать своим «я» (ego) ради ориенталистского канона, то Шатобриан сделал бы всё, чтобы сказанное им о Востоке полностью зависело только от него. Однако ни одному из этих авторов не удалось убедить потомков плодотворно продолжить путь Шатобриана. Наследие Лэйна стало обезличенным как техническая дисциплина: его работами будут пользоваться, но только не как человеческим документом. С другой стороны, Шатобриан видел, что его тексты, подобно имени, столь символично оставленному на пирамиде, будут обозначать его «я» (self). Если же нет, если он, пытаясь продолжить жизнь в своих трудах, потерпит неудачу, это будет всего лишь излишеством, избыточностью.
И хотя все путешественники на Восток после Шатобриана и Лэйна принимали их труды во внимание (в некоторых случаях вплоть до дословного копирования), их наследие воплощает в себе судьбу ориентализма и небогатый выбор открывающихся перед ним возможностей. Можно заниматься либо наукой, как Лэйн, либо самовыражением, как Шатобриан. Проблемы первого были связаны с безличной уверенностью Запада в том, что возможно описывать общие, коллективные явления, а также со свойственной ему тенденцией искать реальность не столько на Востоке как таковом, сколько в своих собственных представлениях о нем. Проблемы второго – в том, что автор в этом случае неизбежно скатывается к уравниванию Востока со своими личными фантазиями, пусть даже это фантазии наивысшего эстетического порядка. Конечно, в обоих случаях ориентализм оказывал мощное воздействие на то, как описывали и характеризовали Восток. Однако такому влиянию и по сей день препятствует ощущение того, что Восток не является ни невозможно общим, ни невозмутимо частным. Искать в ориентализме живое восприятие восточного человека или даже социальной реальности – как обитателей современного мира – напрасное дело.
Влияние двух описанных мной альтернатив – Лэйна и Шатобриана, британской и французской – вот основная причина этого упущения. Рост знания, в особенности знания специализированного, процесс довольно медленный. Будучи далеко не просто суммой сведений, рост знания – это процесс выборочного накопления, замещения, устранения, переформирования и настойчивости в пределах того, что называется исследовательским консенсусом. Легитимность знания в ориентализме на протяжении XIX века строилась не на авторитете религии, как прежде, до эпохи Просвещения, но на том, что можно назвать «восстановительным цитированием» предшествующих авторитетов. Начиная с Саси, подход ученых-ориенталистов был сродни подходу естествоиспытателя, исследующего фрагменты текста, которые он впоследствии редактирует и систематизирует, словно реставратор старых эскизов, который он собирает по несколько набросков вместе ради очевидно содержащейся в них общей картины. А потому и в своем кругу ориенталисты относились к работам друг друга подобным образом – как к источникам цитирования. Например, Бёртон использовал «Сказки тысячи и одной ночи» и материалы по Египту опосредованным образом, через работу Лэйна, цитируя своего предшественника, соперничая с ним и подтверждая его высокий авторитет. В своем путешествии на Восток Нерваль следовал за Ламартином, а последний шел по пути Шатобриана. Коротко говоря, способом приращения знания в ориентализме преимущественно служило цитирование работ предшествующих ученых в этой области. Даже если на его пути встречался новый материал, ориенталист судил о нем на основе перспектив, идеологий и направляющих тезисов, предложенных предшественниками (как часто и делают ученые). Строго говоря, ориенталисты после Саси и Лэйна переписывали Саси и Лэйна, а паломники после Шатобриана переписывали Шатобриана. Из всего этого комплекса переписанных текстов реалии современного Востока систематически исключались, в особенности когда такие талантливые паломники, как Нерваль и Флобер, предпочитали описания Лэйна непосредственному впечатлению и знанию.
В системе знаний о Востоке сам Восток в меньшей степени оказывается местом, нежели топосом, набором референций, скоплением характеристик, имеющим своим истоком, как кажется, выдержки и фрагменты текста, цитаты из работ предшественников, плодов более ранних фантазий или же единым сплавом из всего этого. Непосредственное наблюдение или обстоятельное описание Востока – это фикции, представленные работами о Востоке, хотя это всё, бесспорно и полностью, вторично по отношению к систематическим задачам иного рода. Для Ламартина, Нерваля и Флобера Восток – это ре-презентация канонического материала, направляемая эстетикой и волей автора, способная вызвать интерес у читателя. И тем не менее все три этих автора выступают от лица ориентализма или какого-то из его аспектов, хотя осознанное повествование также играет большую роль. Позднее мы увидим, что, несмотря на всю свою эксцентричную индивидуальность, это осознанное повествование оканчивается пониманием того, как некогда это поняли Бувар и Пекюше, что паломничество – это всего лишь форма копирования.
Начиная свое путешествие в 1833 году, Ламартин сделал это, воплощая свою мечту о «путешествии на Восток как о великом деянии его внутренней жизни»[667]667
Un voyage en Orient [était] comme un grand acte de ma vie intérieure (фр.).
[Закрыть]. Он весь – собрание предрассудков, симпатий, пристрастий: ненавидит римлян и Карфаген, но любит евреев, египтян и индусов, чьим Данте намеревается стать. Вооружившись официальным стихотворным «Прощай», адресованным Франции, в котором перечисляются все его планы относительно Востока, он отбывает в восточном направлении. Поначалу всё, с чем он сталкивается, либо подтверждает его поэтические предсказания, либо подталкивает его к аналогиям. Леди Эстер Стэнхоуп[668]668
Эстер Стэнхоуп (1776–1839) – британская аристократка, авантюристка, исследовательница археологических памятников Ближнего Востока.
[Закрыть] – Цирцея[669]669
Цирцея (Кирка) – младшая богиня в греческой мифологии, владевшая знаниями о зельях и травах. Фигура страха и желания, превращала выступавших против нее людей в животных.
[Закрыть] пустыни; Восток – «родина моего воображения»[670]670
Patrie de mon imagination (фр.).
[Закрыть]; арабы – примитивный народ; библейская поэзия впечатана в земли Ливана; Восток говорит о влекущих просторах Азии и о сравнительной малости Греции. Вскоре, добравшись до Палестины, он превращается в неисправимого созидателя воображаемого Востока. Он утверждает, что равнины Ханаана[671]671
Ханаан – исторический регион на восточном побережье Средиземного моря (территория современных Сирии, Ливана, Израиля и Иордании).
[Закрыть] лучше всего представлены в работах Пуссена и Лоррена. Из «трансляции», как он называл его ранее, этот вояж теперь превращается в молитву и в большей степени подвергает испытанию его память, душу и сердце, нежели глаза, ум или дух[672]672
De Lamartine Alphonse. Voyage en Orient. 1835; reprint éd., Paris: Hachette, 1887. Vol. 1. P. 10, 48, 49, 118,148, 178, 179, 189, 245, 46, 251.
[Закрыть].
Это чистосердечное признание полностью высвобождает аналогические и реконструктивные (и недисциплинированные) порывы Ламартина. Христианство – это религия воображения и воспоминаний, а поскольку Ламартин уверен, что представляет собой тип благочестивого верующего, этот грех он сам себе отпускает. Список его тенденциозных «наблюдений» можно продолжать до бесконечности: встреченная женщина напоминает ему Гайдэ из байроновского «Дон Жуана»[673]673
Гайдэ – возлюбленная Дон Жуана в одноименном произведении Байрона. Они не знают языков друг друга и отец Гайдэ, капитан пиратов Ламбро, против их отношений.
[Закрыть]; отношения между Иисусом и Палестиной подобны отношениями между Руссо[674]674
Жан-Жак Руссо, основоположник романтизма, родился в протестантской Женеве, однако был вынужден покинуть родные края и перебраться в католические районы Франции. В 1754 г. вернулся в Женеву и высказывался за возвращение прав женевского гражданина (сменив религиозную принадлежность). Однако обвинения со стороны парижского парламента в религиозном вольнодумстве и неприличии (в связи с публикацией романа «Эмиль» и религиозным индифферентизмом философа) привели к преследованию Руссо на его исторической родине и уничтожению его трудов.
[Закрыть] и Женевой; реальная река Иордан менее важна, чем пробуждаемая ею «таинственность»; восточные люди в целом и мусульмане в особенности ленивы, их политики капризны, пристрастны и лишены будущего. Другая женщина напоминает ему сюжет из «Аталы»; ни Тассо[675]675
Торквато Тассо (1544–1595) – итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1575).
[Закрыть], ни Шатобриан (чьи путешествия, похоже, часто докучают беспечному себялюбию Ламартина) не смогли понять Святую землю правильно – и т. д. Его заметки об арабской поэзии, о которой он рассуждает чрезвычайно самоуверенно, не выдают никакого неудобства из-за его полного незнания языка. Для него имеет значение лишь то, что во время путешествий по Востоку тот открывается ему как «страна верований и чудес»[676]676
La terre des cultes, des prodiges (фр.).
[Закрыть] и то, что сам он – его назначенный судьбой певец на Западе. Без тени самоиронии Шатобриан провозглашает:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.