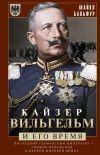Текст книги "Ориентализм"

Автор книги: Эдвард Саид
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
Из этого проекта возникает и новая диалектика. От эксперта по Востоку требуется теперь уже не просто «понимание»: теперь требуется умение заставить Восток действовать, его силы нужно привлечь на сторону «наших» ценностей, цивилизации, интересов и целей. Знание о Востоке прямо переводится в деятельность, а ее результаты дают начало новым течениям мысли и действиям на Востоке. А это, в свою очередь, требует от Белого Человека новых притязаний на контроль, на этот раз уже не в качестве автора научной работы о Востоке, но в качестве творца современной истории, творца Востока в его насущной актуальности (которую, коль скоро он стоял у ее истоков, только эксперт и может понять правильно). Ориенталист теперь становится фигурой восточной истории, неотличимой от нее, ее творцом, ее характерным знаком для Запада. Вот эта диалектика вкратце:
Некоторые англичане с Китченером[853]853
Горацио Герберт Китченер (1850–1916) – офицер британской армии и колониальный администратор.
[Закрыть] во главе были уверены, что восстание арабов против турок могло бы помочь Англии, воюющей с Германией, одновременно покончить и с ее союзницей Турцией. Их знание природы, власти и страны арабоговорящих народов заставляло их думать, что исход этого восстания будет благоприятным, насколько можно было судить по его характеру и образу действия. И они позволили ему начаться, заручившись официальными гарантиями помощи со стороны британского правительства. Тем не менее восстание шарифа[854]854
Шариф – термин для обозначения потомков Пророка (в некоторых сообществах аналогичен термину «сайид»). В данном случае подразумевается хранитель двух священных городов ислама – Мекки и Медины.
[Закрыть] Мекки оказалось для многих полной неожиданностью и застало союзников врасплох. Оно вызвало смешанные чувства и привело к появлению сильных друзей и врагов, чья противоречивая подозрительность привела к неудаче в делах[855]855
Lawrence T. E. The Seven Pillars of Wisdom: A Triumph. 1926; reprint ed. Garden City, N. Y.: Doubleday, Doran & Co., 1935. P. 28.
[Закрыть].
Это краткое изложение Лоуренса первой главы его книги «Семь столпов мудрости». «Знание» «некоторых англичан» создает движение на Востоке, «дела» которого приводит к разнородным последствиям: двусмысленные, наполовину воображаемые, трагикомические результаты этого нового, возрожденного Востока становятся предметом экспертного письма, новой формой ориенталистского дискурса, который представляет видение современного Востока не в виде повествования, а во всей сложности, проблематичности, со всеми обманутыми надеждами, Белым ориенталистом – автором как пророческое, четкое определение.
Предпочтение видения повествованию – что верно даже в отношении такой описательной истории, как «Семь столпов», – мы уже встречали ранее в «Нравах и обычаях» Лэйна. Конфликт между целостным образом Востока (описание, монументальная летопись) и повествованием о событиях на Востоке – это многоуровневый конфликт, включающий несколько различных вопросов. Поскольку этот конфликт довольно часто встречается в ориенталистском дискурсе, стоит кратко его проанализировать. Ориенталист исследует Восток как бы сверху, намереваясь заполучить всё, что открывает ему панорама, – культуру, религию, сознание, историю, общество. Для этого он должен рассматривать каждую деталь сквозь призму ряда упрощающих, редукционистских категорий (семиты, мусульманский ум, Восток и так далее). Поскольку подобные категории носят преимущественно схематический характер и нацелены на результат и, кроме того, поскольку предполагается, что ни один восточный человек не в состоянии познать самого себя так, как это может сделать ориенталист, всякое видение Востока в конце концов вынуждено ради собственной силы и непротиворечивости опираться на того человека, институцию или дискурс, чьим производным оно является. Любое всестороннее видение в основе своей консервативно, и, как мы уже отмечали в истории идей по поводу Ближнего Востока на Западе, эти идеи подкрепляют себя сами, невзирая на любые опровергающие свидетельства. (На самом деле можно утверждать, что они сами создают подкрепляющие их достоверность свидетельства.)
Ориенталист – прежде всего агент всестороннего видения. Лэйн – типичный пример уверенности человека в том, что он полностью подчинил собственные идеи и виденья требованиям некоего «научного» взгляда на феномен, всем известного под именем Востока или восточного народа. А потому видения статично, точно так же, как статичны и научные категории, используемые ориентализмом конца XIX столетия: за «семитами» или «восточным умом» не стоит ничего, это конечные категории, сводящие всё многообразие поведения восточного человека к одному обобщенному представлению. Как дисциплина и как профессия, как особый язык или дискурс, ориентализм стоит на неизменности всего Востока в целом, поскольку без «Востока» было бы невозможно последовательное, понятное и четко сформулированное знание, называемое «ориентализм». Итак, Восток принадлежит ориентализму точно так же, как считается, что существуют определенные сведения, принадлежащие Востоку (или о Востоке).
Вопреки тому, что я называю статичной системой «синхронного эссенциализма»[856]856
По этому поводу см.: Asad Talal. Two European Images of NonEuropean Rule // Anthropology and the Colonial Encounter / Ed. Talal Asad. London: Ithaca Press, 1975. P. 103–118.
[Закрыть], Восток можно в целом обозреть паноптически, хотя в самом этом феномене существует постоянное давление. Источником такого давления является повествование (narrative), в которое, поскольку любая деталь восточной жизни может быть показана в движении или в развитии, вводится диахрония. То, что казалось стабильным, а Восток – это синоним стабильности и никогда не изменяющейся вечности, – теперь оказывается нестабильным. Нестабильность означает, что история – с ее деструктивными подробностями, бесконечными изменениями, тенденциями к росту, упадку или драматическим поворотам – на Востоке и в отношении Востока также возможна. История и повествование, которым она представлена, утверждают, что видения недостаточно, что «Восток» как безусловная онтологическая категория не соответствует потенциальной способности реальности к изменениям.
Более того, повествование – это специфическая форма, которую принимает письменная история в противоположность неизменности видения. Лэйн понимал опасности повествования, когда отказался придать линейную форму и самому себе, и своим трудам, избрав вместо этого монументальную форму энциклопедического, или лексикографического, видения. Повествование утверждает способность человека родиться, прожить жизнь и умереть, способность институтов и реалий к изменениям и вероятность того, что модерн и современность в конце концов возьмут верх над «классическими» цивилизациями. Кроме того, оно утверждает, что доминирование видения над реальностью – это не более чем проявление воли-к-власти, воли-к-истине и к истолкованию, а не объективное условие истории. Короче говоря, повествование представляет противоположную точку зрения, перспективу, сознание в едином пространстве видения, оно подрывает безмятежные аполлонийские выдумки, утверждаемые видением.
Когда в результате Первой мировой войны Востоку пришлось войти в пространство истории, эту работу проделал именно ориенталист-как-агент. Ханна Арендт[857]857
Ханна Арендт (1906–1975) – немецкая и американская исследовательница социально-политической философии.
[Закрыть] блестяще отметила, что партнер бюрократии – имперский агент[858]858
Arendt. Origins of Totalitarianism. P. 218.
[Закрыть], что значит: если коллективное академическое предприятие под названием «ориентализм» было бюрократическим институтом, основанным на определенном консервативном видении Востока, то носителями подобного видения были имперские агенты вроде Т. Э. Лоуренса. В его работе можно видеть первое проявление конфликта между повествовательной историей и видением, по мере того как, согласно его собственным словам, «новый империализм» активно пытался «возложить ответственность на местные народы [Востока]»[859]859
Lawrence T. E. Oriental Assembly. Ed. A. W. Lawrence. N. Y.: E. P. Dutton & Co., 1940. P. 95.
[Закрыть]. Теперь соперничество между ведущими европейскими державами заставляло их подталкивать Восток к активной жизни, пытаться поставить Восток себе на службу, превратить извечную «восточную» пассивность в энергию современной жизни. Однако при этом важно было не позволять Востоку идти собственным путем, отбиваться от рук, поскольку, согласно каноническому взгляду, у восточных народов отсутствовала традиция свободы.
Драматизм работы Лоуренса в том и состоит, что он олицетворяет борьбу, во-первых, за то, чтобы привести Восток (безжизненный, вневременной, бессильный) в движение, во-вторых, за то, чтобы придать этому движению исходно западную форму и, в-третьих, чтобы вместить новый и возрожденный Восток в свое персональное видение, в ретроспективном модусе которого есть место чувству поражения и предательства.
Я намеревался создать новую нацию, восстановить утраченное влияние, дать двадцати миллионам семитов фундамент, на котором они могли бы построить заветный дворец национальной мысли… Для меня все подчиненные провинции империи не стоят жизни и одного английского парня. Если я восстановил на Востоке некоторое самоуважение, цели, идеалы, если я сделал обычное превосходство белых над красными более требовательным, то в определенной степени я помог этим народам войти в новое содружество, где господствующие народы забудут свои зверские свершения, а белые, красные, желтые, коричневые и черные, не задумываясь, встанут бок о бок на службу миру[860]860
Цит. по: Tabachnick, Stephen Ely. The Two Veils of T. E. Lawrence / Studies in the Twentieth Century. Fall 1975. Vol. 16. P. 96–97.
[Закрыть].
Однако ничто из этого, ни в виде намерения, ни в виде предпринятого усилия или неудавшегося проекта, не было бы возможно даже в первом приближении без изначальной перспективы Белого ориенталиста:
Еврей в «Метрополе» в Брайтоне, скупец, почитатель Адониса, распутник в бурлящем котле Дамаска, – все они в равной степени выступают знаком способности семитов к наслаждению, выражением того же самого нерва, который дает нам на одном полюсе самоотрицание ессеев[861]861
Ессеи – одна из мистических иудейских сект.
[Закрыть], ранних христиан или первых халифов, ищущих путь к небесам для нищих духом. Семит колеблется между наслаждением и самоотрицанием.
В этих утверждениях Лоуренс опирается на респектабельную традицию, озаряющую, подобно лучу маяка, весь XIX век. В качестве источника света, конечно, выступает «Восток», и у него хватает сил, чтобы в своих пределах осветить на местности и всё грубое, и всё утонченное. Еврей, почитатель Адониса, дамасский распутник, – это не столько знаки человечества, сколько, скажем так, семиотическое поле под названием «семитское», выстроенное в соответствии с семитской ветвью ориентализма. Внутри этого поля было возможно следующее:
…арабов можно было держать на привязи идеи, поскольку беззаветная преданность ума делала их послушными слугами. Никто из них не нарушит уз до тех пор, пока не придет успех, а с ним ответственность, долг и обязательства. Затем идея уходит, и работа окончена – в руинах. Без веры их можно было бы вести на все четыре стороны земли (но не на небеса), просто указав им на сокровища и радости земные. Но если по пути им встретится… пророк идеи, которому негде преклонить голову и который добывает пропитание благодаря милостыне или птицам, они позабудут все богатства ради его вдохновенных речей… Они переменчивы, как вода, и, как вода, они в конце концов всё превозмогут. Со времен зарождения жизни набегающими одна за другой волнами бьются они о берега плоти. Все волны разбились… Одну такую волну (и не последнюю) поднял и я и скользил на ней впереди дуновения идеи, пока она не достигла гребня, не обрушилась и не пала на Дамаск. Откат этой волны, отброшенный сопротивлением облеченных властью, послужит материей для следующей волны, когда в свое время море вздыбится вновь.
«Могли бы» и «если бы» – это способ Лоуренса ввести самого себя, так сказать, в это поле. Так готовится почва для последнего предложения, где Лоуренс называет самого себя возглавляющим арабов. Как и Курц у Конрада[862]862
Курц – персонаж романа «Сердце тьмы», начальник торгового поста, торговец слоновьей костью, позиционирующий себя как «полубог» среди африканцев.
[Закрыть], Лоуренс оторвался от своей почвы настолько, что отождествил себя с новой реальностью, дабы, как он скажет позднее, он мог нести ответственность за то, что «подталкивал вперед… новую Азию, чье время неумолимо надвигается на нас»[863]863
Lawrence. Seven Pillars of Wisdom. P. 42–43, 661.
[Закрыть].
Восстание арабов обретает смысл, только если этот смысл привносит Лоуренс. Смысл, которым он наделял Азию, – это триумф, «ощущение усиления… того, что мы чувствовали, и в том, как мы восприняли чужие боль и опыт, личность другого». Теперь ориенталист выступает уже как представитель Востока, в отличие от прежней позиции включенного наблюдателя, каким был Лэйн, для которого Восток всегда следовало осторожно держать на расстоянии. Однако внутри Лоуренса разворачивается неразрешимый конфликт Белого Человека и Человека Восточного, и, пусть он нигде и не говорит об этом открыто, этот конфликт в действительности замещает в его сознании исторический конфликт между Востоком и Западом (East and West). Сознавая свою власть над Востоком, сознавая также собственную двойственность и не осознавая, что на Востоке есть нечто, подсказывающее ему, что история – это история, и что даже без него арабы в конце концов ввязались бы в драку с турками, Лоуренс сводит весь рассказ о восстании (его недолгом успехе и горьком поражении) к своему собственному видению его как неразрешенной, «бесконечной гражданской войне».
И всё же мы привнесли эту замену в действительности ради самих себя, или, по крайней мере, ради нашей выгоды: и можем вырваться из этого знания, только если поверим в смысл и цель…
Похоже, что для нас, идущих первыми по этой извилистой дорожке лидерства, нет прямого пути, круг в круге неведомых, стыдливых мотивов, перечеркивающих или удваивающих то, что происходило прежде[864]864
Ibid. P. 549, 550–552.
[Закрыть].
К этому внутреннему ощущению поражения Лоуренсу позднее пришлось добавить теорию о «стариках», укравших у него победу. В любом событии для Лоуренса было главным то, что, как белый эксперт и как наследник давней традиции академического и обыденного знания о Востоке, он способен подчинить стиль своей жизни их стилю, а потому может принять на себя роль восточного пророка, придающего форму движению к «новой Азии». И когда по каким-то причинам это движение терпит неудачу (преуспели другие, его цели были преданы, а мечты о независимости – обесценены), значение имеет только то разочарование, которое переживает он, Лоуренс. Лоуренс отнюдь не просто человек, затерявшийся в круговороте событий: он безоговорочно отождествляет себя с борьбой за рождение новой Азии.
Если Эсхил представил нам Азию, скорбящую о потерях, а Нерваль выразил разочарование Востоком, оказавшимся далеко не таким очаровательным, как ему бы хотелось, Лоуренс становится и тем и другим – и континентом скорби, и субъективным сознанием, испытывающим почти вселенское разочарование. В конце концов Лоуренс и его видение – причем не только благодаря Лоуэллу Томасу[865]865
Лоуэлл Томас (1892–1981) – американский писатель, актер и телеведущий. Побывал в Палестине как военный корреспондент и снял большое количество материала о Лоуренсе и его деятельности. Впоследствии активно выступал с лекциями и кинопоказами, рассказывая о деятельности Лоуренса и событиях на Ближнем Востоке.
[Закрыть] и Роберту Грейвсу[866]866
Роберт Грейвс (1895–1985) – британский поэт, автор исторических романов. В 1927 г. опубликовал коммерчески успешную биографию Лоуренса Lawrence and the Arabs (писатель был близким другом последнего и пользовался его поддержкой при написании произведения).
[Закрыть] – становятся самим символом восточной проблемы: Лоуренс принял на себя ответственность за Восток, перераспределив свой познавательный опыт между читателем и историей. То, что Лоуренс представляет читателю, – это непосредственная власть эксперта, власть быть, пусть и недолго, самим Востоком. Все события, которые якобы относятся к историческому арабскому мятежу, в итоге сводятся к впечатлениям самого Лоуренса.
В этом случае стиль не только способность символизировать такие предельно широкие обобщения, как «Азия», «Восток» или «арабы», но также форма замещения и включения, когда голос рассказчика становится историей как таковой и – для белого западного человека как читателя и как писателя – тем единственным Востоком, который он способен понять. Так же, как Ренан, описавший возможности, открытые семитам в культуре, мышлении и языке, Лоуренс размечает (и, конечно же, присваивает) пространство и время современной Азии. Эффект этого стиля в том, что он соблазнительно сближает Азию и Запад, но ненадолго. В конце концов мы остаемся с ощущением, что печальное расстояние, всё еще разделяющее «нас» и Восток, обречено нести свою чужеродность как знак вечной отчужденности от Запада. Это разочаровывающее заключение подкрепляется (одновременно) и заключительным пассажем «Поездки в Индию» Э. М. Форстера[867]867
Эдвард Морган Форстер (1879–1970) – английский романист и эссеист.
[Закрыть], где Азиз и Филдинг делают попытку примирения, но терпят при этом неудачу:
«Почему же мы не можем теперь стать друзьями? – спросил другой, в волнении сжимая его руку. – Это то, чего хочу я, и то, чего хочешь ты». Но этого не хотели лошади – они разошлись в разные стороны; этого не хотела земля, посылавшая им на встречу камни, между которыми всадникам приходилось проезжать друг за другом; храмы, тюрьма, дворец, птицы, падаль, гостиница, попадавшиеся навстречу, когда они выезжали из расщелины и видели под собой Мау[868]868
Название города и региона в Индии.
[Закрыть] – они этого не хотели, они вторили сотней голосов: «Нет, не сейчас», и небо говорило: «Нет, не там»[869]869
Forster E. M. A Passage to India. 1924; reprint ed., N. Y.: Harcourt, Brace & Co., 1952. P. 322.
[Закрыть].
Этот стиль, это краткое определение – то, с чем Восток сталкивался неизменно.
Несмотря на весь пессимизм, в его фразах есть и позитивное политическое послание. Пропасть между Востоком и Западом (East and West) можно преодолеть, как это понимали Кромер и Бальфур, при помощи превосходящего знания и власти Запада. Видение Лоуренса было дополнено во Франции книгой Мориса Барре[870]870
Морис Барре (1862–1923) – французский писатель, политик, ведущая фигура французского национализма.
[Закрыть] «Обследование Леванта», представляющей собой описание путешествия автора по Ближнему Востоку в 1914 году. Подобно многим другим работам, «Обследование» – это подведение итогов, его автор не только ищет истоки западной культуры на Востоке, но также повторяет путь Нерваля, Флобера и Ламартина в их путешествиях по Востоку. Для Барре, однако, в этом путешествии существует еще одно, политическое измерение: он ищет доказательства и неоспоримые подтверждения созидательной роли Франции на Востоке (East). Разница между экспертизой французов и британцев всё еще существует: если первые имеют дело с реальным соединением народов и территории, то последние – с областью духовной возможности. Для Барре Франция лучше всего представлена французскими школами. «Восхитительно видеть маленьких восточных девчушек, знающих и так прелестно воспроизводящих фантазию и мелодию [своим разговорным французским] Иль-де-Франс», – говорит он о школе в Александрии. Если у Франции там нет колоний, это вовсе не означает, что там у нее нет совсем ничего:
Там, на Востоке, есть чувство Франции, столь религиозное и столь сильное, что оно способно поглотить и примирить все наши самые разнонаправленные устремления. На Востоке мы представляем духовность, правосудие и идеалы. Англия там сильна, Германия всемогуща, но душой Востока владеем мы.
Громогласно оспаривая мнение Жореса[871]871
Жан Жорес (1859–1914) – французский социалист, политик. Выступал с антиколониальной риторикой.
[Закрыть], этот заслуженный европейский доктор предлагает вакцинировать Азию от собственных болезней, превратить восточных людей в людей Запада, установить целительный контакт между ними и Францией. Но даже в этих проектах видение Барре сохраняет то самое различие между Востоком и Западом (East and West), которое он сам намерен смягчать.
Как можем мы создать для себя интеллектуальную элиту, с которой мы сможем работать, из восточных людей, не утративших своей идентичности и продолжающих развиваться в соответствии с собственной нормой, сохранивших связь с семейными традициями, которые бы стали связующим звеном между нами и массой местного населения? Как нам установить отношения, имея при этом в виду подготовку почвы для заключения соглашений и договоров, что стало бы желательной формой нашего политического будущего? Всё в итоге сводится к тому, чтобы добиться от этих чуждых нам людей желания поддерживать контакт с нашим разумом, даже если это стремление в действительности будет исходить из их собственного понимания своей национальной судьбы[872]872
Barrés Maurice. Une Enquête aux pays du Levant. Paris: Pion, 1923. Vol. 1. P. 20; Vol. 2. P. 181, 192, 193, 197.
[Закрыть].
Курсив в последнем предложении принадлежит самому Барре. Поскольку в отличие от Лоуренса и Хогарта (чья книга «Странствующий ученый» представляет собой очень информативное и совершенно лишенное романтики описание двух поездок по Леванту в 1896 и 1910 годах[873]873
Hogarth D. G. The Wandering Scholar. London: Oxford University Press, 1924. Сам Хогарт описывает свой стиль как стиль «исследователя во-первых и ученого – во-вторых» (P. 4).
[Закрыть]) у него речь идет о мире далеких возможностей, он оказывается в большей степени подготовленным, чтобы представить себе Восток (Orient), идущий собственным путем. Однако проповедуемая им связь (или цепь) между Востоком и Западом (East and West) предназначена для того, чтобы позволять оказывать постоянное интеллектуальное давление, направленное с Запада на Восток (from West to East). Барре видит эту картину не как волны, сражения, духовные приключения, но как необходимость культивирования культурного империализма, столь же неискоренимого, сколь и неуловимого. Британское видение, представленное Лоуренсом, относится к основному течению, в котором Восток, народы, политические организации, движения направляются и контролируются благодаря профессиональной опеке Белого Человека. Восток – это «наш» Восток, «наш» народ и «наша» власть. Англичане в меньшей степени склонны разделять массы и элиты, нежели французы, чьи восприятия и политика всегда основывались на меньшинствах и на внутреннем давлении духовного единства Франции и ее колониальных детей. Британские агенты-ориенталисты – Лоуренс, Белл, Филби, Сторрз, Хогарт – и в ходе, и после Первой мировой войны приняли на себя обе роли: и роль эксперта-авантюриста-эксцентрика (начало которой положено в XIX веке Лэйном, Бёртоном и Эстер Стенхоуп), и роль колониальной власти, занимающей центральную позицию рядом с местным правителем, два самых известных примера здесь – отношения Лоуренса с хашимитами и Филби с династией саудитов. Британская экспертиза формировалась вокруг консенсуса, ортодоксии и суверенного правления; французская ориентальная экспертиза в межвоенный период утверждалась через всё неортодоксальное, через духовные связи и эксцентриков. Вовсе не случайно, что из двух крупнейших научных карьер в этот период – карьеры англичанина и карьеры француза (я имею в виду Г. А. Р. Гибба и Луи Массиньона) – одна строилась вокруг роли сунны в исламе (т. е. на ортодоксии), а другая фокусировалась вокруг псевдохристоподобной и теософской фигуры суфия Мансура ал-Халладжа. Мы вернемся к этим двум крупнейшим ориенталистам чуть позже.
В этом разделе я уделил столько внимания имперским агентам и творцам политики вместо ученых лишь для того, чтобы подчеркнуть главный произошедший в ориентализме, в знании о Востоке, в связях с ним сдвиг – сдвиг от академического к инструментальному подходу. Этот сдвиг сопровождало также и изменение подхода отдельных ориенталистов. Они уже не считали себя (как это было с Лэйном, Саси, Ренаном, Коссеном, Мюллером и др.) членами гильдии с ее собственными традициями и ритуалами. Теперь ориенталист стал представителем своей западной культуры, человеком, чья работа вмещает в себе масштабную двойственность, символическим проявлением которой (независимо от ее конкретной формы) эта работа и выступает: западное сознание, знание, наука, овладевающая самыми отдаленными границами Востока и им самим в мельчайших подробностях. Официально ориенталист считает, что способствует союзу между Востоком и Западом (Orient and Occident), но по большей части он вновь подтверждает технологическое, политическое и культурное превосходство Запада над Востоком. В таком союзе история представлена в очень разбавленном виде, если вообще представлена. Рассматриваемая как текущее развитие, как нить повествования или как динамичная сила, систематически и материально раскручивающаяся во времени и пространстве, человеческая история, восточная или западная, подчинена эссенциалистской, идеалистической концепции Востока и Запада (Occident and Orient). Поскольку ориенталист ощущает себя стоящим на границе, разделяющей Восток и Запад (East-West divide), он не только использует широкие обобщения, но и стремится превратить каждую сторону восточной или западной (Oriental or Occidental) жизни в непосредственный знак соответствующей географической части.
В текстах ориенталиста взаимозаменяемость его экспертного мнения и его свидетельства как представителя Запада выражается прежде всего визуально. Вот типичный пассаж (цитируемый Гиббом) из классической работы Дункана Макдональда «Религиозные взгляды и жизнь в исламе» (1909):
Арабы показали себя не слишком склонными принимать всё на веру, но упрямыми материалистами, вопрошающими, сомневающимися, насмехающимися над собственными предрассудками и обычаями, увлеченно проверяющими сверхъестественное, и всё это – в любопытной легкомысленной, почти детской манере[874]874
Цит. по: Gibb H. A. R. Structure of Religious Thought in Islam // Studies on the Civilization of Islam / Eds Stanford J. Shaw and William R. Polk. Boston: Beacon Press, 1962. P. 180.
[Закрыть].
Здесь ключевой глагол – «показали», который дает нам понять, что арабы именно так проявили себя (вольно или невольно) под испытующим взором эксперта. Количество приписываемых им свойств за счет множественного наложения придает «арабам» определенную экзистенциальную весомость. Таким образом «арабов» вынуждают присоединиться к довольно широкой категории, общей для всей современной антропологической мысли, – к категории «по-детски примитивных». Также Макдональд подразумевает, что для подобных описаний существует особая привилегированная позиция, которую занимает западный ориенталист, чья репрезентативная функция состоит в том, чтобы показать то, что необходимо увидеть. В итоге всю историю ориентализма можно рассматривать как своего рода вершину или чутко реагирующий фронтир, принадлежащий одновременно и Востоку, и Западу (Orient and Occident). Сложная динамика человеческой жизни – то, что я называю историей-повествованием, – становится либо неуместной, либо незначительной в сравнении с панорамным видением, для которого подробности восточной жизни лишь подтверждают «восточность» (Orientalness) предмета исследования и «западность» (Westernness) наблюдателя.
Если это видение и напоминает в чем-то взгляд Данте, то ни в коем случае нельзя упускать из виду то, насколько сильно отличаются этот Восток и Восток Данте. В этом случае доказательства должны быть (и считаются) научными, их происхождение, говоря на манер генеалогии, восходит к европейской интеллектуальной традиции и гуманитарной науке XIX столетия. Более того, Восток – это уже не диковина, не враг и не область экзотики, это политическая реальность выдающегося и значимого момента. Подобно Лоуренсу, Макдональд не способен разделить свои роли западного человека и ученого. Таким образом, его видение ислама, как и представление Лоуренса об арабах, смешивает определение объекта и идентичность дающего определение лица. Все восточные арабы должны быть подогнаны под видение восточного типа, сконструированное западным ученым, так же, как и конкретный опыт встреч с Востоком, в котором человек заново постигает суть Востока как следствие своего внутреннего от него отчуждения. У Лоуренса и у Форстера это последнее ощущение порождает уныние и чувство личного провала. У таких ученых, как Макдональд, оно только способствует усилению самого ориенталистского дискурса.
Оно же распространяет этот дискурс дальше, на мир культуры, политики и на действительность. В межвоенный период, как мы можем с легкостью судить по романам Мальро[875]875
Андре Мальро (1901–1976) – французский писатель, культуролог и политик.
[Закрыть], отношения Востока и Запада (East and West) обрели постоянство – всеобщее и тревожное. Повсюду были видны признаки движения Востока к политической независимости: в расчлененной Османской империи его подогревали союзники, что, как это хорошо видно на примере арабского восстания и его последствий, быстро стало проблемой. Теперь Восток стал вызовом, причем не только Западу в целом, но самому духу, знанию и империи Запада. После целого столетия постоянного вмешательства (и изучения) Востока (Orient) роль Запада на Востоке (East), реагирующем на кризисы современности, представлялась значительно более деликатной. Существовала проблема открытой оккупации, проблема управляемых территорий, проблема европейской конкуренции на Востоке (Orient), проблема взаимодействия с местными элитами, местными народными движениями и местными требованиями самоуправления и независимости, проблема цивилизационных контактов между Востоком и Западом (Orient and Occident). Подобные вопросы требовали пересмотра западного знания о Востоке. В 1925 году всерьез размышлял об остроте проблемы Восток – Запад (East-West) не кто иной, как сам Сильвен Леви [(1863–1935)], президент французского Азиатского общества в 1928–1935 годах, профессор-санскритолог в Коллеж де Франс:
Наш долг в том, чтобы понять восточную цивилизацию. Решение гуманистической проблемы, которая на интеллектуальном уровне состоит в том, чтобы приложить эмоциональные и интеллектуальные усилия для понимания иностранных цивилизаций как в их прошлых, так и в их будущих формах, особенным образом возложено на нас, французов [хотя аналогичные чувства мог бы выразить англичанин: проблема была общеевропейская], практическим образом в отношении наших обширных азиатских колоний…
Эти люди – наследники долгой традиции истории, искусства и религии, смысл которой они еще не полностью утратили и которую они, по всей видимости, стремятся продлить. Мы взяли на себя ответственность вмешаться в их развитие, иногда без спросу, иногда же в ответ на их просьбу… Мы претендуем, справедливо это или нет, на то, что представляем более высокую цивилизацию, и по праву, данному нам этим превосходством, постоянно твердим с уверенностью, которая кажется местному населению недопустимой, что можем ставить под сомнение все их местные традиции…
В целом, куда бы ни проник европеец, местный взирал на себя с каким-то общим отчаянием, которое было действительно острым, поскольку он чувствовал, что его благополучие в моральной сфере еще в большей степени, чем в материальной, вместо того чтобы возрастать, уменьшалось. Всё это сделало основу его социальной жизни хрупкой и рушащейся под ним, а золотые колонны, опираясь на которые, он думал восстановить свою жизнь, теперь кажутся мишурой.
Разочарование перешло в затаенную вражду по всему Востоку, от края и до края, и вражда эта ныне уже близка к тому, чтобы вылиться в ненависть, а ненависть только того и ждет, чтобы стать действием.
Если по причине лености или непонимания Европа не сделает никаких усилий, которые лишь в ее собственных интересах, то азиатская трагедия подойдет к своей критической точке.
Именно здесь наука – форма жизни и инструмент политики – везде, где на карту поставлены наши интересы, – оказывается в долгу перед собой, в долгу проникнуть в местную цивилизацию и жизнь, чтобы открыть их фундаментальные ценности и устойчивые характеристики, а не душить местную жизнь бессвязными угрозами европейского цивилизационного импорта. Мы должны предложить этим цивилизациям самих себя, как мы предлагаем наши товары на местном рынке [курсив как в оригинале][876]876
Lefèvre Frédéric. Une Heure avec Sylvain Lévi // Mémorial Sylvain Lévi / Éd. Jacques Bacot. Paris: Paul Hartmann, 1937. P. 123–124.
[Закрыть].
Леви без труда соединяет ориентализм с политикой, поскольку давнюю (точнее, продолжающуюся) западную интервенцию на Восток отрицать невозможно – как из-за ее последствий для знания, так и в силу воздействия на злополучных местных жителей. И то и другое вносит свою лепту в ужас грядущего. Несмотря на декларируемый гуманизм и трогательную заботу о ближних, Леви представляет нынешний момент в неприятно ограниченных понятиях. Считается, что восточный человек чувствует, что его миру угрожает превосходящая цивилизация, при этом его мотивом является вовсе не позитивное стремление к свободе, политической независимости или культурному развитию на собственных основаниях, а вражда или завистливая злоба. Панацея от этого возможного ужасного поворота событий – предложить Восток западному потребителю, вывести его на рынок, сделать его одним из многочисленных товаров, конкурирующих за внимание. Одним ударом можно разрядить напряжение на Востоке (позволив ему считать себя «равным» на западном рынке идей) и унять беспокойство Запада по поводу надвигающейся восточной волны. И наконец, главный тезис Леви (и его наиболее красноречивое признание): с Востоком надо что-то делать, иначе «азиатская трагедия подойдет к критической точке».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.