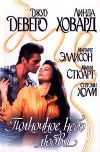Текст книги "Такая роковая любовь. Роман. Книга 2"

Автор книги: Елена Поддубская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
«И, возможно, никогда бы я не познал, что такое настоящая любовь. Та, что вкушается с потом неги и бережётся бархатной глубиной глаз дикой оленихи», – грустно заключил про себя Кравцов, обернувшись на Анну. Она, впервые не понимая смысла его взгляда, виновато опустила глаза, пряча за ними набежавшие слёзы.
– Простите мне всё, Николай Александрович, – неожиданно вдруг попросил Кравцов. Он поднялся, еле заметно протягивая руку, как для пожатия.
– Бог простит, – ответил ему больной без всякой злобы. Развернувши своё кресло к барьеру, за которым сидел Кравцов, старик поднял голову как можно выше, – Всем нам когда-то перед ним ответ держать, – он указал пальцем в потолок, – Потому и я, зная, что скоро встречусь с ним, не могу больше молчать. Сначала хотел, чтобы ты ответил за смерть Ларисы. Да только неправильно это. Самое страшное наказание, оно у каждого внутри сидит, – Фёдоров положил руки на грудь и замолчал, словно погрузился в дремоту. Изо рта его потекла струйка слюны. Фёдоров не обратил на это никакого внимания. Зал всё ещё молчал.
– Вам есть что ещё добавить, Николай Александрович? – обратился главный судья.
Фёдоров поднял голову и, глядя на Кравцова, скривился, как от боли:
– Я решил рассказать вам всё, как есть. А ты, Кравцов, если виновен в чём, – сочтёмся на том свете. А осуждать тебя за то, что любишь её, – взгляд больного мужчины метнулся на неподвижном лице на Анну, затем снова вернулся к Николаю, – не имею права. И никто не имеет.
Фёдоров повернулся к судье и секундой зафиксировал его взглядом прежде, чем его голова окончательно упала на грудь. Ольга Антоновна, сидящая на переднем ряду, сделала знак судье. Он понял и кивнул милиционеру.
– Увезите свидетеля.
– Простите нас оба, – попросила Ольга Антоновна, подойдя к Николаю и Анне, – И простите, что не вмешались раньше.
Ответить Анна не смогла: в горле встал ком, глаза наполнились слезами. В зале в это время плакали многие.
– Суд удаляется на совещание, – прогремел голос судьи.
«Должен же я когда-то закончить этот процесс», – подумал он, боком оглядываясь на ходу на зал и на Фёдорову. В судейском желудке давно уже урчало от голода, и подвергать свой организм дельнейшим испытаниям из-за вечных тяжб противоборствующих сторон он не собирался.
«Увы, дорогой Соев, ничем более помочь тебе я не могу. Усмири своё сутяжническое помешательство, расслабься и переключись на что-то другое, – хотел бы посоветовать судья адвокату обвинения, столкнувшись с ним на выходе из суда, но не стал. Из жалости. Быстро отведя глаза от повисшего на нём безысходного взгляда, судья наспех попрощался со всеми, кто стоял на крыльце и, сев в «Ауди» дорогой модели, мягко отъехал.
Только что, единогласным решением декабрьского суда тысяча девятьсот девяносто восьмого года, оба обвиняемые в убийстве Ларисы Фёдоровой были оправданы и освобождены. Без права опровержения.
Глава пятнадцатая: Ангелы свободы
Николай стоял напротив выхода из женской тюрьмы и, не отрывая взгляда от двери, полушёпотом считал минуты. С момента, определённого органами правосудия, прошло, по подсчётам Кравцова, как минимум полчаса, а Анна всё никак не появлялась.
Несмотря на то, что во время последнего заседания Кравцов и Керман были оправданы, из-под стражи их освободили не сразу.
– Это тебе не телесериал, где решение суда по освобождению вменяется мгновенно, – успокаивал Николая Рябов, похлопывая по плечу.
Исход процесса не просто радовал Евгения Петровича, он в очередной раз подтверждал домыслы о том, что ни одно дело, ведомое на Земле, не обходится без контроля высших сил. Тех, что человеку недоступны, и тех, что бдят над ними всеми. Кто и когда мог заранее предсказать появление на сегодняшнем судебном заседании родителей погибшей Ларисы Фёдоровой? А уж тем более кто мог предположить, что они внесут показания не в пользу обвинения, а в пользу защиты? Никто. Но только, видать, так было угодно кому-то в самой высшей инстанции, раз подзащитных Рябова оправдали окончательно. И никакие атеистические идеи, прочно поселённые в адвокатской голове ещё со студенческой скамьи, не могли противостоять столь фривольным отступлениям в рассуждениях коммуниста со стажем.
Провожая Николая к милицейскому РАФику, в котором бывший осужденный должен был вернуться на место прежнего заключения теперь уже в качестве свободного человека, Рябов всё ещё приговаривал, объясняя: – Заполнят массу формуляров наши писаки, а потом отпустят. Недолго ждать осталось. Наберитесь терпения. День – два и всё, что было, останется в прошлом навсегда и забудется, как страшный сон.
– Наберёмся, – Николай сел на место рядом с шофёром. Стражу, по оглашению приговора, отменили тут же. – Только вот забыть получится вряд ли.
Он оглянулся в надежде увидеть Анну. Но её уже увезли. Перед этим они успели побыть вместе несколько минут. Мгновения, во время которых Анна, уткнувшись в плечо Николая, тихо плакала. Вокруг стояли Надежда, Иван, их дети, приехавшие из Калинок Верка и Фёдор Латыповы, их старшая дочь Татьяна. Родные лица озарялись улыбками. Вымученные тяготами длительного ожидания, улыбки были пока ещё натянутыми.
– Вряд ли такое забудется, – опять прошептал Николай, но всё же крепко потряс адвокату руку, – А вам, Евгений Петрович, спасибо особое. Если бы не вы…
– Ладно, Коля, потом, – захлопнул Рябов дверь машины.
Сев в машину Кравцов с застывшим лицом всю дорогу ворошил мысли о том промежутке времени, что провёл в тюрьме, и действительно думал, что будет вспоминать про это всю жизнь. Но теперь, находясь на свободе вот уже вторые сутки, стоял и смотрел на проходную тюрьмы, как обычный человек.
«Забыл или просто не хочу вспоминать?» – удивлялся Николай.
Упившись в первый вечер освобождения до полуобморока, он до сих пор не ощущал себя трезвым.
«Пьянит воздух свободы! Ведь и вправду пьянит. Не врал тот, кто сказал это первым», – признавался он себе.
От декабрьского мороза, пробравшего неожиданно, стали постукивать зубы. За время пребывания в тюрьме Кравцов отвык и от холода тоже.
«Быстрей бы уже её выпускали!», – думал мужчина с досадой на проволочку.
Анна с выходом на волю задержалась на пять дней. Об этом Николая предупредил всё тот же Евгений Петрович. Придя к нему в тюрьму вечером после оправдательного процесса, Рябов убедился, что его подзащитного перевели в отдельную камеру, где ему ничто не угрожает дожидаться оформления бумаг, и постарался успокоить.
– Ты ведь знаешь, что она отказалась от немецкого гражданства, – напомнил Рябов, – Вот у них там и вышла какая-то промашка с оформлением русского паспорта. Гражданство-то ей вернули, а бумаги выписать не успели. А куда без паспорта? Никуда. Любой контроль на улице, и опять проблем не оберёшься. Не беспокойся, у неё всё хорошо: её, как и тебя, держат отдельно, в тюремном лазарете.
Николай посмотрел на адвоката с разочарованной усмешкой.
– Евгений Петрович, хорошей тюрьмы не бывает: хоть лазарет, хоть изолятор.
– Понимаю, Коля, всё понимаю. Но теперь от меня вообще ничего не зависит. ОВИР хоть и принадлежит УВД, живёт отдельной жизнью. У них свои прерогативы. Они – формалисты, каких мало. Надеюсь, что за пару дней управятся и с пропиской, и с оформлением, и к выходным Анну освободят, – прикинул адвокат вслух.
Суд с окончательным решением состоялся во вторник. Николай вышел из тюрьмы в четверг. Анне же пришлось «переспать» в медизоляторе не только наступившие после суда выходные, но и начало следующей недели. И вот сегодня, во вторник, ровно через неделю, Анна Керман должна была выйти на свободу. Николай, не пожелавший ехать в Калинки без неё, томился все эти дни ожиданием на московской квартире Надежды и Ивана. Родные и друзья побыли вместе с ним три дня, а в воскресенье с утра пораньше уехали в деревню. Компанию бывшему осужденному разбавляли племянник Егор и Татьяна Латыпова – невеста на уже законных правах. Но днём молодые учились и работали; Кравцов видел их только по вечерам. Впрочем, он настолько привык отстраняться ото всех, что одиночество не мешало. В противовес тому, о чём мечтал находясь под стражей, планируя длительные прогулки по Москве, поездки на природу, походы в кино или музеи, в первые дни свободы освобождённый не испытывал никакого желания выходить из дома. Обалдевший от шума и многообразия города, он заранее предвкушал упоение от деревенской тишины. Зимние вечера в родительском доме перед печкой и с Анной вдвоём представлялись Кравцову теперь самым высшим наслаждением, какое только можно было пожелать. Отчуждённость от суетности бытия, впечатанная заключением, должна была пройти не сразу. Огромное пространство, представшее перед узником за пределами камеры, пугало и казалось незнакомым. Николай никак не хотел оставаться с ним один на один, опасаясь потеряться в мире вне четырёх стен и соглашаясь на прогулки только в сопровождении родных. Так должен был бы чувствовать себя человек, страдавший всю жизнь слепотой и вдруг, в силу каких-то магических сил, обретший зрение. Переоценка окружающего пространства, произведённая по отношению к вещам, знакомым ранее благодаря исключительно четырём другим ощущениям, являлась своего рода шоком. Мозг, вмещавший в себя теперь ещё и активную зрительную информацию, быстро уставал и реагировал на усталость, включая защитные реакции. Именно этим объяснялась патологическая сонливость, динамическая пассивность и притупление вкусовых качеств бывшего узника. Единственным чувством, работавшим наряду со зрением с полной интенсивностью, было обоняние. Сродни зрению, не упускающему в эти первые дни свободы любую мелочь, обоняние Николая впускало внутрь организма все ранее знакомые запахи, от преобразования которых он то замирал, как встревоженный зверь, то чувствовал в себе желание плакать, как разбуженный ребёнок, то оживлялся, как возбуждённый самец. Обоняние вело по улицам Москвы, заранее напоминая расположение их строений, особенности той или иной станции метро, ассортимент того или иного магазина. В одних местах Кравцову было комфортно и спокойно, в других неуютно и тревожно.
Стоя напротив тюрьмы, из которой вот-вот должна была выйти Анна, Николай знал, что дрожь его должна своим присутствием не только морозу, но прежде всего, и скорее всего, эмоциональной возбудимости. А проще говоря – разболтавшимся нервам. И в тот момент, когда двери тюремной проходной наконец открылись и Николай увидел в них Анну, первое, что он понял, было то, что теперь им вдвоём потребуется много времени для того, чтобы точно знать, как именно распорядиться дарованной свободой.
Быстро охватив открывшийся перед ней простор, Анна не сразу различила одинокую фигуру Николая. Он стоял на фоне белых деревьев по другую сторону дороги и помахал ей издалека, давая ориентир. Анна согласно кивнула, подчиняясь чужому жесту, и двинулась навстречу интуитивно, а не потому, что признала. Протянув руки в её сторону, Кравцов медленно побрёл через проём в заснеженном кустарнике, ограничивающем тротуар, и остановился только тогда, когда Анна оказалась совсем рядом. Они стояли на середине заледенелой дороги, на которой в любой момент могли появиться машины, но не осознавали этого. В глазах недавних пленников было только лицо другого. Как бы заново вглядываясь в забытые дорогие черты, встретившиеся молчали. Признаваться в чём-то не было сил. Да и не нужны им были слова. Всё заменяло полученное обретение.
Наконец Анна подошла к Николаю совсем близко и вымученно улыбнулась.
– Всё, Аня, конец всему, – сказал Кравцов надломленным голосом. Он знал, что стал с тюрьме настолько сентиментальным, что расплакаться мог от любой эмоции: положительной, как отрицательной.
– Увези меня отсюда поскорее, – попросила женщина и уткнулась любимому мужчине в плечо.
Кравцов обнял её сбоку за плечи и, повёл к тротуару, даже не подумав, чтобы взять из рук сумку с вещами. Ничего другого, кроме глаз Анны, он не видел.
Переночевав эту ночь в Москве без сна за хорошим крепким чаем, по которому так соскучилась Анна за месяцы заключения, на следующее утро бывшие супруги выехали в Калугу. Оставаться в столице, где всё давило болью воспоминаний, не было сил. На вокзале их встречали Иван и Мишка Зуев. Миха, раздобревший за последние годы вдвое и в очках, не видел друзей с позапрошлого лета. Неловко щурясь, стесняясь своей близорукости, Зуев крепко пожал руку Николаю, а Анне сунул принесённый букет белых хризантем:
– Поздравляю!
– Пошли скорее! – заторопил Иван, обнимая родственницу и уводя к машине, – К вечеру обещали снежный буран. Не застрять бы в дороге. Как дела, дорогая свояченица?
– Бывшая свояченица, – поправила Керман.
– И в скором будущем будущая. Или я в жизни ничего не понимаю.
Анна устало посмотрела на Ивана, ответив слабой улыбкой. Что тут можно было сказать? Впереди предстояло столько всяких объяснений.
– Спросишь то же самое через пару месяцев, – посоветовал Николай Ивану, залезая назад к Анне.
– Куда мы? – спросила женщина, когда уже отъехали от вокзала. Ловко лавируя между заносами, где свежими, где улежавшимися, Белородько выкручивал руль нового джипа «Паджеро» и то и дело ругал то метеоусловия, то городские власти, плохо контролирующие работу автодорожных служб, то чьих-то ближайших родственников.
– К нам, Аннушка, едем, – ответил Иван через плечо, – Надюха сказала, что побудете пока первое время у нас, пока ваш дом приведём в порядок. А там – поглядим.
Николая, обнимая Анну за плечи, придержал её на повороте:
– Э нет, братка, зря вы так решили. Поесть, попить с дороги мы, понятно, у вас остановимся. Но токо после мне поскорее охота в свой дом попасть. Да и Ане, думаю, тоже. – Кравцов ласково сжал ладони любимой женщины, которые не выпускал вот уже вторые сутки. – Намыкались мы по чужим углам – мочи нет, – улыбнулся он, продолжая говорить медленно, с новым приобретённым растягом ударных гласных на московский манер, – До своего охота добраться. Не серчай, Иван, но не терпится мне. В свой двор ступить. Баню истопить. По дому какие дела поделать. К тому же, и гостей нам скоро встречать: слышал же, как Петрович сказал, что сибиряки наши – Кирилл с Антониной сразу после Нового года приезжают? Так что, будут дела. Я, пока сидел, много о чём передумал. Завтра же начну по-свойски хозяйничать.
– Да чего тебе там суетиться? Дом под замком нетронутым стоял. Прибрать малёха и айда – живи, грейся. Ты же, Коляня, ремонт перед отъездом делал, – встрял с рассуждениями Зуев, горбатившийся на переднем сидении. Из-за его широкой спины, даже высокий Кравцов не видел лобового стекла.
– Не, Миха, ты не понимаешь про что я …, – Николай мечтательно уставился на дорогу, – Хочу всё сделать, как душа просит. Знаешь, что-то меня к земле потянуло, по-настоящему. Вот зиму отожду, а по первым оттепелям весь двор переделаю. Амбар поставлю. Обязательно. Что за двор без амбара? Курятник новый сколочу. Тот, что отец с матерью имели, я из-за ветхости сломал, а теперь вот пришла пора новый построить.
– Неужели кур заведёшь? – удивился Иван, – Теперь же в магазинах мяса и птицы – скоко хошь. А яйца так вообще в любое время. Да у нас, к тому же, есть свой кооператив, сельский! Всегда всё свежее. Зачем тебе эта грязь с живностью? Одна морока! Ты лучше как у нас сделай: газон и клумбы.
Кравцов тошнотворно сморщился: ему вспомнились немецкие дома:
– Мне эти иностранные замашки знаешь где сидят, братка?! Пластиковые оконца, бетонные дорожки, витые крендельца в дверях… А при этом – полный сквозняк душ. Живут каждый сам по себе и никто никому не сосед, а уж тем более не друг. Вся их прилизанность – даром не нужна. Лучше пусть у меня будет попроще, но при этом всегда с живыми тварями общаться, а не с камнями или беседками. Видали мы одну такую немку: каждый день в садике со статуями разговаривала. А чтоб детей к себе лишний раз на пирог позвать – ни за что! – Кравцов кивнул Анне, напоминая. Она едва заметно усмехнулась в ответ, – Аж противно от мысли, что во дворе негде будет ступить, чтобы в клумбу не влезть. Не жизнь, а сплошная морока, – заключил Николай.
– Зря уж ты так, Коля, – впервые за дорогу проговорила Анна, – Разве это плохо, когда вокруг всё прибрано и аккуратно?
Николай не ответил. Мысленно он уже представил, как заголосит на его заборе по утрам петух, как станут лениво прохаживаться по двору куры, грабасто роя лапами песок, отыскивая в нём зёрна, как загуляют под карнизом голуби.
– А ещё я собаку хочу, – посмотрел Кравцов на прижавшуюся Анну с восхищением, какое бывает у ребёнка, давняя мечта которого вот-вот должна осуществиться, – Овчарёнка купим. Если не совсем породистый будет – пущай! Но только настоящего псину, сторожевого. Как у нас Полкан был, помнишь, Иван? А то все эти шавки-пустолайки, что из-под ног не видно, тоску на меня навевают. Рази это зверь, кода он декоративный, – одержимый желанием Кравцов незаметно перешёл на деревенский говор, – Зверь должон быть зверем. Настоящим. Игрушки для детворы годятся. Я в них уже не играю.
Кравцов на какое-то время замолчал, предавшись дельнейшим мечтаниям. В машине стало тихо, только шумели шины на неровной от снега дороге, и скрипели тормоза. Анна, наслушавшись Николая, сидела с блуждающей улыбкой. Мысль о собаке понравилась ей тоже. Только она предпочла бы купить вместо овчарки, например, лайку или лабрадорчика.
Длинная, одноцветная дорога разбавлялась кое где перекрёстками, редко обозначенными указателями. Так как эта трасса была поселковой, даже не городской, то машин было мало. Вскоре вдали показались первые дома.
За последние годы Калинки разрослись до неузнаваемости. Многочисленный поток переселенцев, продолжавших переезжать в Россию из бывших социалистических республик, определялся на местах выраставшими районами. Новосёлы предпочитали держаться вместе, старались покупать жильё или земли рядом. Поэтому, стоило только появиться в посёлке одной-двум семьям, как через год уже стояло на новом месте пять-шесть домов. Строительство вели коллективно, проявляя особую солидарность и помогая, по возможности, новичкам во всём. Местные жители, не знавшие, или скорее, забывшие такую сплочённость из-за условий жизни, не перестававших быть непредсказуемыми с перспективой не улучшения, а наоборот, глядели на приезжих с нескрываемой завистью и даже неприязнью. Пьяные дебоши местных алкашей проходили незаметными, тогда как затянувшиеся мирные гулянки переселенцев обсуждались неделями. Разночинства и произвол своих бизнесменов спускались с рук. За приезжими же следили в оба и не прощали малейшей коммерческой провинности. Налицо царившая дискриминация по отношению к прибывшим не мешала новым руководителям областей сдавать размашистые отчёты о помощи русскому населению в интеграции и переселении. Как не мешала и списывать под эти отчёты капиталы, предназначающиеся определёнными статьями принятого государственного закона.
Оживлённые появившимися строениями, Кравцов и Керман жадно впились в окна. Дворцы и хижины соседствовали и тут. К тому же, в отличие от столицы, в провинции их контрасты были больше заметнее. Глаз резала рухлядь строений, заурядность открывшихся мастерских, покосость бывших государственных сельхозпостроек. Повсюду на виду валялись жерди, прогнившая солома, проржавевшие металлические сваи, доски, брошенные бочки для воды, корыта, обломки шифера…
Не зная, где блуждают мысли их спутников, Зуев указал на здание больницы:
– Знаешь, Коляня, кто теперь там всем заправляет? Моя Шурка! – Мишка тут же прогнулся от важности.
Глядя на обшарпанное двухэтажное строение, где с одного бока сквозь обвалы штукатурной извести показались наружу деревянные балки, Анна не удержалась:
– Видать, особо заправлять твоей сестре нечем, раз больница того и гляди набок пойдёт?
– Фь-ю, – присвистнул Мишка, – Шурки ты не знаешь! Она токо для виду ремонт не делает, плачется каждый раз перед депутатами, новых инвестиций требует. А сама на одной токо аптеке уже две таких больницы могла бы отстроить. Как захотите – свожу я вас туда! У Шурки там, как в пещере Али-Бабы: чего токо нет. И помещение отделано, не в пример больнице.
Слушая с какой значимостью говорит Мишка о сестре, Николай поглядел другу в затылок с подозрением. В его голове вдруг всплыл давний разговор с Вовкой Окуньком.
Было это ещё осенью девяносто третьего года, до отъезда Кравцовых в Германию. Окунёк, мотавшийся в те времена по территории всего бывшего Союза в поисках лёгкой наживы, только что вернулся из Прибалтики и сразу завалил к другу. Сам Вовка до сих пор не женился, домом не обзавёлся, с родителями уживался плохо. Поэтому перебивался по углам где, сколько и у кого мог. Чаще всего он находил себе на короткое время подружку с жильём, у которой столовался, гулял, пил. До тех пор, пока не срывался в очередной раз с места, ведомый духом врождённого авантюризма, и нёсся, востря нос по ветру, навстречу манящим эфемерным капиталам. Нередко он действительно приезжал с деньгами, но бывало и прогорал, возвращался пустой, теша себя только тем, что любой жизненный опыт может пригодиться.
В тот раз Вовка привёз из Прибалтики только планы и перспективы, которыми снабдили его более практичные и далеко видящие в плане бизнеса литовцы.
– Машину покупать буду, Коляня. Грузовик. Сдам на права, первое время сам помотаюсь: в Польшу, в Германию. Раскручусь, а потом открою фирму по перевозкам, – делился планами Окунёк.
– Ну-ну, – скептически одобрял Кравцов, – Как до Германии доедешь – заходи в гости, – заранее пригласил он. Вопрос об их отъезде уже был решён.
– А чё, запросто, блин горелый! – оживился Окунёк, – Мне токо скажи, я тебя где хошь найду.
– Давай-давай, – ответил Николай с прежним «оптимизмом» подморгнув Мишке, сидевшему здесь же.
– Ладно, Вовчара, кончай нам всякой дрянью мозги затирать. Ты там про рыбу чё-то говорил? Принёс? А то у нас пиво на веранде уже льдом покрылось.
Окунёк, пообещавший побаловать друзей какой-то особо редкой рыбой, привезённой из Вильнюса, встрепенулся, полез с принесённый баул. Оттуда он выудил несколько герметично запечатанных пачек с рыбным филе.
– Бельдюга горячего копчения, – прочёл Кравцов по слогам, – Ну и имечко!
– И прошу не путать вторую и третью буквы! – заржал Окунёк.
Зуев, взяв из рук Кравцова упаковку, прочёл сначала про себя, потом сделал скидку на слова Вовки, потом флегматично ппроговорил:
– Бледюга, так бледюга. Давай нож, щас мы с нею такой хорошей живо разберёмся.
Мужики от его вида загоготали в голос.
– Эх, Мишаня! Грубый ты человек! Деревенщина! – пожурил друга Окунёк, – Никакой эстетики не понимаешь. Рыба-то – редкая больно.
– Нам бы чего попроще, Вовчара: тараньки или хотя бы той же воблёхи. Их ведро можно купить за те деньги, что ты за эту… отдал, – кивнул Зуев на этикетку, разрезая целлофан поданным ножом.
Пока они разглагольствовали, хозяин принёс с веранды холодное пиво, убрал со стола скатерть и поставил на него стаканы:
– Хоть редкая, хоть частая – рыба, есть рыба, воняет одинаково.
За пивом разговоры пошли о жизни и работе. Кравцов тогда вовсю промышлял снабженцем для магазинов. Вовка, болтаясь по свету, надеялся на свою счастливую звезду. Зуев, не желая шевелиться, крутил гайки в механическом цеху и довольствовался малым. Жениться и он не хотел.
– А на фига ему? – заметил на это Окунёк, воспользовавшись моментом, когда Мишка пошёл «отлить». Он женат на своей Шурке. Слышал же, что он переехал к ней жить после смерти матери?
– Ну слышал. И чё?
– А видел, как Шурка за последнее время расцвела?
– И чё? – опять не понял Кравцов.
– А то, что так баба токо при мужике добреет, – хитро сузил глаза Вовка.
– Чё ты, дурак, балаболишь? Станет тебе Миша такой хренью заниматься. Кого это ты тут у нас опять понаслушался?
– Опять я виноват, раскудасти-здрассьте! – отмазался Окунёк. В последнее время он надёжно сменил своё коронное «ежели как что» на прилипавшие к нему по всей бывшей стране разнокалиберные и разнокачественные неологизмы разных диаспор широкого географического масштаба типа: «еханый бабай», «забубеним под расчёт», «едришкины матрёшки» или ещё какие прочие. От этого речь Вовки изобиловала порой шокирующими слушателей выражениями. Лучшие из них моментально усваивались молодняком и становились фонетическим дайджестом деревни, меняя привычный размеренный слог области на модный шубуршаще-звенящий сленг городов.
– О чём шум? – переспросил друзей Мишка, появившийся в дверях и заставший Вовку врасплох.
– Да так, ни о чём, – покраснел Николай, – Вовка вот рассказывает, что ел в Прибалтике консервированных анчоусов, а я спрашиваю вкусные или нет.
Пор анчоусов Кравцов вставил моментально. Это слово крутилось у него на языке вот уже несколько дней. Он оформлял в Москве на оптовке очередную покупку и случайно услышал про новые приколы «богатеньких дядечек», летающих в «заграницу» попить фирменного баварского пивка, поесть перигорской фуагры или же пососать баскских анчоусов.
– И как – вкусные? – обратился Мишка за ответом, вновь усаживаясь на своё место за столом и не учуяв подвоха.
Вовка, мгновенно среагировавший на предложенный экспромт, закивал, благо знал о чём идёт речь :
– Пойдёт. Что-то навроде пересоленной селёдки. Токо маленькие такие, что положишь в рот и жевать не надо, можно сразу глотать.
– Как «селёдки»? А я думал, что анчоусы – это фасоль, – растерялся Зуев.
– Сам ты, Миха, – фасоль, – ответил Вовка без эмоций, – Фасоль – это спаржа. Анчоус – это рыба такая.
– А ну да, я же забыл, что ты один у нас царских кровей. Мы-то с Коляней – холопские морды. Куда уж нам до всех этих деликатесов, – надулся Мишка.
«Эх, Вовка-Вовка, – вздохнул Николай, потревоженный воспоминаниями, – Кто бы тогда знал, что так скоро сложишь ты свою буйную голову, и не будет у нас больше неделимой троицы.»
На душе Кравцова было больно. Вовка Окунёк нашёл, в конечном счёте, своё «эльдорадо»: после отъезда Кравцовых в Германию он стал в Калинках единственным владельцем новой бензозаправки. Встать на ноги помогли ему какие-то «крутые связи», на деле оказавшиеся уголовной группировкой неформалов с Кавказа. Они же снабдили деньгами. Им же Вовка отстёгивал львиную долю дохода с продажи горючего. Очень скоро Окунёк превратился в «нового русского» со всеми причитающимися для этого определения обязательными характеристиками: бритой головой, добротной кожаной курткой, последней моделью БМВ, толстой золотой цепью на шее, тёмными очками. Он купил себе в Серебрянке дом, за год перестроил его и даже стал поговаривать о женитьбе. Нашёл где-то городскую деваху: разбитную, горлопанистую, фигурную что в фас, что в профиль, которая лихо сдаивала с Окунька значимую часть того лишнего дохода, что удавалось припрятывать от «покровителей». Так длилось почти два года. В конце девяносто пятого по всей области вдруг поползли слухи, что Окунёк пошёл с мафией в разлад. По рассказам Мишки, Вовка действительно решил отбояриться от покрывавших его обирал. Он поделился с Зуевым новостью, что даже предложил кавказцам какую-то компенсацию взамен за то, чтобы они позволили ему далее вести дела без контроля. Кавказцам такая постановка вопроса не понравилась. Уход дойной коровы на самовольные хлеба означал для них финансовую недостачу. Так недолго было и разориться. А подобного эти парни никак не любили. Они провели с Вовкой серьёзный разговор, суть которого была короткой и понятной: сиди и не рыпайся. Но Окунёк, в раздутую голову которого гонор западал теперь легче, чем от него можно было избавиться, не придал предупреждению должного значения. Он перестал платить дельцам, объяснив, что по его мнению уже давно рассчитался и за выделенный когда-то кредит, и за прочие услуги. На второй месяц самоуправства как-то к дому Окунька по сумеркам подкатил загруженный качками джип. Без лишних разговоров наёмники поднялись в дом и, не взирая на истошные крики городской невесты, забили Вовку на её глазах насмерть бейсбольными битами. Девку же запихали в машину и увезли неведомо куда. С тех пор никто о её судьбе ничего не слыхал. Всю эту картину видел сосед Окунька. Но вмешаться в расправу пожилой мужчина конечно же побоялся. Когда машина с убийцами скрылась из виду, сосед тихо прокрался в дом и увидел там измолоченное тело Вовки, признать которое не смогла бы даже родная мать. Милиция, вызванная на место преступления, ничего по данному происшествию делать не стала. Единственный свидетель – сосед, заикаясь рассказал то, что запомнил, не в состоянии назвать ни точное количество убийц, ни номер машины, ни даже её марку. Помотав дело по различным отделам УВД, его в конечном итоге закрыли за недостачей показаний и списали в архив по статье «сведение счётов криминальных структур».
Кравцов, услыхав о жуткой смерти друга от Ивана, с ужасом представил все те мучения, что должен был испытывать безобидный Окунёк перед смертью.
«Звери, не люди, кто сотворил такое», – похолодел Николай, вспоминая Вовку и сейчас, проезжая мимо бензозаправки.
Простояв какое-то время без хозяина, заправка вскорости была продана Денису Зуеву, сыну Шурки.
– Этот – оторва, никому не спустит, —охарактеризовал Белородько мишкиного племянника, – Якшается только с мафиози. Нас, простых дельцов – в грош не ставит.
«А что же тогда говорить про народ?», – параллельно подумал Николай. Уж кому, как ни ему, было доподлинно известно, что как ни крути, но никак не отнести Ивана к простым дельцам. Напомнив свояку про его авторитет, Кравцов ещё раз ужаснулся. Но теперь уже полученному от родственника ответу:
– Коляня, Денис, если будет нужно, через труп матери перешагнёт, не оглянется. Во какое поколение пост-советской молодёжи мы получили! Среди всех волков, они всем волкам волки. Капиталисты нас в своё время боялись, как идейных соперников. Страну нашу разрушили, подкупив руководство. Что ж, пусть готовятся теперь к худшему и боятся ещё пуще: если эта братва, типа младшего Зуева, в какой день появится на капиталистическом рынке, плакать их Бил Гейтсам горючими слезами. Наши новоиспечённые коммерсанты признают только один закон – закон больших денег. А он не щадит никого. И справедливым не бывает. Так что, как говорится, накакали все эти воротилы мирового капитала себе же в карман, обучив бывших мирных пахарей железной хватке. И если раньше русскому работяге особо терять было нечего, то теперь, обзаведшись капиталом – есть, и немало что. Дрожите, значит, и Европа, и Америка, а с ними заодно и Китай с Гонконгом. Мы ведь не просто деловых да наглых имеем, мы, вопреки многим, ещё и не обделённые серым веществом. Столько лет нас угнетали, водворяя запреты на самовыражение и персональное мнение! Сколько нам внушали, что единственное возможное решение по любому вопросу, от управления колхозом до планирования частоты совокуплений с родной женой, принадлежит Партии! Столько долбили, долбали, отравляли коммунистической моралью и нравственностью, что в миг, когда народ почувствовал свободу от всех этих пережитков правления, он сначала, конечно же, растерялся. Про себя, Коля, признаюсь: странно было остаться без наставлений откуда-то сверху. Как это так? Кто же теперь будет пояснять, как нам лучше детей по заднице лупить: вдоль или поперёк? Но только тут же, чтобы не пропасть, поняли мы, что пора принимать какие-то меры. И вот тогда-то все мы – бывшие совковые строители коммунизма, а ныне граждане вмиг свободной демократической страны, выработали в себе особое противоядие, зовомое теперь в простонародье предприимчивостью. И от всего этого симбиоза, народился на свет молодой, неизвестный пока науке социологии тип – ново-русский бизнесмен. Дениска Зуев – явный тому пример. Да ты и сам поймёшь, стоит тебе только раз в глаза его посмотреть. Ничего, кроме знака доллара, знаешь, как в американских мультиках, ты там не увидишь. А это означает что? Поясню: холодный свет расчётливости и полную бездуховность. И нет той половицы в доме этого молодого отморозка, из-под которой можно вытащить эту самую душу и обратно вдохнуть её в живое безразличное ко всему, кроме бабла, тело. И перевоспитать его некому: класса советской педагогики более нет, а мать его, преподобная Шурка, сама Сатане душу продала ещё давно. И сына таким именно она воспитала: циником и эгоистом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.