Текст книги "Аттила"
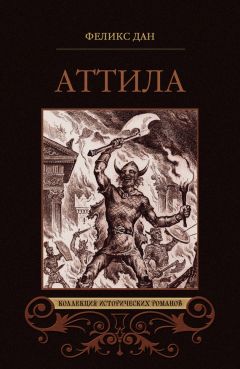
Автор книги: Феликс Дан
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 36 страниц)
Прекрасный юноша, назначенный умирающим Теодориком начальником провинции и командиром неаполитанского флота, немало способствовал установлению дружеского единения между обеими частями населения. Граф Тотилла побеждал всех и каждого своей молодостью, красотой, любезностью и той непередаваемой словами чарующей прелестью, которая одинаково подкупала мужчин и женщин. Когда этот прекрасный юноша проходил по улицам Неаполя рука об руку со своим другом Юлиусом, то каждый встречный невольно останавливался, чтобы полюбоваться неаполитанскими Диоскурами, и самые непримиримые патриоты обеих народностей начинали мечтать о возможности действительного братства между готами и италийцами.
Если бы суровый римлянин с каменным сердцем, Цетегус, знал, какое впечатление производит его приемный сын на население Неаполя и под каким влиянием находится он в этой столице радости и наслаждений, он бы, конечно, поспешил вызвать Юлиуса обратно до получения ответа на свое последнее письмо, ответа, доказавшего ему, как легко могут ошибаться самые гениальные дипломаты и как наиболее хитро задуманные планы человеческой политики превращаются в ничто простым случаем или Божественной волей.
Быть может, подобная мысль действительно шевельнулась в душе префекта Рима по прочтении письма своего любимого воспитанника, которое только что привез ему доверенный невольник Юлиуса Монтана.
Прочитав это письмо, Цетегус с проклятьем бросил его на пол и, закрыв лицо руками, просидел несколько минут безмолвный и неподвижный, как мраморное изваяние. Затем он медленно отвел руки и проговорил едва слышно:
– Этот Тотилла еще опасней, чем я думал! Так или иначе, он должен исчезнуть с моего пути!
Подняв с пола письмо Юлиуса, префект молча провел рукой по навощенным дощечкам, как бы стирая написанные на них слова и фразы, и затем так же молча запер их в серебряный ларец, полный документов.
Вот что писал Юлиус Монтан своему приемному отцу и воспитателю:
«Префекту Рима Цетегусу сердечный привет от глубоко преданного и благодарного приемного сына и воспитанника.
Прости, отец и благодетель, что мне приходится начинать с упрека. Твое холодное и жестокое письмо огорчило меня так сильно, что мои ослабевшие от раны нервы вторично сдали, и я пролежал две лишних недели в постели, прежде чем оправился настолько, чтобы исполнить твое приказание и разыскать твоего друга Валерия Проциллу.
Мне хочется думать, что твоя холодность, как и твое себялюбие и твоя насмешливая язвительность, не более как маска, скрывающая твою настоящую душу, и я на коленях готов просить тебя снять эту маску перед твоим сыном и воспитанником.
Но позволь рассказать тебе по порядку о моем знакомстве с той, которую ты назначил в супруги мне, недостойному, не справляясь с Высшей волей, приготовившей ей иную судьбу.
В твоем приятеле Валерии Процилле я нашел добродушного республиканца и благородного друга-покровителя, принявшего меня как родного, а в дочери его Валерии… счастье и горе моей жизни… Ты был прав, отец мой, когда писал, что видеть Валерию и полюбить ее – одно и то же… Как ни был я предубежден против этой жемчужины Неаполя, я все же… к чему скрывать… я полюбил ее с первого взгляда, как безумный…
Красоту Валерии ты знаешь, отец мой… Но ни ты, и никто другой не знает, как чарующе прекрасна чистая и гордая душа этой римской девственницы.
Для меня очарование ее еще больше усиливается от той двойственности воспитания, которая создала из этой девушки создание неземной прелести…
Не знаю, известно ли тебе, что мать Валерии была больная и мрачная фанатичка, проводившая полжизни в подземных часовнях римских катакомб, между могилами мучеников, и потерявшая всякую жизнерадостность в обществе таких же фанатиков, как и она сама… Свою дочь, – единственную, уцелевшую из двенадцати детей, унесенных роковой болезнью в могилу прямо из колыбели, Валерию, мать посвятила служению церкви, поклявшись страшной клятвой отдать девочку в монастырь, как только ей исполнится двенадцать лет.
К счастью, мать Валерии умерла раньше рокового срока. Отец же ее – римский патриот и республиканец, человек слишком горячий для того, чтобы быть ревностным христианином. Он поспешил откупиться от монахов и освободить свою дочь, построив целый монастырь в одном из своих поместий, отданных церкви римской взамен Валерии. И действительно, римское духовенство признало Валерию освобожденной, но она сама не вполне верит в это освобождение. Временами ей кажется, что Бог не мог принять холодное золото в обмен на живую душу, и тогда она чувствует себя как бы клятвопреступницей. А между тем отцовское воспитание все же сделало свое дело. Валерия – настоящая римлянка, одушевленная патриотизмом и преклоняющаяся перед нашей великой стариной.
Быть может, именно эта борьба чувств и понятий, слишком хорошо известная твоему воспитаннику, отец мой, сблизила меня с Валерией… Мы вместе увлекались великими поэтами древности, вместе гуляли, вместе декламировали дивные стихи Софокла. И когда я глядел в ее загадочные глаза, с таким воодушевлением декламирующей божественные слова Антигоны, мне чудилось, что бессмертная героиня поэта вышла из могилы и воплотилась в эту дивную девушку.
Так шли дни за днями. Валерий, казалось, ожидал от меня решительного слова, чтобы отдать мне руку своей дочери. Да и сама Валерия, быть может, не стала бы противиться желанию своего отца…
Но Бог, – неверующие сказали бы «судьба», – не желал этого брака. Каждый раз, когда я собирался заговорить о моих чувствах, меня удерживала одна и та же мысль: «Валерия слишком хороша… Ты недостоин этой жемчужины… Посягая на ее руку, ты совершаешь поступок, похожий на кощунство». Точно кто-то шептал мне эти слова на ухо, мешая высказаться.
Между тем, вернувшись домой, я дрожал от страсти, бранил себя за трусость, за нерешительность и твердо решался на следующий день быть умней и храбрей. Но назавтра повторялось то же самое, и я снова уходил, не смея высказать своей любви Валерии.
Наконец, однажды утром – было душное, жгучее утро, какое обычно бывает перед грозой, я нашел Валерию спящей в саду, под тенью цветущих апельсиновых деревьев.
Не стану писать тебе о ее прелести, отец мой. Сердце мое еще дрожит и сжимается от жгучей боли… и я спешу высказаться. Скажу коротко – глядя на дивную спящую девушку, я как-то сразу понял и почувствовал… всем существом своим, что никогда не смогу сделать счастливой это чудное созданье. Достойным ее мог быть только один из полубогов, описанных древними поэтами, а не слабый, робкий, заурядный человек, как твой бедный воспитанник. И пока я думал об этом, в голове моей мелькнула мысль о прекраснейшем из смертных – о моем Касторе.
И в ту же минуту в ушах моих точно прозвучало имя: Тотилла… Так ясно услышал я это имя, точно кто-то другой громко произнес возле меня слово, подсказанное мне совестью – судьбой – Богом. Да, Тотилла. Вот тот единственный, кто достоин любви Валерии, то светило, которое не исчезнет в лучах этой звезды, – тот супруг, которому она сможет повиноваться, как подобает женщине…
И я решился привести Тотиллу к Валерии, предоставляя остальное воле Божьей…
На другой же день я входил в сад Валерии вместе с Тотиллой.
Моего друга не было дома. Он уехал накануне в пригородное имение по какому-то делу. Валерия была в саду.
Мы увидели ее в конце аллеи. Она стояла перед мраморной статуей Венеры – Афродиты и украшала прекрасную голову богини венком из роз. Вся освещенная лучами заходящего солнца, в белоснежном платье, с золотым обручем в черных волосах, с розами в высоко поднятой руке, форма и цвет которой могли соперничать с рукой мраморной богини, Валерия была так прекрасна, что Тотилла громко вскрикнул от восторга.
Валерия услышала этот крик и обернулась, выронив венок из опустившейся руки. Глаза ее остановились на прекрасном лице моего друга, и нежный румянец, постепенно выступая, залил ее прелестное лицо. О, если б ты видел, как они были прекрасны!.. Как достойны друг друга! Я видел, что угадал предопределение судьбы, и, поняв, что они полюбили друг друга с первого взгляда, горько заплакал, спрятавшись между цветущими олеандрами.
Больше рассказывать нечего… Они счастливы… Они благословляют меня!.. А я!.. Увы, я еще недостаточно очистился душою для того, чтобы не страдать при виде их счастья. Верь мне, отец мой, что ни тени зависти нет в моем сердце. Видит Бог, я с радостью отдал бы жизнь свою для того, чтобы упрочить счастье двух этих существ, наиболее близких и любимых мною. Но все же бывают минуты, когда у меня не хватает силы любоваться их счастьем…
Тогда я ухожу в одну из темных, тихих древних церквей католических и долго стою на коленях у подножья креста, глядя на кроткий лик Божественного страдальца.
И тут только мне стали ясны слова Христовы, призывающие к себе «всех страждущих и обремененных». Да, поистине религия Христова создана для утешения страждущих, и в ней только может больное сердце найти целительный бальзам для своих ран…
Подумай, отец мой, не странно ли это?.. Ты, так мало верящий в Господа нашего Христа Спасителя, ты, воспитавший во мне древнего римлянина, язычника больше, чем христианина, ты сам послал меня туда, где меня ожидало величайшее горе, превращающееся в величайшее счастье.
Не ясно ли, что участью людской распоряжается высшая сила, Божеская, ведущая нас к спасению без нашей воли, часто даже помимо нее. О, как отрадно такое сознание, отец мой! Как радостно преклоняюсь я перед этой высшей волей и благодарю Создателя, показавшего мне истинный путь к счастью самопожертвования. Положа руку на сердце, говорю я тебе, что за счастье верить так, как верили первые христиане, не дорого заплатить самыми страшными страданиями. И я благословляю тебя, отец и воспитатель мой, избравший для меня путь, орошенный кровавыми слезами несчастной любви! Я благословляю свои страдания и прошу у неба одного: чтобы и ты, благодетель мой, понял истину моих слов… пока еще не поздно.
Господь да хранит тебя, – об этом ежедневно молится твой безгранично преданный сын и воспитанник Юлиус».
XXIX
Высокие, крепкие стены окружают Неаполь. Целая сеть бастионов и башен защищает приморский город со стороны суши. И самая важная из этих башен поручена охране и надзору старого еврея Моисея, отца той самой красавицы Мириам, о которой тщетно вздыхала молодежь Неаполя и которой посвящал любовные элегии знакомый читателям модный римский поэт Пино.
В восьмиугольной башне, защищающей тяжелые окованные железные ворота города, четыре этажа. Три верхних предназначены исключительно для защитников стены и ворот, служа в мирное время складами оружия и военных запасов. В нижнем живет старый смотритель и его шестнадцатилетняя дочь.
Неказисто помещение старого Моисея. Обширная сводчатая комната с толстыми стенами и небольшими окнами, защищенными тяжелыми железными ставнями – на случай осады – разделена легкими внутренними перегородками на три части. Средняя служит кухней и столовой. Справа и слева, в комнатах поменьше, устроили себе спальни старый Моисей и его дочь. Тяжелые ковровые занавеси служат вместо дверей. Два человека разговаривают в старой башне: привратник Моисей – старик громадного роста и такой же силы, с седой гривой, белой, как снег, бородой и глубоко впалыми черными глазами, ярко горящими из-под нависших белых бровей, и молодой человек, маленький, тщедушный, с резкими чертами лица и физиономией, на которой отпечатались главные качества еврейства – жадность, хитрость, трусость и злоба.
Ни капли сходства не было между этими двумя людьми, могущими служить символом двойственности еврейства: старик, могучий, смелый и прямодушный, как лев пустыни, как герои Маккавеи, которые так геройски боролись с римлянами; юноша – лукавый, корыстолюбивый и жестокий, как истый потомок трусливых подонков нации, укрывшихся от римских мечей по подземельям и погребам и переживающим разгром так же, как пережили христианство, оставаясь верными сынами фарисеев-каббалистов, кричавших «распни его, кровь его на нас и детях наших». Иудей и жид, последователь чистой любви Моисея и раб бездушного Талмуда, а между тем они были близкими родственниками, и молодой жид называл старого иудея «дядей»…
– Я давно собирался перечислить тебе свои достатки, дядя Моисей, – говорил он писклявым и дребезжащим голосом, как нельзя лучше подходящим к его жалкой и смешной фигуре. – Вот, дядя, на этом листке пергамента записаны мои доходы. Я состою главным строителем и надсмотрщиком над всеми водопроводами Неаполя. Это дает мне пятьдесят золотых ежегодно и за каждую поправку по десяти золотых прибыли. Вот, видишь этот кошелек, дядя? Это золото я только вчера получил за восстановление обрушившейся водопроводной арки возле большого рынка. Кроме того, у меня нет недостатка в заказах, и планы моих построек раскупаются нарасхват. Часто мне же поручают исполнять их, и тогда мне перепадает крупный доход. Я умею покупать дешево, а продавать дорого, как подобает честному еврею, одним словом, ты видишь, дядя Моисей, что я могу содержать семейство. Отдай же мне свою дочь Мириам, чтобы она была хозяйкой в моем доме и продолжила род наш. Отдай мне Мириам, дядя! Я буду держать ее в почете и одевать в шелк и бархат. Тебе же не найти для нее лучшего мужа, чем сына твоей собственной сестры, Иохена Богуадора.
Старик молча выслушал хвастливую речь племянника. Когда тот замолчал, седые брови Моисея сдвинулись, и он неодобрительно покачал головой.
– Да, ты сын моей сестры, Иохен, и мне не чужой, и ты богатый человек и хороший работник. Но всего этого еще недостаточно для счастливого брака. Послушай моего совета, Иохен, – выкинь из головы мою Мириам, она тебе не пара.
– Почему? – обиженно закричал молодой жид. – Что ты обо мне думаешь, дядя? Чем я не муж Мириам? И разве может кто-либо из евреев сказать что-нибудь против Иохена Богуадора? Разве я не плачу десятину кагалу, как подобает набожному еврею?
– Никто не говорит о тебе худо, племянник, – успокаивающе заметил старик. – Ты тихий и скромный человек, прилежный и бережливый хозяин. Ты достоин всякого уважения, но повторяю, все это не делает тебя подходящем мужем для моей Мириам. Скажи сам, виданное ли дело, чтобы стройная газель спарилась с вьючным мулом? Не обижайся, племянник, я не в укор тебе говорю. Ты умный человек. Посуди же сам: годится ли Мириам тебе в жены?
Старик протянул свой длинный посох и, не вставая с места, приподнял занавес, отделявший комнату Мириам от кухни, и указал глазами на молодую девушку, задумчиво стоящую у окна с небольшой, странной формы арфой в руках… Она рассеянно перебирала струны древнего еврейского инструмента и мягким грудным голосом напевала старинную песню, сохранившуюся до нашего времени: «На реках вавилонских; там сидели и плакали…»
Точно серебряный колокольчик, звучал чарующий голос девушки, погруженной в такую глубокую задумчивость, что она не слыхала ни слова из разговора, происходящего в нескольких шагах от нее, и не почувствовала жгучего, впившегося в нее взгляда Иохена.
Не поворачивая прелестной головки, девушка продолжала петь и, только дойдя до последней строки первого куплета, остановилась и тяжело вздохнула…
– Придет ли день, придет ли час, когда иссякнут слезы наши! – повторила она едва слышно и прислонилась лицом к окошку, как бы в ожидании чего-то или кого-то.
Косые лучи заходящего солнца, врывающиеся сквозь это окошко, одевали золотым сиянием дивно прекрасную головку молодой девушки. Ее стройная фигурка казалась еще прекрасней от старинного костюма, мягкие складки которого обрисовывали гибкий стан, тонкую талию и высокую грудь красавицы. Из-под длинных, загнутых ресниц глядели темно-синие глаза «цвета бездонного моря», а иссиня-черные волосы, зачесанные за крошечные розовые ушки, рассыпались бесчисленными шелковыми прядями по полуоткрытым нежным плечам, кажущимся еще белей от темного бархата и расшитого золотом спенсера… Дивно прекрасным было нежное, слегка продолговатое личико девушки, с правильным профилем, с бледно-янтарной кожей, мягкой и атласной, как лепесток только что распустившейся розы…
Так прекрасна была эта девушка, что отец ее невольно сложил руки, как бы преклоняясь перед Творцом этого дивного созданья, и прошептал, обращаясь к Иохену:
– Сын моей дорогой сестры, скажи сам, может ли роза Сарона цвести в одной грядке с луком и чесноком?
Злобно сверкнули глаза тщедушного жида, но прежде, чем он успел ответить, Мириам вздрогнула и обернулась к узкой двери, выходящей из ее комнаты прямо в садик, окружающий старую башню, в котором красавица разводила роскошные цветы юга, менее прекрасные, чем она сама, «Лилия долины» – роза племени израильского. В маленькую, окованную железом дверь трижды осторожно постучала чья-то невидимая рука.
Молодой еврей одним прыжком очутился возле окна кухни, выходящего в сторону садика, и прошипел, задыхаясь от злобы:
– Опять этот желтоволосый варвар? Этот граф Тотилла?.. Чего это он зачастил? Чего ищет у бедных евреев? Дядя Моисей, уж не этого ли благородного оленя считаешь ты достойным твоей стройной лани?
Белые брови старика гневно сдвинулись.
– Попридержи свой язык, Иохен… Твоя ревность ослепляет тебя! Не будь ты сыном моей родной сестры, ты бы дорого заплатил за твою злобную клевету. Я знаю, зачем граф Тотилла приходит сюда! И ты сам это знаешь! Его сердце принадлежит черноокой красавице-римлянке, и он ни разу, ни единым взглядом не позволяет себе оскорбить мое дитя, и никогда не заглядывался на Мириам, подобно другим молодым готам.
– Быть может, она заглядывается на него? – чуть слышно прошептал молодой жид, глаза которого злобно сверкали. – Неужели ты не заметил, дядя, как она вспыхнула при его появлении, как быстро и радостно побежала отворять ему двери.
– Ты способен замарать самый чистый цветок своим ядовитым дыханием, Иохен, – с негодованием перебил старый привратник. – Мириам должна радоваться при виде благородного рыцаря, которому обязана жизнью и честью. Без этого гота жемчужина Израиля была бы похищена и осквернена злодеями. Ты говоришь, что любишь мою дочь, а между тем где ты был, когда на бедняжку набросилась стая жадных волков, подосланная развратными римлянами?.. Ты провожал Мириам в синагогу и взялся защищать ее, но когда неверные распутники, да покарает их Иегова, ворвались в храм, пугая женщин и оскверняя святилище, когда стены синагоги запылали и раздались крики о помощи, куда девался защитник Мириам? Где был ты тогда, сын моей сестры, обещавший привести мою дочь обратно к отцу в целости и сохранности?
– Я мирный работник, а не военный буян, – смущенно ответил молодой жид. – Мое дело строить, а не разрушать, мое оружие – циркуль, а не меч!
– Ну а граф Тотилла носит меч для защиты слабых женщин! Он не побоялся заступиться за еврейку и броситься один против десятерых. Он отбил жемчужину Востока у гнусных похитителей и принес ее обратно ко мне, не прикоснувшись к покрывалу на ее голове… Как же Мириам не быть благодарной великодушному готскому воину, – да хранит его Господь на всех путях его!..
Иохен упорно глядел в землю. Его некрасивое лицо исказилось злобной гримасой.
– Смотри, дядя, как бы благодарность твоей дочери не оказалась слишком горячей! Присматривай за ней получше во время моего отсутствия. Когда я вернусь назад, я снова приду к тебе с тем же вопросом и в последний раз попрошу тебя отдать свою дочь сыну твоей сестры. Я надеюсь, что ты ответишь мне не так, как сегодня, и будешь менее гордиться красотой Мириам.
– Ты уезжаешь? – спросил удивленный старик. – И так внезапно? Куда?
– Да, дядя Моисей, я еду далеко, в Византию. Меня там ждет хорошая выгода и большой гешефт. У великого императора Юстиниана обрушилась стена в храме «премудрости», воздвигаемом им в Византии. Я сделал рисунок новой стены, и Юстиниан обещал мне много золота, если я помогу ему счастливо окончить здание.
Моисей с негодованием всплеснул руками.
– И ты, еврей и сын евреев, хочешь помогать воздвигать храм христианский! Ты хочешь работать на преемника римских императоров, поработивших народ твой и разрушивших храм Соломонов. Стыдись, несчастный! Твое корыстолюбие влечет тебя на пагубную дорогу…
– Закон не запрещает ни извлекать выгоду из построек неверных «акумов», ни служить им за золото, в котором нуждается Израиль. Ты сам служишь готам, дядя, которые такие же христиане, как и византийцы. Я вижу в твоей комнате на стене сторожевой рог и копье дозорного, и даже меч, которым ты должен защищать готов. Разве это не то же самое?
– Нет, Иохен! Ты ошибаешься. Готы пришли сюда после того, как иудеи были рассеяны между инаковерующими. Они не сделали нам никакого вреда и не участвовали в войнах, погубивших свободу Израиля. Напротив того, готы победили императоров, римских преемников, злодеев Веспасиана и Тита, и наделали много вреда народу их! Нас же, евреев, готы никогда не обижали. Их мудрый король освободил нас от рабства и позволил нам строить синагоги и молиться по-нашему, он не терпел, чтобы евреев избивали, а синагоги их безжалостно жгли, как это было до него во всей Италии. Я же лично обязан Теодорику вечной признательностью за то, что он вернул мне мою жену, мою бедную Сару, которую насильно увел к себе богатый римский патриций. Король готов не задумался отрубить голову знатному насильнику, и мою Сару отдали мне нетронутой!.. За все это я глубоко благодарен всему народу готов и буду служить им верой и правдой, пока жив! Пока эти руки могут поднять меч и копье, ни один враг готов не пройдет сквозь эти ворота, и никакая измена не отворит их…
– Смотри, дядя Моисей, не пришлось бы тебе раскаиваться в своей преданности «гоям»… Нам, бедным евреям, нужно их золото, а не их расположение! Придет день, когда ты убедишься в том, что между ними и нами дружбы быть не может, а до тех пор прощай, дядя.
Не дожидаясь ответа старика, Иохен быстро отодвинул занавес, закрывающий вход в комнату Мириам, и смело вошел в нее, как бы направляясь к маленькой садовой калитке, хотя мог бы выйти прямо через ближайшую дверь, находящуюся в комнате Моисея.
По дороге молодому жиду пришлось проходить мимо Тотиллы, красивая стройная фигура которого, в серебряных доспехах, ярко светилась в начинающихся сумерках, а крылатый шлем почти касался тяжелых, низких сводов.
Маленький еврей подобострастно поклонился златокудрому красавцу воину, ласково ответившему на низкий поклон, и затем быстро побежал дальше. У самых дверей он еще раз остановился, смерил злобно-влюбленным взглядом прекрасную девушку, встречающую графа Тотиллу с радостным вниманием, как дорогого и почетного гостя.
– Ты чуть не опоздал сегодня, – проговорила она, скромно опуская свои бездонные, синие глаза. – Я уже боялась, не задержало ли тебя что-нибудь! Туника садовника ждет тебя в комнате отца… А вот у окна твои цветы. Ты говорил как-то, что она любит белые нарциссы и алые розы. Я приготовила целый букет. Они дивно пахнут!..
– Благодарю тебя, Мириам. Ты доброе и милое дитя.
Стройный рыцарь прошел, не оглядываясь, через маленькую уютную комнатку девушки и остановился в средней комнате, где его встретил глубоким поклоном старый Моисей. Здесь только Тотилла снял с головы шлем и, улыбаясь, положил его на стол, стоящий посреди комнаты.
– Господь да хранит тебя, граф Тотилла! – торжественно приветствовал юношу Моисей. – Да будет с тобой вечно милость Его.
– Благодарю тебя, Моисей! Благодарю вдвойне: за себя и за мою возлюбленную Валерию. Без вашей помощи, друзья мои, мы бы не смогли скрыть нашей любви и наших свиданий от любопытных неаполитанцев. Мы оба в неоплатном долгу у твоей дочери, согласившейся служить нам посредницей.
Мириам, последовавшая за своим гостем, чуть слышно вздохнула.
– Тебе ли говорить о благодарности, господин!.. Ты заплатил нам вперед за всякую услугу. Мы останемся твоими должниками навеки. Ты спас мне жизнь и честь. Разве это забывается!
– Полно, полно, дитя мое, – перебил Тотилла. – Пора позабыть опасность, угрожавшую тебе, роза Сарона! Я рад, что сохранил тебя для счастливца, которому отдаст свое сердце красавица Мириам. Скажи мне, Моисей, ведь это, кажется, твой племянник прошел мимо нас? Он как-то особенно глядел на твою прекрасную дочь… Если для свадьбы не хватает только денег, то я был бы счастлив помочь тебе…
– Для свадьбы не хватает любви у моей Мириам! – с улыбкой заметил старик, ласково привлекая к себе вспыхнувшую красавицу дочь. – Принуждать же мое единственное дитя я никогда не стану…
– Ты прав, друг Моисей! Брак без любви – то же святотатство… Но ведь сердце твоей дочери не всегда будет молчать, как теперь, и тогда… надеюсь, ты мне первому скажешь имя твоего избранника, Мириам?
Весело и беззаботно улыбаясь той чарующей улыбкой, которая покоряла сердца, Тотилла ласково провел рукой по блестящим кудрям прекрасной еврейки.
Как ни легко было это прикосновение, как ни целомудренна братская ласка, она точно огнем пахнула на бедную девушку; дрожа всем телом, с пылающим лицом и затуманенными глазами, Мириам, как подкошенная, упала к ногам Тотиллы, который с недоумением отступил, устремив удивленный взгляд на прекрасное лицо молодой девушки.
Но Мириам быстро овладела собой, сверхчеловеческим усилием подавила она страшное волнение, заставляющее трепетать ее сердце, и на вид спокойно поднялась с колен, держа в руке прекрасную алую розу.
– Прости, господин, я не хотела, чтобы ты раздавил эту розу, предназначенную для твоей прекрасной невесты.
Голос Мириам звучал так ровно, объяснение казалось таким простым и естественным, что ни Тотилла, ни отец девушки не могли понять, как трудно было ей скрыть страстное чувство, кинувшее ее к ногам красавца гота.
Старый Моисей, по обыкновению, помогал Тотилле отстегивать блестящие серебряные доспехи и надевать поверх вышитой золотом короткой белой туники длинную темную блузу простого садовника.
– Вот ты и готов, господин… Никто не узнает твоих золотых кудрей под этой широкополой шляпой.
Тотилла радостно улыбнулся.
– Благодарю вас, друзья мои… И порадую… Слава богу, этому маскараду сегодня конец, я знаю, что порадуешься со мной, Моисей. Сегодня я в последний раз переодеваюсь у тебя в башне, крошка Мириам…
– Значит, ты решился увезти свою прекрасную возлюбленную из дома отца ее? Да поможет тебе Иегова. И если тебе нужно будет тихое убежище, то приводи свою невесту сюда… Здесь ее никто искать не будет, – произнес старый Моисей, подавая юноше корзинку, наполненную цветами, необходимую принадлежность его костюма, предлог его появления в саду Валерия.
– О, нет, нет!.. – пугливо вскрикнула Мириам. – Здесь не место благородной христианке.
– Почему? – удивленно произнес ее отец. – Разве ты не рада была бы оказать услугу невесте твоего спасителя?
Мириам стояла бледная и дрожащая, с трудом держась на ногах. По счастью, сгустившиеся сумерки скрывали выражение ее прелестного лица. Голос ее звучал ровно и спокойно, как всегда.
– Я рада отдать жизнь свою для счастья моего спасителя, но дом евреев не достоин быть убежищем для богатой и знатной. Не правда ли, господин?
– Об этом не стоит спорить, дитя мое! – весело ответил Тотилла, тряхнув золотыми кудрями. – Никогда я не захочу увезти дочь от отца. Никогда не покрою позором имя моей возлюбленной невесты. Нет, я надумал другое. Сегодня я переговорю с моей возлюбленной Валерией, и надеюсь получить от нее разрешение открыто просить ее руки у отца. Пожелай мне успеха, Моисей. А ты, Мириам, помолись за меня своему Богу. Молитва чистого дитя приносит счастье каждому.
Тотилла еще раз пожал руку старому привратнику и ласково кивнул головой молодой девушке, надел грубую шляпу, поднял на плечи корзинку с цветами и вышел из комнаты.
Отец Мириам пошел за ним, чтобы выпустить его в калитку и снова запереть ее за ушедшим, как это делалось после наступления темноты.
Мириам осталась одна.
Пока Тотилла переодевался, солнце успело скрыться, и на небе появился серебряный серп луны, озаривший сонные цветы садика своим бледным призрачным светом.
Дрожащий луч этого света проник сквозь окошко в темную комнату и, пробежав по полу, на мгновение задержался на белом плаще Тотиллы, небрежно брошенном поперек спинки стула, и затем добежал до серебряного шлема с высокими лебяжьими крыльями.
Мириам молча подошла к столу и осторожно подняла тяжелый воинский убор, попробовав надеть его на свою прелестную головку. Прикосновение холодного металла заставило ее вздрогнуть. Она нежно провела рукой по лебединым крыльям и осторожно вернула его на прежнее место.
А серебристый лунный свет все ярче блистал на брошенном плаще, как бы притягиваемый белым куском сукна…
И взор молодой девушки так же блестел, притягиваемый белым плащом того, кого она обожала всем пылом своей южной крови, со всей страстью первого чувства, обожала тайно и безнадежно, решившись скорей умереть, чем высказать свое чувство тому, чье сердце принадлежало другой девушке.
Бедная Мириам была поверенной этой счастливицы. Она помогала свиданиям ее с обожаемым готом, но что стоило ей это самопожертвование – про то знал один Бог! Бедная Мириам! Медленно, шаг за шагом, подходила она к белому плащу Тотиллы, протянув руки как бы для того, чтобы поднять его и повесить… Внезапно она остановилась и с рыданием кинулась на колени перед стулом. Спрятав свое пылающее лицо в мягких складках сукна, она прильнула бесконечным жгучим поцелуем к воротнику, прикасавшемуся к золотым локонам ее спасителя, и плакала, плакала без конца, как бы желая выплакать свою любовь, свое горе, свою жизнь в этой тихой пустой комнате, озаренной призрачным светом луны.
XXX
Пока Мириам горько плакала по своей безнадежной любви, Тотилла быстрыми шагами приближался к аристократическому предместью, в котором находились виллы неаполитанской знати. Здесь, среди душистых садов и роскошных миртовых и апельсиновых рощиц, ютились в мирной близости племенные враги и политические соперники, забывая посреди дивной природы юга свои заботы, волнения и соперничество.
У маленькой калитки, через которую проходили невольники, поставщики и рабочие люди, молодого «садовника», присланного известным торговцем цветами, привратник предварительно спросил: откуда, с чем и к кому, – и затем передал невольнику, который и проводил его к заведующему садами, вольноотпущенному мужу старой кормилицы Валерии, пользующемуся полным доверием молодой хозяйки.
Старик Холтуларий принял из рук Тотиллы корзину с цветами и семенами и сейчас же ушел в сад, чтобы успеть рассадить молодые растения при лунном свете так, чтобы первые лучи солнца озарили саженцы согласно поверью древних садовников.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































