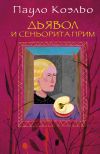Текст книги "Протекционизм и коммунизм"

Автор книги: Фредерик Бастиа
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
«Кража допускалась в Спарте, – пишет Роллен, – но строго наказывалась у скифов. Причина такой разницы ясна, потому что закон – а только закон решает вопросы собственности и использования имущества – не предоставляет у скифов никаких прав частному лицу насчет достояния другого частного лица, тогда как у лакедемонян закон прямо противоположен, и такие права в нем предусмотрены».
Затем наш добряк Роллен в пылу своей защитительной речи в отношении и самого Ликурга привлекает на свою сторону высочайшего авторитета, а именно Бога:
«Подобные права на чужое достояние – вещь самая обычная. Так, Господь не только разрешил бедным рвать гроздья в чужих виноградниках и собирать колосья на полях, даже унося целые снопы, но и предоставил любому прохожему свободу сколько угодно раз заходить в чужой виноградник и есть винограда сколько хочет, несмотря на возможные протесты хозяина виноградника. Бог сам дал этому первейшее обоснование: земля Израиля принадлежит ему, и поэтому израильтяне могут пользоваться ею лишь при таком обременительном условии».
Могут сказать, что это, так сказать, лишь личная доктрина Роллена. Но и я говорю то же самое, ибо я стараюсь показать, до какого нравственного недомогания могут быть доведены даже самые блестящие и безупречные умы в результате слишком долгого и тесного общения с этим жутким античным обществом.
Монтескье. Говорят, что Монтескье стяжал славу всего рода человеческого. Да, он один из великих писателей, каждая фраза которого бесспорно авторитетна. Упаси меня Боже пытаться преуменьшить его достоинства. Но что прикажете думать о классическом образовании, если оно ввело в заблуждение даже столь благородный ум, доведя его до восхищения самыми варварскими институциями античности?
«Древние греки, понимая, что люди, живущие при народном правлении, должны воспитываться как люди добродетельные, создали с этой целью особые институции… Законы Крита лежали в основе законов Лакедемона; законы Платона были их некоторой коррекцией.
Я прошу обратить внимание на величие гения этих законодателей, и тогда вы увидите, что, нарушая все привычные нравы и перемешивая между собой все добродетели, они явили миру свою мудрость. Ликург, смешивая плагиат, позаимствованный из прошлого, с духом справедливости, жесточайшее рабство с чрезвычайной свободой, кровожаднейшие чувства с величайшей умеренностью, обеспечил стабильность своему городу. Казалось, он отнял у него все средства существования, искусства, торговлю, деньги, даже стены. Все стремления людей были лишены надежды на какие-то перемены; у них были естественные стремления, но никто не чувствовал себя ни ребенком, ни мужем, ни отцом; у целомудрия была отнята сама стыдливость. Но именно такими путями Спарта пришла к величию и славе. Неуязвимость ее институций была такова, что их никто не мог пошатнуть, даже выигрывая войны против нее». (О духе законов, книга IV, глава VIII).
«Те, кто захочет создать подобные институции, учредят общность всех благ республики Платона, будут, как он того требует, уважать богов, будут чуждаться иноземцев ради сохранения своих собственных обычаев, и торговлей будет заниматься город в целом, а не его граждане; они лишат наши искусства всякой роскоши, а наши нужды – всякого желания».
А вот как Монтескье объясняет, почему древние придавали большое значение музыке:
«Я думаю, что могу объяснить это. Надо помнить, что в греческих городах, особенно в тех, где главным занятием была война, всякий труд и всякие занятия, способствовавшие приобретению денег, рассматривались как недостойные для свободного человека. «Большинство искусств и ремесел, – говорит Ксенофон, – уродуют тех, кто ими занимается; они вынуждены постоянно сидеть в тени или у огня, у них нет времени для друзей и для республики». Лишь в обстановке коррумпированности некоторых демократий ремесленники стали там гражданами. Об этом поведал нам Аристотель, который утверждает, что хорошая республика никогда не дала бы им гражданства.
Сельское хозяйство было тогда еще рабским занятием, и обычно им занимались покоренные народы: илоты у лакедемонян, периесьены у критян, пенесты у фессалийцев, другие народы-рабы в других республиках.
Наконец, греки считали унизительным заниматься всякой торговлей. Чтобы гражданин оказал какую-то услугу рабу, отпрыску догреческих народов, иностранцу – такая идея шокировала дух греческой свободы. Поэтому Платон предлагал в своих законах наказывать гражданина, занимающегося торговлей.
Из-за этого греческие республики оказывались в большом затруднении: не хотели (здесь и далее опять безличный оборот!), чтобы граждане трудились в торговле, сельском хозяйстве, ремеслах, но не хотели и того, чтобы они оставались праздными. Им было найдено занятие: гимнастика и разные другие упражнения, имеющие отношение к войне. Ничего иного, постороннего быть не могло. Поэтому надо рассматривать греков как общество атлетов и бойцов. Между тем эти упражнения, способствовавшие ожесточению и одичанию людей, нуждались в дополнении такими упражнениями, которые сдерживали бы необузданность и смягчали бы нравы. Музыка, достигающая человеческого духа через органы чувств, была весьма пригодна именно для этого».
(О духе законов, книга V).
Вот такое понимание свободы преподносит нам классическое образование. А теперь посмотрим, как оно учит нас понимать равенство и воздержанность:
«Хотя в демократии равенство есть душа государства, однако в действительности его настолько трудно обеспечить, что даже чрезвычайная точность и аккуратность в этом отношении будет недостаточна. Сначала надо провести перепись и установить ценз, чтобы выявить и несколько сгладить неравенство; затем надо принять отдельные законы по дальнейшему сглаживанию неравенства путем повышения налога с богатых и снижения или полной отмены его для бедных», (О духе законов, книга V, глава V).
«В хорошей демократии мало, чтобы участки земли были равными; надо, чтобы они были маленькими, как у римлян…
Равенство достояний ведет к воздержанности и умеренности, а эти качества, в свою очередь, поддерживают равенство достояний. Хотя вещи эти разные, они не могут существовать друг без друга», (О духе законов, глава VI).
«У самнитов был обычай, который в их маленькой республике и особенно при условиях их жизни давал великолепные результаты. Там все юноши представали перед жюри. Тот, кого объявляли лучшим из всех, брал себе в жены девушку, какую хотел; следующий брал любую из оставшихся и т. д… Трудно придумать более благородное и более величественное вознаграждение, совсем не дорогое для маленького государства и так хорошего воздействующее на молодых людей обоего пола.
Самниты вели свое происхождение от лакедемонян. И Платон, чьи институции представляют собой лишь усовершенствование законов Ликурга, предложил примерно такое же правило».
(О духе законов, книга VII, глава XVI).
Руссо. Ни один человек не оказал на Французскую революцию такого сильного влияния, как Руссо. «Его труды, – говорит Л.Блан, – были настольными книгами Комитета общественного спасения». «Его парадоксы, – говорит он же, – которые его век принимал за литературные вольности, вскоре зазвучали на ассамблеях страны как непреложные истины и были остры как шпага». А чтобы нравственная связь Руссо с античностью была очевидна всем, все тот же славослов Руссо добавляет: «Его стиль напоминал патетические и страстные речи одного из сыновей Корнелии16».
Впрочем, всякому известно, что Руссо был большим почитателем идей и нравов, которые обычно приписываются римлянам и спартанцам. Он сам как-то признался, что чтение Плутарха сделало его тем, кто он есть.
Первый же его письменный труд был направлен против человеческого интеллекта, и в нем, на первых же страницах, он восклицает:
«Разве забуду я, что именно в Греции возник город, знаменитый как своим счастливым неведением, так и мудростью своих законов, возникла республика скорее полубогов, чем людей, настолько высоки были их добродетели и доблести? О, Спарта, ты всегда посрамляла пустые доктрины! В то время как пороки, ведомые изящными искусствами, вторгались в Афины, в то время как тиран заботливо собирал там произведения царя поэтов, ты отгоняла от твоих стен искусство и его творцов, науку и ученых!» (речь о восстановлении наук и искусств).
В своей второй работе, «Речи о неравенстве условий», он еще более пылко обрушился на самые основы общества и цивилизации. В этой связи он считал себя толкователем античной мудрости:
«Я представляю себя находящимся в афинском лицее, где повторяю уроки моих учителей, где Платон и Ксенократ выступают судьями, а весь род человеческий – слушателями».
Господствующую идею этой знаменитой речи можно резюмировать так: Самая ужасная судьба ждет тех, кто, имея несчастье родиться после нам, добавит свои знания к нашим. Развитие наших способностей уже делает нас очень несчастными. Наши отцы были счастливее, потому что многого не ведали. Рим приближался к совершенству, Спарта уже была совершенна в той мере, в какой совершенство вообще совместимо с социальным состоянием. Но подлинное счастье для человека – жить в лесу, одному, голому, без связей, без привязанностей, без языка, без религии, без идей, без семьи в конце концов, в том состоянии, в каком он находился, когда он был очень близок к животному и вряд ли пользовался для ходьбы только ногами, не привлекая рук.
К несчастью, этот золотой век кончился. Люди прошли через промежуточное состояние, которое тоже было восхитительным:
«Пока люди довольствовались хижинами, шили одежду из шкур с помощью рыбьей кости вместо иглы, украшали себя перьями и ракушками, разрисовывали свое тело в самые разные цвета…, пока они изготовляли только, что мог изготовить один-единственный человек, они были свободны, вели здоровый образ жизни, были хороши собой и счастливы».
Увы! Они не сумели остановиться на этой первой ступени культуры:
«Как только один человек стал нуждаться в помощи другого (вот оно, зловещее появление общества!), как только было замечено, что один человек может добыть и заготовить провизии для двух людей, равенство исчезло, воцарилась собственность, труд стал необходимостью…
Металлургия и сельское хозяйство оказались теми двумя видами деятельности, изобретение которых произвело великую революцию. Для поэта это золото и серебро, для философа – железо и хлеб, которые цивилизовали людей и погубили род человеческий».
Нужно было, следовательно, выйти из природного состояния, чтобы войти в общество. Это послужило темой третьего произведения Руссо – «Об общественном договоре».
В мою задачу не входит анализировать здесь этот труд, и я ограничусь констатацией того обстоятельства, что греко-римские идеи воспроизводятся в нем на каждой странице.
Поскольку общество есть договор, каждый вправе формулировать в нем свои требования.
«Право регулировать условия общества принадлежит лишь тем, кто в это общество объединяется».
Но это не так-то просто сделать.
«Как люди будут их регулировать? С общего согласия или по внезапному наитию?…. Как слепое множество, часто не знающее, чего оно хочет, самостоятельно совершит столь великое и трудное дело как создание системы законодательства?… Для этого нужен законодатель».
Тем самым всеобщее голосование, допускаемое в теории, тотчас исчезает на практике.
Ибо как возьмется за такое дело законодатель, который должен быть человеком необыкновенным во всех отношениях, осмелившимся институировать целый народ, чувствующим себя способным изменить человеческую натуру, изменить нравственное и само физическое строение человека? Одним словом, такой законодатель должен изобрести некую машину и сделать ее из людей.
Руссо очень убедительно доказывает, что законодатель не может уповать ни на прямую силу, ни на силу убеждения. Как же выйти из положения? С помощью лжи и обмана.
«Во все времена это заставляло отцов народов прибегать к вмешательству небес и наделять богов своей собственной мудростью. Законодатель ссылается на этот высший разум, возвышающийся над вульгарными душами, и вкладывает свои решения в уста бессмертных, чтобы божественный авторитет заставил сдвинуться с места тех, кого удерживает обыкновенная человеческая осторожность. Но не каждому дано заставить говорить богов». («Боги», «бессмертные» – вот вам реминисценция классики!)
Как для его учителей Платона и Ликурга, как для его героев спартанцев и римлян, слова «труд» и «свобода» взаимно несовместимы по своему идейному содержанию. Поэтому, живя в соответствующем обществе, надо выбирать: либо отказаться быть свободным, либо умереть с голоду. Но тут появляется выход их затруднения – рабство.
«В тот самый момент, когда народ выделяет из своей среды своих представителей, он уже не свободен. Он больше не свободен!
У греков народ делал сам все, что ему нужно. Он беспрерывно собирался на площадях. Трудились за него рабы, а его главным делом была свобода. Но, лишившись прежних преимуществ, как сохранить прежние права? Вы начинаете больше заботиться о вашей выгоде, чем о вашей свободе и меньше опасаетесь превратиться в раба, чем стать нищим.
Как? Неужели свобода поддерживается лишь рабством? Быть может. Крайности сходятся. Все то, чего нет в природе, имеет свои неудобства, особенно это относится к обществу. Бывают такие злосчастные положения, когда можно спасти собственную свободу лишь за счет свободы другого и когда гражданин в высшей степени свободен только при условии, что раб есть в высшей степени раб. Именно так было в Спарте. У вас, нынешних народов, нет рабов, но вы сами рабы…» и т. д.
Вот она, классическая условность. Древние имели рабов, потому что обладали грубыми инстинктами. Однако, согласно традиции колледжей, все, что они творили, прекрасно, и древним приписываются утонченные соображения касательно квинтэссенции свободы.
Руссо противополагает естественное состояние состоянию социальному, и это противополагание губительно воздействует на мораль как индивида, так и государства и общества. По его системе получается, что общество есть результат договора, порождающего закон, который, в свою очередь, вытаскивает откуда-то из ничего справедливость и нравственность. В природном состоянии нет ни нравственности, ни справедливости. Отец ничем не обязан сыну, сын отцу, муж жене, жена мужу. «Я не должен ничего тому, кому я ничего не обещал; я признаю за другим только то, чего мне самому не нужно; у меня есть неограниченное право на все то, что мне понравится и что я могу взять».
Отсюда следует, что если заключенный когда-то общественный договор рухнет, то вместе с ним рухнет все – общество, закон, мораль, справедливость, долг. «Каждый, – говорит Руссо, – возвращает себе свои изначальные права и свою естественную свободу, теряя свободу обусловленную, которая заменяла свободу природную».
А между тем надо четко знать, что требуется совсем немногое, чтобы нарушить общественный договор. Такое случается всякий раз, когда частное лицо не выполняет своих обязательств или нарушает какой-нибудь закон; когда убегает из-под стражи преступник, услышав от общества: «Нужно, чтобы ты умер»; когда гражданин отказывается платить налоги, когда счетовод обкрадывает государственную кассу. Тогда общественный договор исчезает, все моральные обязательства прекращаются, справедливости больше нет, отцы, матери, дети, супруги не должны друг другу ничего, каждый получает неограниченное право брать все, чего пожелает, – одним словом, все население возвращается в природное состояние.
Предоставляю читателю поразмышлять, какое опустошение должны произвести подобные доктрины во времена революций.
Они, эти доктрины, не менее пагубны и для индивидуальной морали. Всякий молодой человек, преисполненный дерзости и разнообразных желаний, вступая в мир, скажет самому себе: «Порывы моего сердца – это глас природы, а природа никогда не ошибается. Мешающие мне институции созданы людьми, они суть лишь произвольные соглашения, в заключении которых я не участвовал. Я растопчу эти институции и получу двойное удовольствие: удовлетворю мои склонности и буду чувствовать себя героем».
Напомню читателю одну печальную и горестную страницу из «Исповедей» Руссо:
«Мое третье дитя оказалось среди найденышей, как и двое первых. То же самое произошло и с двумя последующими, так как у меня было пять детей. Такое урегулирование показалось мне превосходным, и если я скрывал свою радость, то единственно потому, что щадил чувства их матери… Отдавая моих детей на государственное воспитание, я смотрел на самого себя как на члена республики Платона!»
Мабли. Нет нужды приводить цитаты из произведений аббата Мабли, чтобы доказать его греко-римскую манию. Он был как бы сделан из одного куска материала, ум его был узок, сердце гораздо менее чувствительное, чем у Руссо, идея излагалась менее темпераментно и не содержала посторонних примесей. Он был откровенным приверженцем Платона, то есть коммунистом. Убежденный, как и все классицисты, в том, что человек есть сырье для производства институций, сам он предпочитал быть, тоже как все классицисты, производителем, а не сырьем. Поэтому он мнил себя законодателем. Как таковой, он сначала пытался институировать Польшу, но не преуспел в этом. Потом он предложил англо-американцам отведать спартанской похлебки, но те отказались. Оскорбленный такой слепотой и глухотой, он предсказал им падение Союза и отвел на его существование всего пять лет.
Позвольте сделать мне здесь одну оговорку. Цитируя абсурдные и подрывные доктрины таких людей, как Фенелон, Роллен, Монтескье, Руссо, я совершенно не намеревался утверждать, что у этих великих писателей нет страниц, преисполненных разума и высокой нравственности. Но все ложное в их книгах проистекает из классической условности, а все истинное имеет совсем другой источник. В этом и заключается и этим иллюстрируется мой тезис о том, что образование, основанное исключительно на греческом и латыни, делает всех нас живыми противоречиями. Оно тянет нас в прошлое, прославляемое всесторонне, включая прославление ужасов, и все это в то время, когда христианство, этот дух века и основа здравого смысла, никогда не теряющего своих прав, показывает нам идеал нашего будущего.
Я избавлю читателя от разговора о Морелли, Бриссо17, Рейнале, оправдывающих – да что я говорю? – восторгающихся войной, рабством, использованием богов в поддержку лжи, обобществлением достояний, праздностью. Кто может усомниться, что источник их доктрин грязен и зловонен? Все-таки я прямо назову этот источник: классическое образование, навязанное нам всем через посредство бакалаврской системы.
«Спокойная», «мирная» и «чистая» античность изливает свой яд не только в литературных произведениях, но и в трудах правоведов. Я очень сомневаюсь, что у наших законников можно найти что-нибудь хотя бы приближенное к разумному понятию права собственности. А каким же может быть законодательство, в котором такое понятие отсутствует? На днях я пролистал «Трактат о праве людей» Ваттеля18. Целую главу автор посвятил вопросу о том, разрешается ли похищать женщин. Ясно, что эта бесценная глава навеяна римской легендой о похищении сабинянок. Взвесив с величайшей серьезностью и обстоятельностью все «за» и «против», автор дает утвердительный ответ. Слава Рима подсказала ему такой ответ. Разве римляне бывали когда-нибудь неправы? Все та же условность запрещает нам даже и вообразить такое. Римляне – это римляне, и точка. Поджог, грабеж, похищение – все, совершаемое ими, «спокойно», «мирно», «чисто».
Не станете же вы утверждать, что я даю субъективные оценки вещам! Пусть же нашему обществу повезет и пусть униформизированное классическое образование, подкрепленное взглядами Монтеня, Корнеля, Фенелона, Роллена, Монтескье, Руссо, Рейналя, Мабли, не сформирует всеобщее мнение. В общем, будущее покажет.
А пока что мы видим свидетельство того, что коммунистическая идея захватила не только нескольких индивидов, а целые объединения и сообщества и самых образованных и влиятельных людей. Когда иезуиты пожелали навести социальный порядок в Парагвае, каковы были их намерения, продиктованные изучением прошлого? Да все те же намерения Миноса, Платона и Ликурга. Они провели там в жизнь коммунизм, за которым не преминули наступить печальные последствия. Индейцы опустились на несколько ступеней ниже своего дикого состояния. Тем не менее европейцы упрямо потворствуют коммунистическим институциям, изображая их как верх совершенства и поздравляя со счастливой жизнью безымянные существа (потому что это уже не люди), пасущиеся под надзором иезуитов с плетками.
Руссо, Мабли, Монтескье, Рейналь, все эти великие проповедники великих миссий и предназначений, проверили они хотя бы достоверность фактов, которыми оперируют? Ничего они не проверяли. Разве, мол, греческие и латинские книги могут содержать ошибки? Разве можно заблудиться, взяв в проводники Платона? Так что парагвайские индейцы были осчастливлены, должны были быть осчастливленными, а не оказаться на самом дне вопреки всем правилам. Азара19, Бугенвиль20 отправились туда уже с предвзятыми идеями, готовясь повстречать множество чудес. Поначалу они, как говорится, в упор не видели печальную действительность, не могли в нее поверить. Однако пришлось смириться перед очевидностью, и в конце концов они признали, к своему глубокому сожалению, что коммунизм есть обольстительная химера и жуткая реальность.
Логика неумолима. Вполне ясно, что цитированные мной авторы не осмелились довести свою доктрину до логического конца. Эту их промашку взялись исправить Морелли и Бриссо. Как верные ученики Платона, они проповедовали обобществление имущества и женщин и при этом, заметьте, беспрерывно приводили примеры и рекомендации, взятые из той самой прекрасной античности, которой все, как будто сговорившись, восхищаются.
Вот так обстояло дело с представления о семье, собственности, свободе, обществе, представлениями, внушенными французскому общественному мнению воспитанием и образованием под руководством церкви, когда вспыхнула Революция. Она, конечно, была вызвана причинами, не имеющими прямого отношения к классическому образованию. Но вполне правомерно полагать, что оно примешало к ней кучу ложных идей, грубых чувств, подрывных утопий, фатальных экспериментов. Прочтите речи в Законодательном собрании и в Конвенте. Вы сразу распознаете язык Руссо и Мабли. Вы увидите пересказы, подражания, манеры, неотрывные от имен Фабриция, Катона, обоих Брутов, Гракхов, Катилины. Намереваются проявить жестокость? Что ж, для ее, так сказать, прославления приводят в пример кого-нибудь из римлян. Вложенное в голову образование переходит в действие. Спарта и Рим – общепризнанные образцы; значит, надо подражать им или пародировать их. Один хочет учредить Олимпийские игры, другой – принять аграрные законы, третий – раздавать похлебку на улицах.
Я не думаю осветить здесь весь этот вопрос. Для этого нужна опытная рука, которая написала бы нечто большее, нежели памфлет о влиянии греческого и латыни на дух наших революций. Я ограничусь некоторыми моментами.
Две крупные фигуры доминируют во Французской революции и персонифицируют ее – Мирабо и Робеспьер. Какова же их доктрина собственности?
Мы видели, что античные народы обеспечивали себе средства существования грабежом и разбоем и практикованием рабства, и это не могло привязать собственность к ее истинному принципу. Они вынуждены были считать ее вещью условной, договорной и основывали ее на законе, а это позволяло включить в понятие собственности также рабство и кражу, как наивно объясняет Роллен.
Руссо говорил: «Собственность есть договорная человеческая институция, заменившая собой свободу, рассматриваемую как дар природы».
Мирабо проповедовал ту же самую доктрину:
«Собственность есть социальное творение. Законы не только защищают и протежируют собственность, они порождают ее, определяют, дают ей свое место и свои масштабы в системе прав граждан».
Когда Мирабо так высказывался, он не намеревался теоретизировать. Его действительной целью было привлечь законодательство, чтобы ограничить осуществление права, созданного им самим же.
Робеспьер воспроизводит формулировки Руссо:
«Определяя свободу, эту первейшую необходимость человека и самое священное право, которое дала ему природа, мы правомерно утверждаем, что свобода имеет пределом такое же право на нее другого. Почему же вы не прилагаете этот принцип к собственности, которая есть социальная институция, как будто законы природы слабее договоров между людьми?»
После такой преамбулы Робеспьер переходит к собственно определению:
«Собственность есть право каждого гражданина пользоваться и распоряжаться достоянием, которое гарантируется ему законом».
Вот тут-то и выступает, очень четко, противостояние между свободой и собственностью. Получаются два права разного происхождения. Одно идет от природы, другое от социальной институции. Первое естественно, второе условно.
А кто делает законы? Законодатель. И он может ввести в действие такое право собственности, какое ему заблагорассудится.
Поэтому Робеспьер спешит сделать выводы из своего определения и произвести из него право на труд, право на помощь и прогрессивный налог:
«Общество обязано обеспечивать существование всех своих членов, либо предоставляя им работу, либо снабжая средствами существования тех, кто не способен трудиться.
Необходимая помощь в нужде – это долг богатого перед бедным. Способ исполнения этого долга надлежит определять закону.
Граждане, чей доход не превышает уровня, необходимого для их существования, освобождаются от участия в государственных расходах. Другие должны в них участвовать прогрессивно – в зависимости от величины их доходов».
Тем самым Робеспьер, говорит г-н Сюдр21, принимал все меры, которые, по замыслу их изобретателей да и на практике, представляют собой переход от собственности к коммунизму. Применяя платоновские «Законы», он, сам того не зная, двигался в направлении к реализации того социального состояния, которое описано в книге «Республика».
(Известно, что Платон написал две книги: одна, «Республика», описывает идеальное совершенство – общность имущества и женщин; в другой, «Законах», предлагаются способы перехода к такому совершенству.)
Впрочем, Робеспьер может рассматриваться и как энтузиаст античного «покоя», «мира» и «чистоты». Сама его речь о собственности изобилует декламациями такого рода: Аристид не позавидовал бы сокровищам Красса! Фабриций в своей лачуге не завидовал дворцу Красса! И т. д.
Раз уж Мирабо и Робеспьер предоставляли законодателю устанавливать предел праву собственности, то не имеет особого значения выяснять, какой именно предел они считали подходящим. Их устраивало не заходить дальше права на труд, права на помощь и прогрессивного налога. Но другие, более последовательные, на этом не останавливались. Если закон, создающий собственность и распоряжающийся ею, может сделать один шаг к равенству, то почему бы ему не сделать два шага? Почему бы ему не реализовать абсолютное равенство?
Робеспьера обогнал Сен-Жюст – так должно было случиться. Сен-Жюста обогнал Бабеф – так тоже должно было случиться. В движении по такому пути есть только одно разумное окончание, и оно было указано все тем же божественным Платоном.
Итак, Сен-Жюст… Однако я слишком плотно окружаю себя вопросами собственности. Я забываю, что взялся показать, как классическое образование извратило все понятия о нравственности. Поэтому, будучи убежден, что читатель поверит мне на слово, когда я утверждаю, что Сен-Жюст обогнал Робеспьера на пути к коммунизму, я возвращаюсь к моей главной теме.
Прежде всего надо знать, что заблуждения Сен-Жюста вытекают из классического обучения. Как и все люди его времени, да и времени нашего, он был насквозь пропитан античностью. Он мнил себя Брутом. Находясь далеко от Парижа по воле своей партии, он писал:
«О Боже! Разве нужно, чтобы Брут изнывал от тоски, забытый всеми, далеко от своего Рима? Но выбор сделан, и если Брут не убивает других, он убьет самого себя».
Убивать! По-видимому, таково в нашем мире предназначение человека.
Все эллинисты и латинисты согласны, что принцип республики – добродетель, но одному Богу известно, что они понимают под этим словом. Вот почему Сен-Жюст пишет:
«Республиканское правление имеет принципом если не террор, то добродетель».
Как уже говорилось, в античности господствовало убеждение, что труд достоин лишь презрения. Вот и Сен-Жюст тоже осуждает его:
«Какое-либо ремесло плохо согласуется со званием подлинного гражданина. Руки даны человеку для того, чтобы, разве что, взрыхлять землю, но главное – владеть оружием».
Как раз для того, чтобы никто не погрязал в каком-нибудь ремесле или профессии, он хотел распределить все земли поровну между всеми.
Мы уже видели, что, согласно идеям древних, законодатель соотносится с человечеством так же, как гончар соотносится с глиной. К сожалению, когда такая идея господствует, никто не хочет быть глиной, а каждый желает быть гончаром. Оно и видно, как Сен-Жюст выступает в такой выигрышной роли:
«Когда я буду убежден в том, что не смогу дать французам мягкость и чувствительность и одновременно твердость и несгибаемость по отношению к тирании и несправедливости, я всажу себе нож в грудь.
Если будут здравые обычаи и нравы, все пойдет хорошо, а для очищения нравов нужны институции. Чтобы преобразовать нравы, нужно начать с удовлетворения необходимых потребностей и интересов. Надо дать каждому по небольшому участку земли.
Дети будут носить холщовую одежду во все времена года. Они будут укладываться на циновки и спать по восемь часов. Они будут питаться вместе и есть только коренья, фрукты, овощи, хлеб и пить воду. Они будут получать мясо лишь по исполнении шестнадцати лет.
По достижении двадцати пяти лет мужчины будут каждый год, собравшись в храме, объявлять имена своих друзей. Если кто-нибудь покинет друга без достаточных на то оснований, он будет изгнан!»
Так Сен-Жюст, подражая Ликургу, Платону, Фенелону, Руссо, заведует обычаями, чувствами, богатствами и детьми французов, наделяя себя такими правами и могуществом, каких нет у всех французов, вместе взятых. Человечество – карлик в сравнении с ним, вернее оно существует и живет лишь в нем самом. Мозг человечества – это его мозг, сердце человечества – это его сердце.
Вот она, лестница к революции, сооруженная греко-латинской условностью, конвенционализмом. Платон начертал идеал. Священники и светские люди принялись в семнадцатом и восемнадцатом веках восторгаться этим чудом. Настал час действия: Мирабо спустился на первую ступень, Робеспьер на вторую, Сен-Жюст на третью, Антонель22 на четвертую и Бабеф, более логичный, чем все его предшественники, – на последнюю, на ступень абсолютного коммунизма и чистейшего платонизма. Мне надо было бы процитировать здесь его писания, но я ограничусь самым характерным: он подписывал их именем Кая Гракха.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.