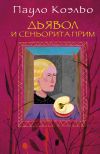Текст книги "Протекционизм и коммунизм"

Автор книги: Фредерик Бастиа
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Люди обменивают между собой либо продукты на продукты, либо продукты на услуги, либо услуги на услуги. Поскольку продукты приобретают ценность только ввиду того, что они дали повод для оказания услуги, можно даже утверждать, что все сводится ко взаимности услуг.
А между тем очевидно, что таможня может протежировать только такой вид услуг, ценность которых включена в материальный продукт, могущий быть задержанным или захваченным на границе. Она никак не может протежировать прямые услуги, повышая их ценность, услуги, оказываемые медиком, адвокатом, священником, судьей, солдатом, торговцем, литератором, художником, ремесленником, а все они составляют значительную часть населения. Таможня не может также протежировать человека, отдающего, так сказать, взаймы свой труд, потому что такой человек не продает продукты, а оказывает услуги. Да и вообще от так называемых выгод протекции отстранены все рабочие и все поденные работники. Но если протекция не дает им выгоды, она им вредит, и здесь начинает ощущаться некий контрудар, который чувствуют на себе сами протежируемые.
У нас имеются только два протежируемых класса, да и то протежируемых далеко не равным образом. Это владельцы мануфактур и земельные собственники. Эти два класса смотрят на таможню как на Провидение, и все же мы очень часто наблюдаем, как они стонут и жалуются на разорение. Видимо, протекция не столь уж эффективна для них, как они того ждали. Кто решится утверждать, что сельское хозяйство и мануфактурное производство более преуспевают от протекции в таких странах, как Франция, Испания, Ватикан и прилегающие государства, чем у народов, имеющих больше свободы, таких как швейцарцы, англичане, бельгийцы, голландцы, тосканцы.
То, что происходит с протекцией, аналогично или даже идентично тому, что происходит с налогами, о чем мы говорили выше. Как в налогообложении существует предел, за которым оно перестает быть выгодным, так и в протекции существует такой же предел. Предел этот – уничтожение способности к потреблению, и именно к такому пределу направлены и протекция, и налог. А между тем благополучие казны напрямую зависит от благополучия налогоплательщиков. Таким же образом промышленность приобретает ценность лишь благодаря богатству своей клиентуры. Отсюда следует, что когда фиск или монополия пытаются развиваться ценой разорения потребителя, оба оказываются в одном и том же порочном круге. Наступает момент, когда, увеличивая цифру ставки, они уменьшают цифру выручки. Протежируемые не понимают, почему их отрасль оказалась в депрессии несмотря на милости запретительного режима. Как поступает и фиск, они ищут способ выправить положение посредством ужесточения этого режима. Так пусть же они зададутся вопросом, не эти ли самые милости угнетают их. Пусть они посмотрят на половину, на две трети нашего населения, которые из-за этих несправедливых милостей лишаются железа, мяса, сукна, хлеба, которые мастерят себе повозку из ивовых прутьев, питаются просом и ячменем, как птицы, или каштанами, как некие создания, менее поэтичные, чем птицы4.
Раз уж я пустился в такие рассуждения, позвольте мне закончить их своего рода притчей.
Когда-то в королевском парке было множество прудов, и все они соединялись подземными трубами, так что уровень воды в них всегда оставался одинаковым. Эти водоемы получали воду из большого канала. И вот один из водоемов, отличавшийся амбициозностью, пожелал получать значительно большую часть воды, предназначенную для всех водоемов. Дело не кончилось бы особой бедой, потому что уровень воды оставался бы одинаковым у всех, но жадный и неосторожный водоем придумал хитрость, приведшую к потере воды в большом канале. О происшедшем все догадались. Уровень снизился повсюду, даже в хитром водоеме. Тогда он сказал самому себе (в притчах все разговаривают, даже водоемы): «Странно! Я стал получать воды больше, чем раньше, и на какой-то момент уровень ее был у меня выше, чем у моих собратьев. И вот теперь я с горечью наблюдаю, как все мы, и я тоже, приближаемся к полному высыханию». Этот водоем, столь же несведущий в гидравлике, как и чуждый всякой нравственности, закрывал глаза на два обстоятельства: первое – подземная связь между всеми водоемами, непреодолимая преграда для него, несправедливо захотевшего пользоваться исключительным и постоянным преимуществом; второе – общая потеря воды из-за его хитроумного изобретения, потеря, которая будет продолжаться и приведет к полному исчезновению воды.
Я утверждаю, что в нашем социальном порядке присутствуют оба эти обстоятельства, и не учитывать их значит рассуждать необоснованно и неумно. Прежде всего между всеми отраслями промышленности существуют невидимые связи и некие трансмиссии между трудом и капиталом, которые не позволяют никому и ничему поднять свой обычный уровень выше, чем у всего остального, и притом сделать это на постоянной основе. Далее, при всех вообразимых способах реализовать несправедливость, то есть протекцию, сразу возникает радикальная порочность, ведущая в конечном счете к полной потере всех богатств. Из этих двух обстоятельств следует, что уровень благосостояния снижается повсеместно, даже в протежируемых промышленных отраслях, как снижается уровень воды в жадном и глупом водоеме.
Я так и знал, что идея свободы обмена отклонит меня с пути моей основной темы. Ну, ладно, ладно! Идея эта поистине неотразима. Но все-таки вернемся к проблеме фиска.
Я сказал бы протекционистам: не согласитесь ли вы, учитывая настоятельные нужды республики, несколько поумерить вашу жадность? Когда казна находится в отчаянном положении, когда банкротство грозит поглотить ваше достояние и уничтожить вашу безопасность, когда таможня готова бросить нам, утопающим, спасительную доску спасения, когда она может наполнить государственные кассы, не вредя массам, а напротив, облегчая их тяжелую ношу налогов, неужели вы так и останетесь несгибаемыми в вашем эгоизме? Вы должны сами в этот торжественный и решающий момент возложить на алтарь отечества жертву, о которой вы знаете и которую чувствуете, – жертву в виде части ваших привилегий. Вы будете вознаграждены уважением со стороны общества, да еще, осмелюсь предсказать, собственным материальным процветанием.
Неужели это требовать слишком многого – просить вас заменить запреты, ставшие несовместимыми с нашим конституционным законом, пошлинами в 20–30 процентов, то есть сократить наполовину тариф на железо и сталь, эти мускулы труда; на каменный уголь, этот хлеб промышленности; на шерсть, лен, хлопок, эти материалы для рабочих рук; на хлеб и мясо, эти соки для всякой жизненной силы?
И вот я уже вижу, как вы становитесь разумными5; вы принимаете мою нижайшую просьбу, и теперь мы можем бросить взгляд, нравственный и финансовый взгляд, на наш по-настоящему исправленный бюджет.
Вот появляются вещи, ставшие, наконец, доступными рукам и губам людей: соль, письма, напитки, сахар, кофе, железо, сталь, горючее, шерсть, лен, хлопок, мясо и хлеб! Если еще отменить и акциз, то мы получим глубокое преобразование или даже полную отмену отвратительного закона о рекрутировании, этого ужаса и бича наших деревень. И я спрашиваю, разве не пустит тогда республика глубочайших корней во все фибры народной души? Будет ли тогда легко сбить народ с толку, поколебать его? Понадобятся ли пятьсот тысяч штыков, чтобы запугать партии… или обнадежить их? Не обретем ли мы укрытие от этих жутких потрясений, которыми, кажется, перенасыщен сам воздух? Не сможем ли мы, наконец, обрести обоснованную надежду на благополучие, не поймем ли, что власть решительно встала на путь справедливости, возрождения труда, доверия, безопасности, кредита? Неужели химерично думать, что все эти благотворные следствия будут воздействовать на наши финансы гораздо более надежно и положительно, чем при посредстве высоких налогов и всяческих помех.
Что же касается нашего нынешнего финансового положения, то давайте посмотрим, что получится с ним.
Вот сокращения, к которым приведет предлагаемая система:

Добавлю к этому, что потеря, ввиду самой своей природы, должна уменьшаться из года в год.
Снизить налоги (что далеко не всегда означает уменьшение выручки) – вот, следовательно, первая половина республиканской финансовой программы. Вы скажете: при наличии дефицита это весьма рискованно. Я отвечу: нет, это не риск и не безрассудство, а простая осторожность. Рискованно, безрассудно и неразумно – это продолжать упорно двигаться по дороге, которая уже привела нас к пропасти. Посмотрите, в каком мы оказались положении! Да вы и сами видите: косвенный налог вызывает у вас беспокойство, а на сборы от прямого налога вы рассчитываете лишь при условии, что в нем будет применена подвижная шкала. Так что же, бродим мы среди призраков или рассуждаем рационально? Да и как могло получиться иначе? Возьмем сотню человек, которые создают и вскладчину оплачивают общую силу, нужную им для обеспечения своей безопасности. Постепенно эту силу отвлекают от ее прямых обязанностей и ставят перед ней множество новых и иррациональных задач. Ввиду этого число людей, живущих на оплату собственной силы, растет, сама оплата тоже растет, а число платящих уменьшается. Зато растет недовольство и разочарование. Так как же собираются поступить? Вернуть общую силу к ее первоначальному предназначению? Нет, это, мол, слишком простенько, да и рискованно. Наши государственные деятели более дальновидны; они намереваются уменьшить число людей, платящих налоги, и увеличить число людей, живущих за счет налоговых поступлений. Для этого нам нужны новые ставки налогов, чтобы поддерживать подвижные шкалы, а подвижные шкалы нужны нам для обеспечения сбора новых налогов. Неужели в этом не видят порочного круга? Не желают видеть! И мы получаем и будем получать чудесненький результат, когда половина граждан обирает и обкарнывает другую половину. И это называется мудрой и практичной политикой! Все остальное, дескать, утопия. Дайте нам еще несколько лет, говорят, финансисты, позвольте нам довести до конца систему, и вы увидите, что мы достигнем в конце концов знаменитого равновесия, к которому мы стремились так долго и которому мешали как раз те самые способы, которые мы сами применяли два десятка лет.
Так что не так уж парадоксально, как может показаться с первого взгляда, взять да и пойти обратным путем, искать равновесия в облегчении налогового бремени. И разве равновесие потеряет свое имя, если вместо трудных поисков 1500 миллионов мы легко получим 1200 миллионов?
Но эта первая часть программы обязательно должна иметь дополнение: снижение расходов. Без такого дополнения система, и тут я согласен, превращается в утопию. А с этим дополнением пусть попробует кто-нибудь сказать – кроме лиц, прямо заинтересованных в обратном, – что система не приведет прямо к цели и притом самой безопасной дорогой.
Добавлю, что уровень снижения расходов должен быть выше уровня поступлений, иначе, после выравнивания, все дальнейшие попытки улучшить положение будут тщетными.
Наконец, приходится сказать, что вся совокупность предлагаемых мер не может дать все свои положительные результаты в течение всего-навсего одного финансового года, как этого, быть может, ожидают.
Мы уже видели, когда говорили о выручках, что для того, чтобы придать им силу роста, основанную на принципе всеобщего благополучия и процветания, нужно начать с уменьшения суммы выручек, ибо для развития только что названной силы требуется определенное время.
То же самое и с расходами. Их сокращение может быть лишь постепенным, но неуклонно нарастающим.
Когда правительство довело свои расходы до слишком большой, прямо-таки удручающей цифры, это означает, иными словами, что многие, так сказать, пристроились к такому расточительству, которое стало для них кормушкой. Так что идея перейти к экономности, не затрагивая никого, содержит в себе противоречие. Выступать против реформы ввиду того, что она, дескать, ущемляет некоторых, означает отказ от всяких радикальных мер по исправлению положения, означает сказать: «Раз уж в мире утвердилась несправедливость, пусть она в нем и остается». Вот вам вечный софизм обожателей злоупотреблений.
Определенные ущемления некоторых индивидов представляют собой неизбежное следствие всякой реформы, хотя законодатели и должны постараться как-то смягчить их участь. Что до меня, то я не из тех, кто полагает, будто член общества, привлеченный самим обществом к какой-либо карьере, сделавший эту карьеру и постаревший на ней, ставший неспособным заниматься чем-либо другим, чтобы обеспечить свое существование, может быть ни с того ни с сего выброшен на улицу все тем же обществом. Всякое лишение человека тех занятий, к которым он привык и потратил на них всю свою активную жизнь, налагает на общество груз обязанностей, продиктованных гуманностью и, добавлю, строгим исполнением принципа справедливости.
Отсюда следует, что изменения, вносимые как в доходную, так и в расходную части бюджета, не могут дать немедленных результатов. Они лишь зерна, требующие времени для произрастания, и вся система предполагает, что расходы будут снижаться из года в год при замедляющихся темпах снижения, а доходы будут расти тоже из года в год параллельно повышению общего благосостояния, притом весь процесс будет проходить так, что в конце концов мы получим равновесие или еще что-нибудь получше.
Что касается так называемого разочарования в многочисленном классе чиновников, то я утверждаю, что при той растяжке во времени, о которой я только что сказал, я этого не опасаюсь. К тому же скрупулезность здесь – довольно странная вещь. Насколько мне известно, она нисколько не мешала массовым смещениям с должностей после каждой революции. Да и посмотрите, какая огромная получается разница! Прогнать служащего, чтобы отдать его место другому служащему, это больше, чем нарушить его интересы, это унизить его достоинство и попрать его глубокое чувство справедливости и права. Но когда увольнение, сопровождаемое возмещением и вознаграждением, есть результат упразднения самой должности как таковой, то это может, конечно, как-то повредить человеку, но не вызовет у него раздражения и обиды. Рана в данном случае менее тяжела, и тот, кому она будет нанесена, утешится приличным государственным вознаграждением.
Мне нужно было представить эти соображения и размышления на суд читателя, потому что речь шла и идет о глубоких реформах, неизбежно вовлекающих в свою орбиту очень и очень многих наших сограждан.
Я не буду давать обзор всех расходных статей бюджета, хотя мне представляется полезным и политичным произвести здесь сокращения. Сам бюджет содержит в себе всю политику. Он бывает раздутым или тощим в зависимости от требований, предъявляемых государству общественным мнением. Зачем показывать, что упразднение такой-то правительственной службы даст такую-то экономию, если сам налогоплательщик предпочитает экономии услугу? Бывают реформы, требующие предварительных долгих дебатов и кропотливой обработки общественного мнения, и я не вижу, чего ради мне вступать на путь, по которому общественность наверняка за мной не последует. Сегодня Национальное собрание решило, что оно примет первый республиканский бюджет. У него для этого крайне мало времени. И чтобы рассказать о реформе, которая немедленно оказалась бы практичной, я должен отвлечься от общих и философских соображений, которыми поначалу намеревался поделиться с читателем. Я ограничусь тем, что лишь укажу на эти соображения.
Всякую радикальную финансовую реформу отбрасывает в далекое будущее то обстоятельство, что во Франции не любят свободу. Не любят чувствовать ответственность за самого себя, не доверяют собственным силам и обретают некоторую уверенность лишь тогда, когда чувствуют повсюду руку правительства, а это обходится дорого.
Если бы, например, верили в свободу образования, то что оставалось бы делать, кроме как упразднить бюджет народного образования?
Если бы действительно дорожили свободой совести, то как ее реализовать иначе, кроме как упразднить бюджет культов?[7]7
Соглашение, заключенное между нашими отцами и церковью, препятствует этой реформе, столь желанной и столь соответствующей принципу справедливости.
[Закрыть]
Если бы понимали, что сельское хозяйство совершенствуется сельскими хозяевами, а торговля торговцами, то пришли бы к заключению: сельскохозяйственный и торговый бюджет представляет собой излишество, от которого давно свободны передовые и развитые народы.
Если и необходим какой-то надзор государства в области образования, культов, торговли, то для этого достаточно иметь небольшое специализированное подразделение в министерстве внутренних дел, а иметь целых три министерства совсем не нужно.
Таким образом, свобода – вот первый и самый обильный источник экономного, но вполне достойного существования.
Однако этот источник не создан для наших губ и ртов. Почему? Единственно потому, что общественное мнение его отвергает6.
Следовательно, при сохранении университетской монополии наши дети тоже будут напичкиваться ложными и римскими идеями, им будут прививать воинственный и революционный дух латинских авторов, они будут зубрить наизусть непристойные стихи Горация и окажутся совершенно неприспособленными к жизни современного общества. Мы так и не будем свободными, а следовательно, нам придется оплачивать наше собственное порабощение, потому что народы могут держаться в порабощении лишь за счет больших расходов.
Мы по-прежнему видим, как наше сельское хозяйство и торговля изнывают и чахнут в тисках наших ограничительных законов. Больше того, мы платим за их оцепенение, так как помехи, регламентация, ненужные формальности – все это может проводиться в жизнь лишь сотрудниками государственной силы, а сотрудники государственной силы могут жить лишь на бюджетные средства.
Повторю, что нынешнее зло неизлечимо нынешними способами, потому что общественное мнение приписывает угнетению и порабощению все наше интеллектуальное и промышленное развитие, хотя на деле угнетение и порабощение просто не могут его остановить и задушить.
Умами овладела странная и зловещая идея. Когда речь идет о политике, то полагают, будто социальный мотор, если так можно выразиться, действует в интересах и согласно взглядам индивидов. Придерживаются аксиомы Руссо «Всеобщая воля не может ошибаться». И, исходя из этого принципа, с энтузиазмом принимают декрет о всеобщем голосовании.
Но, со всех иных точек зрения, исходят из прямо противоположного. Не допускают и мысли, что двигатель прогресса – это индивидуальность, естественно стремящаяся к собственному благополучию, жаждущая света интеллекта и ведомая опытом. Нет, исходят из того, что человечество разделено на две части. С одной стороны, существуют индивиды, инертные, лишенные всяких побудительных мотивов, всяких принципов, ведущих к прогрессу, или же руководствующиеся извращенными мотивами, которые, если дать волю таким индивидам, неизбежно приведут всех к абсолютному злу. С другой стороны, есть некое коллективное существо, общая сила – одним словом, правительство, которому приписывают врожденную ученость, естественное стремление к благу и наделяют миссией менять направление индивидуальных тенденций. Думают, что если бы люди были свободны, они отказались бы от всякого образования, всякой религии, всякой промышленности или, что еще хуже, старались бы иметь образование, чтобы совершать ошибки, религию – чтобы прийти к атеизму, труд – чтобы пожрать остатки разрушенного. Так что нужно, чтобы индивиды подчинялись регламентации, установленной коллективным существом, которое, однако, есть не что иное как собрание все тех же индивидов. Каким таким образом естественные склонности всех фракций общества направлены ко злу, а естественные склонности всего общества направлены к добру? Если все врожденные способности человека нацелены в ничто, то где правительство, состоящее тоже из людей, найдет точку опоры, чтобы переменить это самоубийственное направление?7
Как бы там ни было, пока господствует столь странная теория, приходится отказываться от свободы и от сопряженной с ней экономности. Приходится оплачивать собственные цепи, которыми скованы люди, ведь они любят эти цепи, а государство никогда не дает ничего даром, даже цепи.
Бюджет – это не только вся политика, это еще, во многих отношениях, и нравственность народа. Это зеркало, в котором, наподобие Рено, мы видим отражение наших предрассудков, пороков, сумасшедших претензий и видим также наказание за них. Мы видим в бюджете целый поток напрасных и вредных затрат, который мы не в силах остановить, так как не можем отказаться от склонностей, питающих этот поток. А что может быть бесполезнее и тщетнее, чем желать устранить результат, когда причина не исчезла? Не могу не поддаться искушению процитировать то, что я назвал бы, хотя это звучит жестко, духом нищеты, который заполонил души и умы всех классов, богатых и бедных8.
Разумеется, в сфере личных отношений французский характер не боится сравнений ни с чем, ибо обличается независимостью и гордостью. Упаси меня, Боже, порочить мою страну, тем более клеветать на нее. Но я не понимаю, как так получилось, что те же самые люди, которые, даже впав в крайнюю нищету, стесняются просить милости у себе подобных, теряют всякую щепетильность и стыдливость, прося всяческое вмешательство государства, и закрывают глаза на низость подобного поведения. Пока не будет твердо потребована индивидуальная свобода, пока государство будет выступать посредником во всех делах, о достоинстве, видимо, придется забыть, и попрошайничество не будет стыдом, как не будет несправедливостью кража или грабеж. Землевладельцы, хозяева мануфактур, купцы, судовладельцы, художники, певцы, танцоры, писатели, чиновники всякого рода и ранга, предприниматели, поставщики, банкиры – все у нас во Франции чего-нибудь просят и все обращаются к бюджету. И вот уже весь народ, во всей своей массе, занимается тем же самым. Один хочет места, другой пенсии, тот премий, этот субсидий, пятый невесть что за вознаграждения, шестой ограничений, седьмой кредитов, восьмой какой-нибудь работы. Все общество устремляется к бюджету, чтобы урвать себе, в той или иной форме, какую-то его часть. В своей лихорадке калифорнийского пошиба оно забывает, что бюджет – не Сакраменто, где природа держит золото, и что бюджет содержит лишь то, что само общество-проситель вложило в него. Оно забывает, что щедрость власти никогда не может сравниться с его жадностью, потому что из своего фонда она всегда удерживает средства, потребные для оплаты своей двойной службы – собирания налогов и распределения налоговых поступлений.
Чтобы придать всем этим неприглядным вещам какой-то авторитет и видимость системы, охотно обращаются к словечку «солидарность», которое в данном контексте означает не что иное как усилие всех граждан опустошить карманы друг друга, причем сделать это через дорогостоящее посредничество государства. Вполне понятно, что как только дух нищеты становится системой и почти наукой, как только создаются разорительные институции, тут уж нет никаких пределов воображению и фантазиям.
Однако, и мне приходится признать это, сейчас, прямо сей час, невозможно что-либо исправить, и я завершаю разбор этой проблемы вопросом: не думаете ли вы, что дух попрошайничества, доведенный до такой степени, когда вся нация грабит или пытается грабить бюджет, подорвет безопасность и достояние самого государства?
По тем же самым причинам нам плотно закрыт путь к другому и весьма значительному источнику обеспечения экономности. Я имею в виду Алжир. Надо смириться и платить, пока нация не поймет, что отправить в колонию сотню человек и вдобавок вдесятеро больше капитала, на который они могли бы жить во Франции, это не облегчить ничью участь, а обделить всех.
Поэтому продолжим поиски спасения где-нибудь еще.
Читатель должен согласиться, что я не утопист, ибо у меня хорошая коллекция и еще есть что урезать. Лично я – один из готовых к этому, даже получше других. Но все ограничения наших самых ценных свобод, мания попрошайничества, самодовольство мнимыми завоеваниями – все это я уступаю общественному мнению. А взамен пусть оно позволит мне взять реванш и быть несколько радикальным в сфере внешней политики.
Ибо в конце концов, если общество хочет закрыть доступ к любой реформе, если оно заранее решило сохранить все как есть и ни в чем не допускать никаких перемен, когда речь заходит о наших расходах, тогда вся моя система рушится, и реализация всех финансовых планов оказывается невозможной; нам не остается ничего, кроме как оставить народ под гнетом налогов и идти со склоненной головой к банкротству, к революции, к дезорганизации и к социальной войне.
Переходя к нашей внешней политике, я начну с двух постулатов, без принятия которых, смею сказать, спасения нет.
1. Развитие грубой силы отнюдь не необходимо, а, напротив, вредно для влияния Франции на другие страны.
2. Развитие грубой силы не необходимо, а вредно для нашей внешней и внутренней безопасности.
Из этих двух положений следует третье, а именно:
Надо разоружиться на суше и на море и сделать это как можно скорее.
Вы, ложные патриоты! Чем вы себя тешите? Однажды вы назвали меня предателем, потому что я требовал свободы. Как вы назовете меня сегодня, когда я требую мира?9
Здесь тоже первой преградой оказывается общественное мнение. Общественность сыта по горло всякими словами и понятиями: национальное величие, могущество, влияние, господство, готовность. Ей вдалбливают, что нация не должна терять своего ранга среди других наций. Поговорив о национальной гордости, начинают говорить о национальном интересе. Народу твердят, что надо демонстрировать признаки силы, чтобы обеспечить успех полезных переговоров, и что надо прогуливать по всем морям французский флаг, чтобы защитить нашу торговлю и быть хозяевами на отдаленных рынках.
Что все это такое? Надутый шар, который лопнет от простого укола булавкой.
Где сегодня наше влияние? В жерлах пушек или на остриях штыков? Нет, оно в идеях, в институциях и в демонстрации их успеха.
Народы воздействуют друг на друга искусством, литературой, философией, публицистикой, торговыми сделками, а особенно – собственным примером. Если же они прибегают к принуждению и угрозам, то я не думаю, что такого рода влияние способно развить принципы, благоприятствующие прогрессу человечества.
Возрождение литературы и искусств в Италии, революция 1688 г. в Англии, Декларация независимости Соединенных Штатов, конечно, содействовали тому благородному взлету, который помог нашим отцам совершить в 89-м году великие дела. Но где во всем этом видна рука грубой силы, где лишь она видна?
Нам говорят: триумф французского оружия в начале нашего века повсюду распространил наши идеи и поставил глубокую печать нашей политики на всей Европе.
Но знаем ли мы, можем ли знать, что было бы при ином развитии событий? Если бы на Францию не напали извне, если бы, доведенная до своего собственного завершения, не соскользнула в поток крови, если бы она не пришла к военному деспотизму, если бы, вместо того чтобы запугивать Европу, обрушиваться на нее и вызывать ее противодействие, Франция показала бы ей возвышенное зрелище того, как великий народ мирно творит свою собственную судьбу, создает разумные и благотворные институции, дает благополучие и счастье своим гражданам, то разве нашелся бы кто-нибудь, кто утверждал бы, что подобный пример не вызвал за нашими рубежами восторга угнетенных и не ослабил ненависть угнетателей? Разве сказал бы кто-нибудь, что при таком ходе вещей триумф демократии в Европе был бы полным, а не таким, каков он есть сегодня? Так пусть подсчитают, сколько было потеряно времени, сколько было утрачено справедливых и правомерных идей, сколько было впустую потрачено богатств, сколько иссякло реальных сил, и все из-за великих войн, которые дорого обошлись демократии; пусть учтут сомнения в ненадежности, которые целую четверть века отравляли народное право и политическую истину!
И потом, почему ушла куда-то из глубин нашего национального сознания беспристрастность, чем и объясняется, что наши попытки навязать ту или иную идею силой ранят в самое сердце наших братьев за рубежом? Мы, самый восприимчивый, да и самый обидчивый народ Европы, мы, которые с полным основанием не потерпели бы интервенции какого-нибудь английского полка, пусть даже этот полк вернул бы на нашу родину статую Свободы и стал бы учить нас социальному совершенству, мы, согласные все и во всей стране, согласные вплоть до эмигрантов в Кобленце, что нам всегда необходимо единение, чтобы отбивать иностранные атаки и не давать чужим армиям вмешиваться в наши, пусть печальные, дела, мы со всеми этими качествами почему-то оказываемся такими, что у нас с губ постоянно слетает раздражающее всех слово «преобладание», и почему-то мы способны показать нашим братьям свободу лишь в виде обнаженной шпаги, приставленной к их груди! Как же мы дошли до жизни такой, что воображаем, будто человеческое сердце не везде одинаково и будто не везде у людей тоже есть гордость и отвращение к любой зависимости?
В конце-то концов, это пресловутое преобладание, чуждое всякой либеральности, к которому мы стремимся с такой слепотой и, по-моему, с такой несправедливостью, где оно, и обладали ли мы им когда-нибудь? Я вижу потуги, но не вижу результатов. Я вижу, что мы уже очень долго содержим огромную армию, огромный флот, которые буквально раздавливают наш народ, разоряют труженика, подталкивают нас к банкротству, грозят нам такими потрясающими бедствиями, которые мы даже не решаемся вообразить себе. Все это я вижу, но нигде не вижу преобладания, и если мы играем какую-то роль в судьбах Европы, то не благодаря грубой силе, а вопреки ей. Гордые нашим мнимым военным превосходством, мы рассорились с Соединенными Штатами, и нам пришлось уступить им. Мы устроили распрю по поводу Египта и тоже уступили. Мы из года в год давали множество обещаний Польше, Италии, но никто не отнесся к ним серьезно. Почему? Потому что развертывание наших сил вызвало такое же развертывание сил во всей Европе, и мы не могли сомневаться, что малейшая вспышка по малейшему поводу вызовет всеобщую войну, и лишь гуманные чувства и осторожность дальновидных государственных деятелей позволяли и позволяют не допустить такой перспективы.
Примечательно и поучительно, что есть такой народ, который очень далеко завел такую же претенциозную и беспокоившую всех политику, и мы реагировали на эту политику – быть может, ввиду жестокой необходимости. Но этот народ, а я говорю об английском народе, испытал такое же разочарование, что и мы. Этот народ претендовал быть единственным регулятором европейского равновесия, это равновесие нарушать потом десяток раз, но он и пальцем не пошевельнул. Он решил быть монополистом в колониях, а мы захватили Алжир и Маркизские острова, но и тут пальцем не пошевельнул. Правда, он, видимо, относился к нашим действиям с подозрительностью и явным неодобрением и охотно привязал бы пару пушечных ядер к нашим прытким ногам. Он считал себя собственником Орегона и хозяином Техаса, а Соединенные Штаты забрали себе Орегон, Техас, да еще прихватили часть Мексики, но он и пальцем не пошевельнул. Все это доказывает нам, что если правители пропитаны духом войны, то управляемые пропитаны духом мира. Что до меня, то я не понимаю, зачем мы устроили демократическую революцию, если не ради того, чтобы возобладал дух демократии, той самой трудовой демократии, которая согласна оплачивать расходы на военный аппарат. Однако получается так, что военный аппарат разоряет демократию, подвергает ее опасностям и просто угнетает ее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.